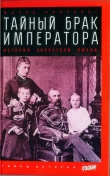Текст книги "Выстрел Собянской княжны"
Автор книги: Сергей Лавров
Жанр:
Криминальные детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 14 страниц)
IV
Они целовались долго, мучительно, причиняя боль друг другу, катаясь в тесных объятиях на жестких нарах, теряя дыхание до полуобморочного состояния и опасаясь громко стонать, чтобы не привлечь внимания дежурных городовых. Чтобы полагали его сидящим за писанием протоколов допросов, Костя оставил на столе в кабинете Станевича новую горящую свечу, а дверь запер. Теперь всякий из городовых, проходящий по двору в нужник, мог своими глазами видеть, что молодой помощник станового пристава корпит над бумагами… ну, а надзиратель Матвеич, добрая душа, удовлетворился рублем.
– Что, что же делать мне, коли я так себя чувствую?! – быстро и горячо шептала ему в ухо Сашенька. – Коли я княжной себя вижу так ясно, как тебе и не передать! Может, матушка моя согрешила с кем из родовитой фамилии, а только не могу я примириться с тем, кто я есть! Не согласна я и не буду согласна терпеть никогда! Ну, скажи, скажи – чем я не княжна?!!
Она откинулась, горделиво изогнула шею, подняла голову, повелительно раздувая крупные, красивые, чрезвычайно чувственные ноздри, сверкая глазами, точно бриллиантами, даже в темноте.
– Мне все равно! – ответил Костя, снова жадно припадая к ней сухими, растертыми в кровь губами.
– А раз сказавшись тебе княжной, как же могла я оборотить все дело?! Я же потерять тебя боялась! Как я боялась потерять тебя, милый!.. Ведь узнай ты, что я не княжна, а женщина из низкого сословия – ведь отворотился бы от меня презрением! Бежал бы! Что – неужто бы не бежал? Неужто и впрямь тебе неважно, кто я?! А тогда отчего ж тебе не принять меня за княжну?! Ведь тебе это все равно?!
– Мне все равно, кто ты… – шептал молодой Кричевский, точно в бреду. – Я живу тобой… дышу одной тобой… ты снишься мне каждую ночь… я жить без тебя не могу! Будь княжной, коли тебе хочется, мне до того нет никакого дела! Кто я такой, чтобы осуждать тебя… я сам грешен и гадок…
– Ну, вот видишь? – смеялась Сашенька, чувственно касаясь его припухшими губами. – Все и разрешилось! И какое нам дело до других?! Другие пусть себе думают, как им нравится, а мы будем думать, как нам нравится… свои правила устанавливать будем! Это же все только пустые слова… только смешные правила, другими людьми для нас установленные!
– Наплевать на других! – твердил Кричевский, зажмурясь, жадно вдыхая запах ее нежной кожи, истово веруя своим словам. – Мы сами все можем, вдвоем мы все можем!
– Ты верь, верь мне! – ласкалась она к нему страстно, льня и прижимаясь всем телом. – Я знаю, что говорю! Я жизнь знаю: я ее всякой повидала! Вера моя меня спасла! Если б не вера и не мечты мои об лучшем, я бы, может, лежала бы уже давно с камнем на шее в Неве… Или в Волге… Или еще где! Что твой пристав! Он не знает жизни. Надо жизнь не принимать, а делать такой, какую твоя душа взыскует, какая видится тебе! Разве я достойна такой жизни, какой живу?!
– Ты достойна самой прекрасной жизни! – рвался к ней сквозь преграды платья Кричевский. – Ты достойна восхищения и обожания! Никто не смеет осуждать тебя!
– Ну, вот видишь! Я тоже так считаю! Почему же они должны меня числить по каким-то там своим записям и отводить мне место убогое, грязное, несчастное, коли я достойна лучшего! Где тут закон и справедливость?! Я и в купель крещенскую вошла, как княжна Омар-бек… не было никакой Шурки Рыбаковской и в помине… Если уж назвалась я магометанкой, надобно мне было идти до конца! Всегда надобно идти до конца! Что же мне надобно было – все разрушить?! За что меня осуждать?!
– Не за что… не за что… не за что… – как безумный, шептал Костя в темноте, почти овладевая ею.
– Сюда, сюда целуй!.. Еще! Еще!… И ведь это ты предложил мне креститься! Твоя ведь затея, граф! Стало быть, тебя и осуждать нужно! Согласен?!
– Согласен… Я на все согласен, лишь бы тебе хорошо было… Хорошо тебе сейчас?
– Да! Да! Еще! Нет, погоди, не спеши так, давай еще поговорим… Я здесь сижу уже неделю одна, как перст, мне поговорить охота! Знаешь, как смешно мне было, когда ты меня к крещению склонял! Смешно и страшно! Я ведь не хотела сама, это ты меня уговорил…
– Скажи, а Лейхфельд знал, кто ты на самом деле?
– Знал, знал… Он все знал про меня. Он не любил моих игр. Не нравилось ему, когда я называла себя княжной. А я ему назло называла! Я не убивала его нарочно, клянусь… Тебе-то мне врать незачем! Веришь ты в то, что это был случайный выстрел?
– Верю, верю… Я во всем тебе верю…
– Это правильно… Ты верь… Видишь, я кругом оправдалась перед тобой. Я ни в чем не виновата. За что же им судить меня? По какому праву?!
– Не за что!
– Я ведь бескорыстная, мне ничего от тебя не нужно, только хочу, чтобы меня любили такой, какая я есть, а не придумывали, какою я должна быть!
– Я не буду… Не стану придумывать… Ты самая прекрасная, самая удивительная, ты настоящая волшебница…
– Была бы я волшебница – не сидела бы под замком! Оборотилась бы птицею и улетела бы!..
– Ты и улетишь! Я тебе побег устрою! Завтра же!
– Как же ты это сделаешь, милый мой мальчик?
– Сделаю! Еще не знаю, как, но сделаю непременно!
– Они тебя посадят под замок, в клетку, как меня!
– Наплевать! Не посадят!
– Я не хочу твоей погибели… Я ведь не роковая женщина… Никуда я отсюда не побегу без тебя…
– А со мною – побежишь?!
– С тобою побегу хоть на край света! Я люблю тебя, я, кажется, впервые по-настоящему люблю…
– Правда, любишь?
– Правда, правда…
– Тогда докажи!
– Ах ты, каков хитрец! Чего запросил, бесстыдник! Нет уж, сударь, больно здесь место неподходящее… Я, конечно, обожаю безумства, но не в такой степени, как вы!
– Я люблю тебя! – бросился он снова к ней в объятия, задохнулся в ее поцелуях.
Далеко, за стенами, на улице, а затем и во дворе послышался шум, крики, приближающиеся звуки пьяной гульбы и драки.
– Я-те дам «благородный человек»!.. Я-те покажу кусаться! – грозно рычал кто-то из городовых, сопровождая слова свои глухими ударами. – Гришка, имай его!.. Волоком, волоком, раз идти не желает! А вы прочь пошли, коли под замок не хотите угодить! Прочь, я сказал!
В коридоре застенка скрипнула отворяемая решетка, зашаркали поспешные шаги. В дверь постучали, и встревоженный голос старого надзирателя Матвеича громко зашептал:
– Ваше благородие! Константин Афанасьевич! Наряд дебоширов из кабака доставил… В холодную сажать поведут! Не след вам тут оставаться: не ровен час, заглянет кто в глазок! Ваше благородие, вы слышите?! Ступайте уже домой! Пора вам! Мне ведь тоже прилечь надобно, а я с вами глаз сомкнуть не могу, все опасаюсь…
– Слышу!.. Иду! – недовольно отозвался Костя, поспешно вставая и приводя одежду в порядок. – Не скучай, милая! Завтра в ночь украду тебя! Тс-с!..
Он приложил палец к ее губам, предупреждая расспросы, потом еще раз приник к ним долгим, ненасытным поцелуем, коснулся пальцами гладких упругих волос, после чего почти бегом вышел из камеры, опасаясь задержаться хоть на миг, чтобы не остаться до утра. Никак не следовало теперь ему вызывать подозрения.
В коридоре уже шумели, волокли пьяных, и Костя, будто надзирая происходящее, прошелся туда-сюда, подсказал хмурым, разгоряченным борьбой городовым обыскать задержанных на предмет огня и опасных для жизни предметов, и попутно исподтишка осмотрел в дальнем конце коридора застенка лаз в потолке, ведущий на чердак.
Пройдя тихо чердаком в другое крыло здания, легко можно было спуститься по наружной приставной лестнице на задний двор, к конюшне и каретному сараю, а там, у забора, лежала известная Кричевскому высокая поленница запасенных дров, взойдя на которую ничего уже не стоило соскочить на ту сторону, в глухой темный тупик, где можно поставить никем незамеченную упряжку… И ищи ветра в поле!
Счастливо улыбаясь, молодой помощник станового пристава прошелся по двору, приставил и осмотрел валявшуюся под стеной лестницу, опробовав крепость ступенек, проверил и пологую поленницу, легко взбежав по ней на самый верх и обратно во двор. Оставив на утро осмотр чердака, Костя, чрезвычайно довольный, гордясь своею сообразительностью, затушил обгоревшую под корень спасительную свечу в кабинете станового пристава и отправился домой.
Избегая встречи с матушкой, все эти дни не находившей себе места от сердечного томления и беспокойства, простаивавшей ночи напролет перед домашней иконой, он, подобно ночному вору, приподнял лезвием перочинного ножичка щеколду кухонной двери и проник в родной дом с черного хода. Стащив сапоги, в одних носках, беззвучно ступая по холодным половицам, прошел он к себе и тихо лег ничком на постель, стараясь не скрипнуть сеткой, не раздеваясь, сняв только тяжелую шинель. Сон не шел к нему, щеки горели, но голова была ясная. Вывести любимую из застенка было еще только полдела, даже четверть дела. Много труднее было определить, куда податься им после. Нужны были лошади, паспорта – без них далее Обуховской заставы не уедешь – нужны были деньги, много денег.
Хорошо зная, как будет действовать городская полиция, задумался он также над тем, как изменить Сашенькину прекрасную внешность, поскольку описания ее разосланы будут повсюду. Пришло ему в голову остричь ее и представить мальчиком, своим младшим братом, и он заулыбался в темноте, вообразив ее в своем гимназическом мундирчике, с ремнем и медными пуговицами. Ей по нраву должны прийтись такие перевоплощения.
Поразмыслив обо всем как следует, он тихо встал, крадучись, прошел в гостиную и, поднявшись на цыпочки, наверху, на шкапе в пыльном углу нащупал пальцами плоский ключик от комода, где отец с матерью хранили сбережения на черный день и на его возможное обучение. Достав и развернув в темноте тряпицу с вышитым на ней Николаем Угодником, защищающим дом от воров, он разделил было тощую пачку наугад и половину положил на прежнее место, но потом, ожесточась сердцем, взял все, вместе с тряпицею. Забравшись в шкатулку из рыбьей кости, в которой матушка хранила золотые украшения, доставшиеся ей по наследству от бабушки и подаренные отцом, особо любимые, Константин выгреб все побрякушки и завернул в ту же тряпицу, к деньгам.
Более в доме больничного фельдшера Афанасия Кричевского взять было нечего, и его сын хорошо об это знал. «Я все верну потом…» – подумал было он и тотчас скривился от лживости своей мысли. Среди украшений было одно колечко, то самое, с голубым камешком, которое больше всего дорого было матушке по каким-то воспоминаниям, и Костя, наощупь найдя его среди прочих, подержал на ладони и бережно положил обратно в шкатулку.
Сдержав внезапно подступившие к горлу рыдания, взял он еще из комода ножницы, прошел назад в свою комнату и поспешно затолкал похищенное в потайной карман полицейской шинели на груди, после чего снова прилег. Сердце его билось ровно, только очень сильно, так, что в уши отдавало и мешало заснуть…
V
Костя прибежал в полицейскую часть ни свет, ни заря, чтобы не встречаться поутру с домашними, в глаза которых не имел он силы смотреть, а также для того, чтобы без помех забраться на чердак и подготовить лаз. С превеликим разочарованием увидал он во дворе знакомые дрожки и гнедую, весело мотающую мордой с привязанной к ней торбой овса. Господин советник юстиции, товарищ прокурора Андрей Львович Морокин уже сидел в кабинете станового пристава, как в своем собственном. Он преспокойно попивал чаек, поданный дежурным, поглядывая ехидно на застылую лужицу стеарина на листе бумаги, пролистывая плотную картонную нумерную папку с прошитыми листами, бережно и уважительно поглаживая свою бритую голову.
– Похвально, похвально ваше рвение, молодой человек! – сказал он, когда Костя вошел, пряча красные от бессонницы глаза. – Судя по свечам, вы ушли отсюда не ранее трех ночи! И в девять уж снова на службе! Неужто переписывание начисто протоколов есть такое увлекательное занятие?!
– Леопольд Евграфович велели! – удачно соврал Кричевский, едва ворочая шершавым опухшим языком. – Не в духе вчера были-с!
– О, да! Охотно верю-с! – передразнил его Морокин голосом уже почти чистым и звучным, как прежде – видно, горло его пошло на поправку. – Отвыкай ты, Константин, от этих «еров-с»! А с губами у тебя что? Тоже Леопольд Евграфович ручкой приложился?!
Губы у Кости запеклись и представляли одну сплошную корку, местами треснувшую до крови.
– Раны любви-с! – продолжал ехидничать Морокин, и Костя отвернулся от него. – Хорошо, прости, не буду. Вас, я вижу, молодой человек, ничем не убедишь, пока сами шишек не набьете! Голову бы вот только не разбили при этом… На своих ошибках учатся только дураки, Костя! Умные люди должны учиться на чужих ошибках! Вот, изволь! Раскопал в архивах дело Феофана Рыбаковского! Пятьдесят седьмой год, не бог весть какая старина. Я тогда вовсю служил уже по уголовной части. Личность, я тебе скажу, премерзопакостная! Александра Феофановна имеет все основания стыдиться своего родителя! Растрата казенных денег, про которую она рассказывала своим женихам, тоже имела место быть, да это все цветочки: сумма была небольшая и он ее в казну вернул. А под суд загремел наш Феофан по вовсе даже гадким причинам: избил он жену свою, матушку Александры, брюхатую на шестом месяце, да так избил, что у нее тут же случился выкидыш… И все это на глазах двенадцатилетней девочки! Вот за что, я тебе скажу, я в каторгу отправляю с удовольствием! С наслаждением даже!
Последние слова проговорил улыбающийся Андрей Львович сквозь зубы, блестя узкими, ставшими вдруг отчетливо татарскими, глазами очень даже свирепо. Дрожащими руками принял Константин Кричевский папку, полную горя, листал, пытался разбирать неровные строчки писарей, машинально отмечая ошибки и помарки, и крупная слеза невыразимой жалости вдруг упала из-под век его прямо на старые рыжие чернила.
– Эй-эй! Не порть мне документ! – окликнул его Морокин, голос которого доносился до Костиных ушей глухо, как через вату. – Под расписку взят! Там еще много чего есть любопытного… Есть там показания свидетелей, что господин титулярный советник Рыбаковский сожительствовал или пытался сожительствовать со своими малолетними дочерьми, особенно со старшей, с Сашенькой! Нет, ты читай, читай! Шестнадцатый, кажется, лист… Чтоб потом мне не смотрел на них на этапе, как на страдальцев-херувимов! Читай, пусть проймет тебя! А Шипунов мне рассказал, как ее в Шемахе в четырнадцать лет замуж насильно отдали за какого-то местного мурзу! Да какое там замуж! В наложницы, в услужение, в рабство! Потому что кормить трех внучек было бабушке накладно! Четыре года она в рабынях пробыла! А еще…
Но Костя уже не мог слушать далее. Закричав звонко «хватит!», он швырнул проклятую папку о стену, схватился руками за голову, затыкая уши, и отчаянно зарыдал, ткнувшись головою в плечо подскочившего Андрея Львовича. Советник юстиции, неловко охватив его за спину, осторожно поглаживал по трясущейся в рыданиях голове, делал знаки пойти прочь набежавшим на крики в дверь полицейским и грубовато приговаривал, смущаясь трогательной сцены:
– Ну, будет тебе, Костя, будет тебе… Экий ты чувствительный! Перестарался я, перегнул палку… На вот, чайку хлебни!.. Экий ты, ребенок еще вовсе!
Прошло некоторое время. Константин Кричевский успокоился, стуча зубами о край чашки, хлебнул остывшего чаю, сел, утирая носовым платком красное лицо, отворотился в угол, надулся, стыдясь истерики. Морокин задумчиво вышагивал по кабинету, заложив руки за спину, как, верно, привык ходить на допросах.
– Тебе, Костя, не повезло, что ты ее полюбил, – безжалостно и твердо сказал советник юстиции, заметив, что юный помощник его успокоился и может слушать. – Страшно не повезло! С первой любовью редко чего бывает путевое… Как бы ты меня ни ненавидел за эти слова, а я тебе скажу одно: все надобно забыть! Выжечь из сердца каленым железом! Она человек порченый, непонятный, темный… Я ее еще на психиатрическую экспертизу отправлю, к профессору Антону Яковлевичу Красовскому. Слыхал о таком? Восходящее светило русской психиатрии! Сходи на его публичные лекции, очень рекомендую. Сам мужчина, все понимаю: красавица, много страдала, трогательно… Но тебе с ней не будет жизни, одна погибель!
– Ее будут судить? – спросил Костя, не поворачивая головы.
– Будут, а как же! Она же человека убила! Вдумайся, Костя, в эти слова! И я, как товарищ прокурора, буду выступать на суде гражданским обвинителем! И сразу тебе скажу: никуда она у меня не денется! Не вывернется! Получит все, что ей по закону причитается! Не больше – но и не меньше! У покойного Лейхфельда тоже, поди, мать есть…
– Тогда пусть… – твердо сказал Костя.
– Что – пусть? – не понял Морокин, остановившись над ним в своих хождениях.
– Пусть погибель… – пояснил Кричевский, осторожно трогая рукой оттопыренный потайной карман шинели, куда спрятал он похищенное у родителей.
– А-а… ну-ну! Вольному воля, как говорится в народе!.. – и Андрей Львович снова заходил за спиною Кости подобно маятнику или часовому.
Так продолжалось довольно долго. Морокин уже принялся поглядывать на свои большие карманные серебряные часы луковицей, будто поджидая чего-то, как вдруг за окном на улице застучали копыта, заскрипели колеса подъехавшего тяжелого экипажа.
– Ну, наконец-то! – воскликнул с облегчением советник юстиции. – Я уж думал – не приедут, а у меня еще дел по горло! Итак, молодой человек, постановлением городской прокуратуры я у вас вашу прекрасную узницу забираю! Вот бумага, извольте ознакомиться! Содержаться она впредь, до окончания судебного разбирательства и вынесения ей справедливого приговора, будет в Петербургском тюремном замке, как это и предусмотрено уложением о проведении следствия по особо тяжким преступлениям… Извольте, пока вы тут старший, распорядиться к выдаче!
– Как о выдаче? – очнулся от своего забытья Костя. – Куда забираете?!
Он подскочил к окну и выглянул на улицу. Совсем близко, у крыльца, стояла большая черная тюремная карета «черный ворон», с толстыми коваными решетками на маленьких окошках, запряженная четверкой разномастных лошадей.
– Как же так, Андрей Львович? – в ужасе оборотился Костя к суровому неулыбчивому Морокину, являвшему в тот миг олицетворение неподкупного правосудия. – В Кресты?!
– Совершенно точно, друг мой, – кивнул товарищ прокурора без малейшей сентиментальности. – В Кресты.
Он похлопал Костю по плечу, не изменяя выражения гладко бритого лица.
– Полагаю, мы друг друга поняли без слов. Некоторые вещи мне по должности просто нельзя произносить. Ты спас мне жизнь, и я считаю своим долгом спасти твою, нравится тебе это или нет. Какое-то время ты будешь меня ненавидеть, но когда это пройдет, милости прошу в гости! Пойду, распишусь в книге выдачи подследственных…
Он вышел, и старый надзиратель Матвеич заюлил вокруг, выслуживаясь, преданно заглядывая советнику юстиции в глаза. Константин Кричевский все понял.
Он сел в кабинете станового пристава у окна, не имея силы выйти на крыльцо и встретиться глазами с Сашенькой. Он видел сквозь оттаявшее грязное стекло, как вывели ее, растерянную, в наспех наброшенном салопчике, с узелком, как вежливо, но настойчиво подсаживал ее в черную карету Андрей Львович. Она все оглядывалась в поисках Кричевского, все пыталась задержаться на крыльце под разными предлогами, поправляя что-то в ботинке, выглядывая, не идет ли он по улице. Наконец, когда уже тянуть время ее беспомощными женскими уловками стало невозможным, поднялась на подножку, оглянулась в последний раз…
Тяжелая дверь, которую нельзя было отпереть изнутри, захлопнулась. Конвойные с ружьями и примкнутыми штыками сели в свое отделение сзади, кучер, тоже солдат, щелкнул бичом, лошади вздохнули, налегли и потащили тяжелую повозку вдоль по Обуховской. Все было кончено.
Оставаясь в горестном оцепенении, чувствуя себя пустым и легким, как те красные резиновые воздушные шары по пять рублей, что видел он на Невском, Костя продолжал сидеть у окна. Жить вдруг стало незачем. Он дожидался, пока уедет Морокин. Хитрый бритоголовый господин все не уезжал, несмотря на свои «дела по горло», а через некоторое время снова зашел в комнату, сильной рукой взял Кричевского за плечо.
– Возникла у меня тут мысль, милый друг, что не следует оставлять тебя одного, а то как бы не достигнуть мне обратного результата в моих хлопотах… Вставайте, поехали, я отвезу вас к вашим родителям. И не извольте ерепениться, сударь! Напоминаю вам, что я вас старше положением и чином, и вы, пока на службе, обязаны мне повиноваться беспрекословно!
Он отвез впавшего в безразличие ко всему Кричевского домой, ненадолго задержался, переговорил с родителями и уехал, не прощаясь.
Сбросив шинель и сапоги, Константин Кричевский лежал на спине под своей домашней иконой и бездумно смотрел в низкий дощатый потолок, руками матушки расписанный некогда для него жар-птицами. В доме стояла гробовая тишина: все ходили тихо и переговаривались шепотом. Наконец, когда ходики в гостиной простучали шесть, в дверь, пригнувшись, вошел хмурый и глубоко опечаленный Афанасий Петрович Кричевский, в домашних войлочных тапочках, со старыми очками на морщинистом лбу. Тотчас, как всегда бывало с его появлением, запахло в комнате лекарствами. Костя открыл глаза.
– Может, сейчас об этом и не время говорить, сынок, – начал отец, осторожно присаживаясь на край скрипнувшей кровати, сцепляя руки в следах химических ожогов и пятнах от йода на худом колене, – но мы с матушкою сегодня недосчитались кое-чего в нашем домашнем хозяйстве… Не бог весть что, пустяки, и все же… Ты не брал?
Вздохнув, Константин, не вставая, потянулся за близкой шинелью, молча достал из внутреннего кармана вышитую тряпицу с чудотворцем и подал отцу.
– Здесь все, – сказал он. – Прости…
– Это ничего!.. – обрадованно сказал Кричевский-старший дрожащим голосом, убирая знакомую тряпицу в сторону, даже не развернув. – Это ничего… Ты у меня всегда был хорошим мальчиком, отзывчивым… Спасибо, что колечко матушкино любимое оставил… она очень тронута!.. Это ничего… Все теперь на поправку пойдет! Мы бы и не спохватились, нам бы и в голову не пришло такое. Это господин Морокин нам присоветовал… Никто не знает, ты не беспокойся, никто не знает… Мать, иди сюда, иди, чего ты там за дверью прячешься?.. Нашлось все… Это я сам перепрятал, да сам и забыл, пустая голова!
Тихими шагами поспешно вошла матушка, села рядом, заплакала, роняя теплые слезы прямо на руки сына, касаясь его с родительской нежностью. Они долго еще сидели у него в ногах, обнявшись, точно у постели больного, а Костя лежал недвижно и смотрел на них, трогательных, седеньких, неожиданно старых…