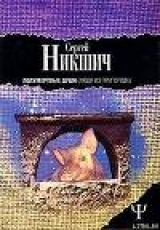
Текст книги "Люди из пригорода"
Автор книги: Сергей Никшич
Жанры:
Юмористическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 16 страниц)
Бедный студент
Он был студентом и, разумеется, бедным, но зато он был еще молод и на его обветренных, бледных щеках еще не появилась неотвратимая арабская вязь морщин, свидетельствующих о том, что бурные порывы молодости постепенно должны раствориться в жизненном опыте, а горячее сердце – охладеть, как успокоившийся вулкан. Нет, до этого герою нашего повествования, Алексею, было еще далеко. Да он и сам, пожалуй, не задумывался о том, что его ожидает после того, как за ним захлопнутся массивные двери альма-матер – Университета, где он учился на факультете журналистики. Да и помощи ему ждать было неоткуда, поскольку отца своего он никогда и в глаза не видывал, а маменька, души в нем не чаявшая, кое-как перебивалась на мизерную пенсию и вынуждена была продать квартиру в Липках и перебраться в Горенку, чтобы выращивать на огороде всякую овощ, а деньги, вырученные от продажи квартиры, тратить исключительно на образование сына. Впрочем, средства эти таяли, как сугробы снега на мартовском солнце, и Алексей целыми днями мотался по редакциям, чтобы пристраивать по дешевке, не торгуясь, свои статейки и заметки для того, чтобы помогать маменьке прокормиться и заработать хоть немного денег себе на книги да одежду, которая от непрерывных поездок в общественном транспорте изнашивалась так быстро, словно была сделана из туалетной бумаги, а про туфли и ботинки и говорить не приходилось – они лопались и продырявливались в самый неподходящий момент, как то, под проливным дождем или на трамвайной остановке, когда до спасительного прибежища – уютной и пахнущей едой хаты в Горенке – было еще так далеко, как до Луны.
В тот вечер, когда он встретил Аленку, он зашел на несколько минут в старинный парк, напротив Желтого Корпуса Университета, где такие же, как он, студенты-вечерники собирались после лекций, чтобы выкурить сигарету и поболтать немного перед тем, как разбежаться по домам. Вечер давно уже опустился фиолетовым, расшитым яркими звездами колпаком на изнемогший от преждевременной майской жары город, и люди в предвкушении ночной прохлады не спеша прогуливались по дорожкам сада. Удивительно, но в тот вечер никто из его однокурсников в сад не зашел, и Алеша одиноко плюхнулся на скамейку, вытащил из кармана пачку дешевых сигарет, но курить не стал, потому что на другой конец скамейки вдруг уселась изумительной красоты девушка, на которую он засматривался в тусклых университетских коридорах. Он знал, впрочем, что она учится на романо-германском, на котором ослепительных красавиц было, как мотыльков по весне, но на него эти недоступные, как иномарка, создания обращали ровно столько внимания, сколько, скажем, на фонарный столб. Скуластая и белобрысая его физиономия и потрепанная одежонка, видать, не располагали их к беседе об умном и уж никак не выдавали в нем будущего знаменитого писателя и литературного пророка, которым он иногда, радуясь неожиданным своим успехам, себя мнил. Лицо у девушки было белоснежное, как февральская луна, обрамленная каштановыми волосами, а глаза, глаза ее напоминали более всего изумрудные озера, окаймленные коричневым тростником ресниц, чуть раскосые, как у восточных прелестниц, и, казалось, созданные исключительно для того, чтобы метать в юношей смертельно опасные для них Купидоновы стрелы.
Она лукаво взглянула на Алешу, прекрасно зная, какое впечатление на него производит, и бархатистым, низким и в то же время невероятно нежным голосом проворковала: «Вы не угостите меня сигаретой, молодой человек, а то мои закончились, а до киоска мне не дойти – устала ужасно». Само собой разумеется, Алеша вскочил со скамейки, как ужаленный, бросился угощать ее сигаретой, вытащил зажигалку, и тут руки их на мгновение соприкоснулись, и как это ни странно, вдруг оказалось, что разнять они их не могут – Алена попыталась было оторвать свою ладонь от руки Алеши, но какая-то неведомая сила сковала их и соединила, настоятельно повелевая заглядывать в глаза друг друга и при этом испытывать неописуемый восторг и обожание, и они не в состоянии были ее ослушаться, ибо сила эта была не что иное, как неуловимая и непостижимая даже богам, а не то что простым смертным – Любовь. И скамейка в ночном саду превратилась в рай человеческий, а они – в праотцев наших – Адама и Еву, постигающих мир и самих себя. Мы не будем утомлять взыскательного читателя всем тем малопонятным для посторонних любовным бредом, которым они только и изъяснялись на протяжении этой бесконечной и странной ночи, как уехали они вместе на последнем трамвае в далекую Горенку, по которой пробирались, то и дело обнимаясь и любуясь звездами, к Алешиной вросшей в землю хате.
Надо ли и говорить, что, проснувшись поутру, они почувствовали себя еще счастливее, а о маменьке Алеши, Варваре Федоровне, и говорить не приходится. Радуясь за сына, она носилась по горнице, как молодая, и усадила молодых завтракать в красном углу, под иконами, а сама ушла, чтобы не быть помехой, во двор, чтобы в такт своим мыслям заняться по хозяйству.
А Алена утром показалась нашему студенту еще красивее, чем в полутемных университетских коридорах, и он просто налюбоваться ею не мог и все время спрашивал себя – уж не сон ли все это? Не растает ли его любимая, как причудливое облако в далеком небе, не оставит ли его наедине с его талантом (в котором он не сомневался) и с его ставшим уже тяготить одиночеством?
А Аленка во время завтрака говорила ему: «Я давно видела, что ты на меня засматриваешься, чудной ты такой… Что ж ты раньше ко мне не подошел, а? Ну ладно, я на тебя не в обиде…». И она гладила его волосы своими чудными белыми руками и заставляла читать стихи. Алешины стихи ей понравились не на шутку, и хвалила она его отнюдь не из вежливости.
– Ты прямо наш местный Бродский, вот уж не ожидала, а я уже и отчаялась подружиться с поэтом. Рифмоплетов у нас целый университет, но такое пишут, что читать нет просто никакой возможности… А ты, ты – талантливый, дурачинка, дай-ка я тебя за это еще раз поцелую…
И так прошел целый день, но вечером Алена попросила проводить ее, потому что ей и так предстояло дома выслушать от отчима неизвестно что в ответ на свой рассказ о том, что переночевала у подруги…
И они пошли вместе по селу, мимо дома Явдохи, которая по своему обыкновению сидела на скамейке на улице и загадочно, как египетский сфинкс, улыбалась. Увидев Алену она нахмурилась и жалостливо посмотрела на ее спутника. Встретился им и Тоскливец, который бросил на Алену такой жадный взгляд, что он обжег ей лицо, и она испуганно спряталась за Алексеем, который показал Тоскливцу кулак, и тот, как всегда кудахтая себе под нос какую-то гадость, заспешил прочь.
А на следующий день Алексей проснулся от того, что по его комнате кто-то ходил. Он открыл глаза, и ему показалось, что он бредит – в цветастом летнем платье по комнате порхала улыбчивая Алена и вытирала видавшей виды тряпкой пыль с его книг. Весь июнь и июль они почти не покидали Горенку – Алена читала, Алексей писал роман (которому суждено было через два года стать бестселлером), после обеда они ходили купаться на озеро, а вечером снова садились за книги. Его маменька не могла на них нарадоваться, и ее воображение уже рисовало ей многочисленных аистов с улыбающимися розовощекими младенцами.
Как-то, это был уже самый конец июля, Алексей проснулся от каких-то странных звуков – Алена сидела за столом и рвала какой-то лист на мелкие-мелкие клочки. По щекам у нее текли слезы.
– Аленочка, что с тобой? – вскричал испуганный Алеша.
Но Алена ничего не ответила и только взглянула на него исподлобья, как затравленный зверек, схватила свою сумочку и прожогом бросилась во двор. Когда Алеша кое-как впопыхах натянул на себя одежду и выскочил за ней, ее уже и следа не было… Не стал Алексей ее догонять, сдержал себя, хотя сердце его стучало, как зашедшийся в музыкальном экстазе барабан… А клочки бумаги, как снежинки, усеяли пол комнаты. Он попытался было их сложить, но смог прочитать только первую строчку: «Милый Алеша!». А дальше клочки были настолько мелкие, что письмо, которое хоть и ему было адресовано, прочитать было невозможно. Роман у Алексея как-то сразу застопорился, и чтобы прогнать тоску, он взялся за домашнее хозяйство – побелил комнаты, стал помогать матери по огороду и выбросил со двора всякую гадость. Несколько раз ходил на почту Алене звонить. И всякий раз безуспешно – то трубку никто не снимал, то ее снимал ревновавший Алену ко всему, что движется, отчим.
Попытки Алексея встретить Алену возле ее дома ни к чему не привели – Рейтарская улица словно вымерла от летней жары, окно в Аленину комнату было неизменно закрыто, а единственно, чего добился наш студент, так это внимания местного милиционера, который на всякий случай переписал его паспортные данные и посоветовал «без дела не шататься». Вероятно, бдительный страж порядка заподозрил, что Алексей собирается что-то украсть.
Встречаться больше с милиционером у Алексея никакого желания не было, и он вернулся к своим обычным занятиям. Роман снова стал понемногу продвигаться, хотя в нем появилось больше трагических ноток (не это ли впоследствии стало залогом его успеха?!), хотя, если совсем уж откровенно, Алексей не наложил на себя руки только из-за жалости к матери – смысл жизни был для него совершенно потерян. И дело было вовсе не в том, что Алена была так хороша" собой – мало ли у кого из горенковских девчат или киевлянок такая же белоснежная кожа и роскошные каштановые волосы… Нет, совершенно не в том было дело… Просто Алена как-то удивительно умела понимать его, словно души их были настроены на одну и ту же частоту, и Алешины мало кому понятные шутки неизменно вызывали у нее взрывы доброжелательного хохота, тогда она особенно ластилась к нему, и ласкала его, и так смотрела на его худое, белобрысое и ничем не примечательное лицо, словно перед ней был не бедный студент, а, по крайней мере, Сильвестр Сталлоне.
А тем временем в воздухе появилась осенняя свежесть, неотвратимо надвигался сентябрь, предвещавший начало занятий, а это означало, что составленное чужими руками расписание рано или поздно вынесет их навстречу друг другу… Алексей в глубине души надеялся, что тогда все сразу же прояснится и она снова не сможет оторвать от него руку, и опять будет жить у него, и роман он будет писать тогда еще быстрее, и заживут они мирно и счастливо…
И вот наступил роскошный золотолистый сентябрь, и Алексей, как и положено, отправился на свой родной четвертый уже курс. Первый день занятий ушел, как вода в песок, – преподавателей никто не слушал, потому что всем хотелось поделиться новостями о том, кто как провел лето. К своему ужасу, Алексей вдруг осознал, что большинство его однокашников «отметилось» в Испании или на греческих островах, осматривали в Италии Колизей, а кое-кто добрался даже до какой-то Французской Гайаны или чего-то еще в это роде. «Ну, правильно, – думал он, – а я надеялся, что ей будет интересно со мной в Горенке, вот наивный!».
Он попробовал было опять позвонить Алене, но трубку, как всегда, снимал отчим, прогулки по Рейтарской снова ни к чему не привели, да и времени у Алексея на них почти не было – с наступлением осени редакции вдруг завалили его заказами и он писал, почти не переставая, и даже купил себе подержанный компьютер (в издательствах рукописи уже не принимали). Жизнь его шла вперед по наезженным рельсам, но как-то механически, и Алексей сам себе напоминал робота или человека, из которого злой волшебник вынул душу – тело двигалось, но как-то само по себе, а интереса к жизни у него уже не было.
И все-таки их встреча наконец произошла. Не так скоро, как Алексею того хотелось, ведь уже и холодный осенний дождь норовил несколько раз промочить насквозь его худую одежонку, и парк, что напротив Университета, стоял уже совсем голый – листья давно облетели и черные стволы продрогших под порывами северного ветра деревьев, казалось, были густо намазаны черным гуталином, а на них заседало множество таких же черных ворон, каркавших почти собачьими голосами. Одним словом, природа готовилась к зиме, а Алена все ему не встречалась. Но как-то, совсем неожиданно, как падающая с неба звезда, она вдруг появилась в Университетском коридоре. И он, забыв обо всем на свете, уже было бросился к ней навстречу, чтобы взять ее за руку, поздороваться, заглянуть в глаза, но наткнулся на такой стальной и колючий взгляд ее, что так прямо и застыл на месте, словно от горя превратился в камень, и какая-то девушка даже наткнулась на него, как на неодушевленное препятствие, и от удивления испуганно вскрикнула. Впрочем, она тут же узнала Алешу – лицо его было ей знакомо, и она – вот уж эти женщины! – обо всем сразу догадалась.
– Да не стой ты так! – посоветовала она ему на ухо. – Давай лучше в сторону отойдем, поговорим…
Алексей слушался ее словно во сне. До следующей лекции было еще минут десять и по старинным чугунным плитам скользило множество студенческих ног и ножек. Все шуршало, шептало, сплетничало и создавало удобный шумовой фон, потому что во всеобщем шуме и гаме чуть слышный разговор, даже весьма интересный, совершенно невозможно было подслушать.
Алексей со своей новой знакомицей забились в укромный уголок за двумя толстенными колоннами, и там она поведала ему, что Аленка, ее однокурсница, лишь недавно возвратилась из Болгарии, где отдыхала у своего жениха, сына родителей весьма состоятельных, да тот и сам за ней скоро приедет, и они тогда сыграют свадьбу… А с Алексеем она, вероятно, подружилась так, на лето, чтобы душу отвести до того, как судьба (впрочем, при чем тут судьба?) окончательно свяжет ее на веки вечные с ее будущим супругом.
От этого рассказа в общем-то доброжелательной девушки, которая по-своему хотела ему помочь, кровь застыла у него в жилах февральскими сосульками, а сердце окутала такая тугая и угрюмая паутина, что оно сжалось от боли, словно черный ядовитый скорпион его ужалил. Ведь и в наши времена, о читатель, живут еще чувствительные и легкоранимые, но, к сожалению, небогатые люди!
– Одним словом, ты это, больше к ней не подходи, и ей будет неловко, и тебе…
На этом наша Сивилла своими хорошенькими ножками – видать, не носилась она целый день по крутым, видавшим виды парадным, где затаились редакции столичных газет – провальсировала в ближайшую аудиторию, а Алеша, как понурый верблюд, который только что пересек Сахару, потащился на лекцию по античной литературе. Лекцию, кстати, читал не просто преподаватель-доходяга, домучивавший свои деньки на казенной зарплате, а известный киевский литератор и большой шутник по части антики, некто Шанин. Его шуточки времен строительства Акрополя, выдержавшие, как и он, испытания временем, неизменно находили поддержку у усталого студенческого сообщества, и он каким-то одним ему известным образом умел вселить оптимизм (даже если для него не было никаких оснований) в своих благодарных слушателей. Но сегодня даже рассказы о «Лисистрате», а Шанин, преподававший днем латынь студентам-медикам, умел очень точно передать суть проблемы бессмертного творения Аристофана, не могли развеселить Алешу. Все происходило как-то вокруг него и помимо него, а он был как бы безучастным свидетелем этого невозможно долгого хэппенинга – жизни.
Но вот наконец лекция закончилась, и студенты, покряхтывая и одновременно похохатывая, распрощались с мэтром и, не теряя ни минуты, ринулись в коридор, чтобы быстрее вырваться на свежий воздух. Толпа подхватила Алешу, и на бульваре он неожиданно оказался, вот уже второй раз за этот вечер, рядом с Аленой.
Его вид, впрочем, не вызвал у нее, судя по всему, и тени радости.
– Ну чего ты привязался? Чего таскаешься за мной? – выпалила она каким-то чужим, не свойственным ей голосом.
– Аленочка, что с тобой, не надо так, – только и смог промямлить ошарашенный герой нашего незамысловатого повествования.
Но в ответ он услышал одно только слово, которое, словно раскаленное тавро, обжигало потом его душу долгие годы:
– Обуза! – выкрикнула ему в лицо Алена, когда они подошли к углу бульвара и Владимирской, и, круто повернувшись на каблуках, бросилась через улицу, давая всем своим видом понять, что приговор этот обжалованию не подлежит.
А он долго еще стоял, глядя на залитый желтым фонарным светом мир, в котором он остался вдруг совсем один, и все повторял это проклятое слово, вырвавшееся из уст девушки, которая, как он думал, разделит с ним его судьбу.
Но нас, как известно, спасает сила привычки, и по привычке ноги понесли его к трамвайной остановке. Голодный живот заходился хрипом и писком, но Алеша ни на что не обращал внимания – тело было само по себе, а душа его сама по себе.
На несколько недель Алеша слег. Мудрая мать лечила симптомы его болезни, понимая, что душу способно вылечить только время, – отпаивала сына мятой, от которой он ходил словно чумной и пичкала малиновым вареньем, от которого он обильно потел и еще больше худел, но зато на впалых и бледных щеках проступал иногда румянец. Так прошло целых два месяца, и в один прекрасный день, а он и вправду был прекрасным, потому что снег белоснежной пеленой укутал Горенку, Алеша проснулся и вдруг почувствовал, что боль в сердце прошла. Подождал немного, но боль не возвращалась, ему отчаянно хотелось есть и… кататься на лыжах. И тогда он понял, что выздоровел, и тут же раз и навсегда сделал для себя вывод о том, что ни при каких обстоятельствах не следует удерживать женщин. Рядом должен быть тот, кто хочет быть рядом, – так сформулировал для себя Алеша свое новое жизненное кредо. Позавтракав, он вышел на улицу продышаться, отдавая, впрочем, себе отчет в том, что он почти два месяца пролежал в постели, сильно отстал от однокурсников, а незаконченный роман его покрылся толстым слоем пыли.
Возле сельпо ему встретилась Явдоха, которая бросила на него быстрый пытливый взгляд и дружелюбно улыбнулась, давая понять, что ей все известно и она за него рада.
Явдоха даже подошла к нему поближе и прошептала на ухо:
– Не ищи далеко, ищи близко… Кто знает, может быть, Запертая Пашка твоя судьба…
И она ушла, а Алеша старательно обдумывал ее слова по дороге домой.
«Не Явдоха у нас, а прямо какая-то деревенская Пифия, – думал он, – при чем тут Запертая Пашка, если всему селу известно, что у нее от рождения не все дома и потому ее и заперли…».
Но прилетевшая откуда-то мысль холодной иглой кольнула его: «А ты уверен, что она действительно не в себе? Разве ты ее видел или тем более с ней говорил?». И невидимая мысль улетела туда, откуда и прилетела, а озадаченный Алеша, придя домой, стал как бы невзначай расспрашивать мать про Запертую Пашку.
И та рассказала ему вот что. Лет двадцать назад у кузнеца Панаса родилась дочь. Кузнец, страстно мечтавший о сыне, который бы продолжил его род и его ремесло, от горя запил, хотя девочка была удивительной красоты – с бирюзовыми глазами, золотыми волосами и кожей, такой белоснежной, словно она появилась на свет не в залитой солнечными лучами Горенке, а на берегу холодного северного моря; к тому же она росла не по годам смышленой, и мать не могла на нее нарадоваться, но обеим приходилось худо от Панаса, который в глубине души дочку все же любил и понимал, что напрасно тиранит свою семью, но перебороть себя не мог и однажды в порыве гнева накинулся на жену и дочь с кулаками. Что именно там тогда произошло, никому доподлинно не известно, но вскоре после того Ефросинья, так звали Пашкину мать, угасла как свеча, а пятилетняя Пашка осталась совсем одна, потому что ее, а не себя, Панас считал виновницей гибели своей преданной подруги. И прогнал он Пашку со двора, как прогоняют приблудного котенка, и она, горемыка, ходила от хаты к хате, просила еду и спала, где придется, пока ее не приютила на время сельская учительница, опасавшаяся, что девочку увезут цыгане. И Пашка прожила у нее лет десять, до самой смерти отца своего, который так и умер, не покаявшись в страшном грехе своем. И Пашка переехала было в отчий дом, но тут откуда ни возьмись, как гром с ясного неба, появилась ее, до того никогда не бывавшая в этих местах тетка, переписала хату и хозяйство на себя, а Пашку заперла в хлеву, потому как та от всех тех бед, которые ей пришлось пережить, по словам тетки, тронулась разумом – ни в какую не хотела признавать свою тетку и имела наглость утверждать, что Голова с проходимицей украли у нее родной дом. И с тех пор она сидит в хлеву, в котором, правда, после смерти Панаса, скот держать перестали, сельская учительница, теперь уже ветхая старушка, носит ей иногда книги да гостинцы, а тетка ее нашла на усадьбе клад и живет припеваючи со своим хахалем.
«Странная история, – подумал Алексей. – Надо будет с Николаевной переговорить». Дело в том, что Розалию Николаевну, учительницу, о которой рассказывала мать, он хорошо знал. Она иногда заходила к ним одолжить книги для чтения, и теперь он уже догадывался, для кого именно они предназначались.
Прошло всего два или три дня после того, как матушка рассказала ему про Запертую Пашку, как Розалия Николаевна зашла к ним по своему обыкновению одолжить книг. Алексей, как мог, старался ее задержать и разговорить, но та на его уловки не поддалась и, выбрав почти наугад две или три книги, по своему обыкновению заспешила, как она выразилась, к своей бывшей ученице, которой нездоровится и для которой книги – единственная радость.
Алексей решил подсмотреть, куда она идет, да это было и не трудно, потому что учительница шла, не оборачиваясь, и к тому же по людным улицам. И всего через несколько минут она уже подошла к богатой усадьбе, окруженной таким мощным забором, что напоминал он всего более крепостную стену. Бойниц, правда, в ней не было, но колючая проволока, которой забор был обильно увенчан, не располагала к мысли посетить без спроса тех, кто так старательно оберегал себя от посторонних. Старушка, видать, в этом доме была своя и, не стучась, открыла калитку и вошла во двор. Алексей приоткрыл калитку и шмыгнул во двор вслед за ней, надеясь только на то, что собаки, если они все-таки там есть, сидят на привязи. Старушка пошла через заставленный всякой всячиной двор за дом, а затем засеменила через сад по узенькой тропинке к строению, поросшему мхом, которое, постепенно врастая в землю, притаилось на краю усадьбы.
Впрочем, внутрь этого унылого сарая войти она и не пыталась – дверь была заперта на огромный навесной замок, такой мощный, что можно было подумать, он был создан для того, чтобы охранять мирных посетителей цирка от свирепых тигров, норовящих вырваться на волю из клетки. И точно это была клетка, потому что, когда немытое от начала времен, серое от пыли и копоти окошко отворилось, Алексей рассмотрел ржавую, но массивную решетку, через которую навстречу учительнице невидимая Алексею Запертая Пашка протянула худенькую, белую, как простыня, руку, чтобы взять книги. Кроме книг, учительница подала невидимой собеседнице еще какой-то сверток, что-то тихо сказала ей и заспешила поскорее покинуть это странное и малоприветливое подворье.
А вот Алеше спешить было решительно некуда – до начала занятий оставалось еще несколько часов, в редакцию он сегодня не собирался, а свежий зимний и совсем не холодный воздух казался ему после его двухмесячного затворничества удивительно вкусным. И дождавшись наконец той минуты, когда учительница проследовала по той же узенькой тропинке и скрылась за домом, глубоко вдохнул, подошел к сараю и тихонечко постучал по оконцу. Оно через несколько минут распахнулось и через решетку к своему изумлению Алексей вдруг лицом к лицу оказался с Аленой. Да, это была она! Или все же нет – сознание у него помутилось, и он схватился за ржавую решетку, как утопающий за спасательный круг, чтобы не упасть в снег.
– Ты кто? – насуплено спросила девушка, и Алеша сразу сообразил – нет, не Алена, – голос совсем не такой, не такой бархатистый, а немножко надтреснутый, что ли.
– Я в селе здесь живу, – сбивчиво ответил ей Алексей.
– А зачем ты здесь? Поглазеть на чужое горе? Так ведь? Как на редкое животное…
– Учительница у меня книги для тебя берет, вот я и решил прийти спросить…
– Не лги! – безапелляционно ответила Запертая Пашка.
– Да не лгу я, я на журналистском учусь, книг у меня сколько хочешь, вот я и пришел спросить, какие тебе больше нравятся, а то учительница выбирает всегда наспех, а ведь это дело такое, требует внимания, чтобы человеку приятно было читать…
Алексей прекрасно понимал, что изъясняется несвойственным ему языком, почти как неграмотный, но девушка, чем-то удивительно похожая на Алену, смущала его и он чувствовал, что покрывается густым румянцем и вот-вот начнет заикаться.
Румянец его, однако, спас, потому что голос девушки стал добрее.
– Так, значит, я и в самом деле твои книги читаю? Алеша судорожно кивнул, отдавая себе отчет в том, что смотрит на нее как завороженный.
Пашка, впрочем, была в более выгодном положении, чем Алеша, потому что ее отчасти скрывала полутьма, а во-вторых, ему были видны только ее лицо и руки.
– Так какие тебе книги принести? – спросил Алеша, чувствуя, что на него кто-то чужой смотрит из-за сарая. Он оглянулся и чуть снова не свалился в снег – откормленный, как боров, черт нахально пялился на него из-за угла сарая, ехидно и в то же время нагло улыбаясь и показывая свои желтые клыки. Увидев, что Алеша на него смотрит, он закивал ему, как старому знакомому, и сальная улыбка расплылась по его физиономии, как блин по сковородке. Алеша, хотя и был наслышан о нем самом и его художествах, все-таки полагал, что приблуда-черт просто выдумка досужих любителей заложить за воротник, а тут, как назло, в святой для него момент заклятый враг рода человеческого вылез на свет и к тому же, видать, наслал на него какую порчу, потому что ноги его вдруг словно налились свинцом, а лицо сделалось серым как наждачная бумага.
– Что это с тобой? – встревожилась Пашка. – Ты какой-то серый стал, а? С тобой все в порядке? У меня тут вода есть…
Она внимательно посмотрела на Алешу, и насколько он был серый, настолько теперь уже она покрылась кумачовым румянцем.
Так они и смотрели друг на друга – один серый, другая – как свекла, а Алеша смотрел на нее не отрываясь – она сделалась ему вдруг дорога, потому что искренне о нем беспокоилась.
– А Алена? – подло прошипел из-за угла сарая черт. – А Алену ты уже забыл? Вот если бы она тебя сейчас увидела…
Слова черта заставили Алешино сердце тревожно сжаться – знакомая боль уже подкрадывалась к нему, чтобы опять ухватить его сердце холодным, колючим пинцетом, чтобы беспрестанно мучить его во сне и наяву. Но тут он вдруг вспомнил, что Алена уже в прошлом, и сообразил, что черт его дурит, чтобы сбить с толку и отвлечь от Пашки.
– Изыди сатана! – вдруг завопил Алеша, сам себе поражаясь, – наверное, впервые в жизни он произнес вслух слово «изыди» и окрестил черта тремя пальцами по христианскому обычаю. Тот такого подвоха не ожидал, и поэтому начерченный в воздухе святой крест заставил его отшатнуться, словно его пребольно ударили плетью по омерзительной, поросшей черным вонючим мехом харе. И он тут же исчез, и только отвратительный запах серы появился в том месте, откуда черт только что пялился на Алексея.
– Так там этот недоумок был?! – Пашка залилась смехом, словно нежный, серебряный колокольчик зазвучал в скучной полутьме сарая. – Я его не боюсь. Уж сколько раз он ко мне подбирался, такого сулил – не получилось у него. Да и ты его не бойся, если его всерьез не принимать, а вести себя с ним, как с умственно отсталым, то все его чары словно испаряются и ничего, кроме вони, от него не остается.
– Ты тут всегда жила? – спросил Алексей.
– С тех пор как проходимица силой меня заперла и Голову подкупила. Некому за меня заступиться. Все село знает, что я тут сижу, как в тюрьме, но людям спокойнее думать, что и впрямь заперли в сарае полоумную, чем впутываться в спор с Головой…
– Я только недавно про тебя узнал, – сказал Алеша. – И сразу пришел. Я тебя в обиду не дам. Хочешь, прямо сейчас сорву этот дурацкий замок и ты уйдешь отсюда со мной.
– Но куда я пойду? Дом мой украла у меня проходимица, даже паспорта у меня нету… Куда же я, а?
– Ко мне пойдешь, – успокоил ее Алеша. – Хата у нас с мамой небольшая, но для тебя места хватит, все равно лучше, чем здесь впотьмах сидеть и слушать, как за околицей волки воют. Да и холодно у тебя здесь…
А пока они так разговаривали, на Горенку опустились тревожные сумерки, и какие-то тени замелькали по улицам и дворам, и люди добрые спустили тут же на ночь собак да и заперлись от греха подальше на все замки. И никому не было дела до запертой в сарае девушки.
Алексей вдруг увидел недалеко от сарая обломок старой оглобли и, вставив ее под замок, без всякого труда сорвал его с двери. Дверь со скрипом распахнулась, и свежий воздух впервые за последние два или три года ворвался в' тоскливую Пашкину темницу.
Она отошла от окошка и, неуверенно ступая, как человек, который разучился ходить из-за долгой болезни, вышла к Алексею. При виде Пашки сердце у Алексея сжалось от жалости – тряпки, в которые она была замотана, даже отдаленно не напоминали одежду. Изношенные кирзовые сапоги с прохудившимися подошвами совершенно не защищали ее ноги от колючего холода, и она растерянно смотрела на Алешу, словно проверяя, действительно ли он намерен спасти ее из этого ада, который злые и жадные люди устроили ей прямо во дворе родного дома. Алеша взял ее за руку, и они, как могли, быстро зашагали через сад к улице.
Уже возле самой калитки их догнала толстая рябая баба, которая попыталась было вцепиться в Алешин рукав, нагло шипя, как уверенная в силе своего яда гадюка:
– Куда придурошную тащишь, куда? Оставь, я ее запру бедолагу…
И тут кроткая, но настрадавшаяся за свою недолгую жизнь Пашка совершила нечто вроде пируэта на скользком снегу, пощечина, которую она влепила лживой бабе, звонко, как гонг, прозвучала на заснеженной улице в опустившейся на Горенку тишине.
Но тут на помощь проходимице, как ее называла Пашка, бросился упитанный, как бычок, дяденька, почуявший, видать, своим пропитанным денатуратным нутром, что уютный, но неправедно нажитый домик ускользает из-под отучившейся ночевать на вокзальных скамейках задницы. Он попытался было ухватиться за те тряпки, которыми Пашка была скорее обмотана, чем одета, но Алеша бросился на него, как тореадор, и толкнул в глубокий сугроб, в который тот погрузился весь целиком головой вперед, и от всей его злобы на виду у человечества остались только подошвы добротно сработанных сапог. Проходимица бросилась его выручать, а Алексей и Пашка воспользовались этим, чтобы раствориться в сгустившейся ночной тьме, уже опустившейся на Горенку из вечно холодного и непонятного людям космоса.








