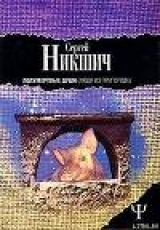
Текст книги "Люди из пригорода"
Автор книги: Сергей Никшич
Жанры:
Юмористическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 16 страниц)
Эпилог, или Сумбурная пятница
Уж очень хотелось Мотре, чтобы Дваждырожденный на ней женился, ну очень хотелось, но как этого добиться, она решительно не знала: Богдан жил у нее уже месяца два и даже собирался продать собственный дом, чтобы купить подержанный «Запорожец» с тем, чтобы возить ее «как королеву», но все не предлагал оформить брак. Мотрю даже стали точить сомнения: правильно ли она сделала, что прикипела к нему душой и пустила в дом, но посоветоваться ей, кроме как с картами, было не с кем.
И однажды, когда Дваждырожденный задержался в сельсовете, Мотря выключила свет, зажгла свечи и разложила затейливый пасьянс. Всмотревшись в карты, Мотря вздрогнула – такой чепухи ей еще карты никогда не пророчили. Настроение у Мотри окончательно испортилось, а тут откуда-то подул сквозняк и задул все свечи, кроме одной, и всматриваться в карты Мотре, которая втайне страдала от близорукости, но очки не носила, стало просто невмоготу – глаза слезились, короли и дамы сливались в одно разноцветное пятно, из которого они то дерзко смотрели и кривлялись, то норовили сунуть ей кукиш и при этом ехидно посмеивались, словно у нее за спиной происходило что-то очень забавное. «Даже погадать не удается», – вздохнула Мотря, смешала карты, встала и включила свет, но тут раздался громкий телефонный звонок – Дваждырожденный сообщил, что задержится, потому что решил поговорить по душам с Богомазом.
– И где вы будете говорить? – грустно поинтересовалась Мотря.
– Известное дело, где, – важно ответил Дваждырожденный и положил трубку.
И в этот безрадостный вечер накануне выходных Мотря вышла на крыльцо, чтобы продышаться и посмотреть на древние, вещие звезды в надежде, что они что-нибудь ей подскажут. Но и те только подмигивали ей издалека, и хотя на душе у Мотри стало чуть поспокойнее, она решительно не знала, как ей быть и как Дваждырожденного наконец окольцевать.
Впрочем, в этот обманчиво спокойный вечер смятение завладело не только ее душой – Хорек от Параськиных попреков совершенно затосковал, рога ему приходилось спиливать все чаще и чаще, потому что они росли как на дрожжах, и на это уходило все больше денег, а Васыль ни в какую не соглашался открыть кредит или обслуживать его в долг. «Ты пример с Тоскливца и Головы бери, – учил Хорька Васыль, – выкладывают двадцатник и еще благодарят от всей души. Toскливец, правда, при этом немного синеет, но думаю, это у него от нервов…». Надежда у него была теперь только на то, что надоевший уже снег рано или поздно растает, выглянет весеннее солнышко и он поселится во времянке на пасеке, которую он на этот раз устроит как можно дальше от села, и тогда пусть Параська попробует до него там добраться. «Оно, конечно, – размышлял Хорек, – можно и на пасеке заскучать, но надо такое место подобрать, где бабы грибы собирают, а еще лучше поселить бы их в улье, чтобы они роем из него вылетали по первому требованию… Но на это, впрочем, рассчитывать не приходится». Подумав так, Хорек грустно вздохнул, и тут же наступившая в доме тишина была взорвана писклявым Параськиным сопрано.
– Нет, он еще вздыхает, вы только, люди добрые, на него посмотрите – он вздыхает! А что мне тогда делать, если мой собственный супруг скачет по кустам с чертовкой, забыв всякий стыд! Еще раз вздохнешь – детям напишу!
Трудно сказать, к кому обращалась Параська, потому что из добрых людей в доме находился один только Хорек, но Параська вряд ли имела в виду его. Хорек, чтобы не попасть под горячую руку, ушел в сарай, якобы по делу, а на самом деле, чтобы спокойно скрутить козью ножку и по свободе перекурить. На всякий случай он еще раз проверил свои карманы – дело в том, что после последних событий Параська забирала у него все деньги, которые он получал за свой мед от базарных торговок, и пересохшее за неделю горло заходилось в беззвучном крике, угрожая потрескаться, как пустыня, если его не прополощут живительной влагой. Но в карманах, кроме дыр, и по этой причине сквозняка, он ничего не обнаружил, и даже самокрутка уже не могла снять камень с его опечаленной от бесконечного Параськиного иезуитства души. И он выскользнул из сарая, даже его толком не закрыв, по-пластунски преодолел заснеженный двор и бегом бросился в сторону корчмы, надеясь, что встретит там кума, а тот-то уж не откажется угостить его, чтобы проклятая тоска, навеянная Параськой, отпустила наконец его изнемогшую душу. И точно, Хорьку повезло – кум заседал за столом вместе с Дваждырожденным, и когда перед ними предстал опечаленный Хорек, в глазах которого, казалось, скопилась вся мировая скорбь, они встретили его как родного, усадили за стол, пододвинули блюдо с нарезанной шинкой и рюмку, и у Хорька впервые за последние несколько дней оттаяла душа. Дело в том, что они не успели и нескольких слов сказать между собой о том, как рады вот так по-дружески собраться в конце недели, чтобы потолковать по душам, а Дваждырожденный и Богомаз собирались обсудить ни много ни мало – смысл своей многострадальной жизни, и приход Хорька пришелся как раз кстати, потому что они сразу же решили определить его третейским судьей. Первым начал Дваждырожденный.
– Я думаю, – начал витийствовать он, – что душа обретает на этой грешной земле свое тело, которое есть не что иное, как одежда души, красивое тело – как модная одежда, но всего лишь одежда, так вот душа обретает свое тело, чтобы иметь возможность передвигаться, действовать и прийти наконец к своему Спасителю посредством…
– Ты хочешь сказать, что без тела душа не способна передвигаться? – перебил его нетерпеливый Богомаз, который весь день провел в мастерской, молча и сосредоточенно работая, и которому не терпелось немедля выложить все то, что ему не удалось сообщить никому в течение дня. – Душа способна пересекать космос и двигать звезды, ибо она – частица Божья и ей подвластно все, что подвластно уму человека…
– Я же только начал, – в свою очередь перебил его Дваждырожденный, – дай мне сказать…
Но тут перед их столом, как гриб после дождя, вырос Тоскливец, который лебезил, как будто уже что-то слямзил, и умильно улыбался в надежде, что принявшие уже на душу друзья примутся его усаживать за стол и так, за бесплатно, угостят, тем более что он недавно принимал их у себя и их мощные челюсти безжалостно расправились с припасенной им буженинкой. Но его подлые расчеты не оправдались, потому что речь у них шла не о бабах, как всегда, а о высоких материях и они не хотели видеть перед собой его тоскливую обличность, которая могла сбить их с мысли. И Тоскливец перестал улыбаться, почти гордо ушел и был вынужден вынуть свой собственный кошелек и, меланхолично пересчитывая купюры (он любил мелкие, потому что их на дольше хватало), заказал себе рюмочку и бутербродик.
А кумовья прильнули друг к другу душой, и стало им тепло и уютно, и Богомаз вместе с Дваждырожденным (все-таки Тоскливцу удалось отвлечь их от философии!) принялись жалеть Хорька, что супружница досталась ему не из самых лучших, и успокаивать его тем, что путем убеждения и перевоспитания из нее еще может выйти толк.
– Женщина она, видать, опытная, – вещал Дваждырож-денный, – да и мир, не в пример нам, повидала, только вот хобби, хобби у нее нет… Разве есть у нее хобби?
– Да нет у нее никакого хобби, – отмахнулся Хорек, – откуда у нее? Ничего у нее нет, кроме желания опять рвануть за мои денежки на Гваделупу, только дукатов-то осталось – кот наплакал.
Сказав это, он сам зажал себе рот и оглянулся. К счастью для него, посетители были заняты своими собственными проблемами и, казалось, никто его не услышал. Народ отдыхал после трудовой недели и готовился достойно провести выходные, если только в селе бывают выходные…«Точнее, скажем так – к выходным готовился тот, кто мог их себе позволить. Впрочем, таких в селе было достаточно, потому что сельчане, избалованные городскими рынками, из старомодных крестьян превратились уже давно в своего рода гадалок, которые пользовались своим искусством в основном для того, чтобы угадать, какую цену заломить городским простофилям, чтобы и их не отпугнуть, и свою выгоду взять. И хохотали вдогонку облапошенным горожанам, не догадываясь, что вместе с хохотом частицы бессмертной души покидают их безвозвратно и дьявольскому отродью становится все легче облапошить их самих, но уже по большому счету. Но об этом никто не догадывался, и корчма гудела от возбужденных голосов, повествовавших об услышанном и увиденном в центре их небольшого мирка – ближайшем базаре, об отбившихся от рук супружницах и такой, еще существующей в природе нечисти, как теща. И никто из них не вспоминал о Кларе, которая, покорившись судьбе, изгнанная Тоскливцем из дома, который так никогда и не стал для нее землей обетованной, с единственной сумкой в руке покинула Горенку и на трамвае, тоскливом, как погребальные дроги, уехала в город. Правда, были два обстоятельства, которые позволяли ей с некоторым оптимизмом смотреть в тусклое, туманное будущее – во-первых, к ней возвратилась молодость, правда, ей не было известно, надолго ли, но в молодом ее теле бурлили соки молодости, овал лица стал соблазнительным, как ей казалось, до неприличия, а выросшие, как вулканы, груди, грозились прорвать все ту же, видавшую виды кожаную куртку, а во-вторых, по карманам у нее были растыканы экспроприированные у Тоскливца банкноты, которых он, как оказалось, накопил столько, что даже позабыл о своих тайниках, как бестолковая белка забывает о спрятанных шишках, и Клара, притворившись, что собирается навсегда покинуть родные берега и собирает остатки собственных вещей, перерыла весь дом, и теперь, по крайней мере, у нее оказалась в руках достаточная сумма, чтобы где-нибудь окопаться на несколько месяцев и спокойно обдумать свои планы на будущее. Смотреть в окно Кларе не хотелось – снег саваном укрывал все живое, а на трамвайных остановках бабы продавали случайным прохожим всякую перекупленную у селян дрянь: подгнившую картошку, разбавленный мед и покрытые загадочной патиной яблоки. Этот стандартный джентльменский набор соседствовал с банками хрена домашнего приготовления, при виде которых сразу вспоминаются ломтики розового, нежного сала по соседству с запотевшим от ожидания гостей графином… „Гости, однако, бывают только у тех, у кого есть дом“, – озабоченно думала Клара. Нет, смотреть в окно ей решительно не хотелось, и она принялась рассматривать случайных, на первый взгляд, пассажиров. А те и вправду казались сельчанами, собравшимися было в город по своим нехитрым делам, как то: к зубному врачу, чтобы унять надоедливую боль, или к родственнику, чтобы одолжить немного деньжат. Клара, однако, была, как нам уже известно, женщиной ушлой, ибо вследствие своего непоседливого, как у профессионального путешественника, характера ей уже многое пришлось испытать и повидать на своем веку. И шестое чувство, которое, как известно, у женщин обретается где-то между копчиком и пупком, безошибочно подсказало ей, что пассажиры эти – люди только на первый взгляд и что ей следует немедленно выйти из трамвая и дождаться следующего, даже если ждать его придется на холодном ветру целую вечность, потому что они для нее, Клары, опасны, и кроме того, у нее с собой деньги… и молодость. А попутчики ее коварно, как казалось Кларе, притворялись, что рассматривают заснеженный лес, над которым зависли пасмурное, серое небо и тяжелые облака, уставшие от своих долгих странствий. Клара тоже взглянула на небо, и тут же страх холодной иглой уколол ее сердце – облака подпрыгивали то вверх, то вниз, словно кто-то невидимый дергал за незаметные глазу ниточки, на которых они были подвешены. „Не может быть! – подумала Клара. – Это я просто устала“. Она опять выглянула в окно – упрямые облака продолжали подпрыгивать в сумрачном поднебесье, но на ее попутчиков это странное зрелище, судя по всему, не производило ровно никакого впечатления.
«Неужели они никогда облаков нормальных не видели?» – подумала Клара.
Если бы она знала, что так оно и есть на самом деле, она не стала бы дожидаться следующей остановки и, чтобы улизнуть от беды, вцепилась бы в стоп-кран и, как затравленный зверь, бросилась бы удирать по белой пустыне от того ужаса, который незримо на нее уже надвигался… Но люди, и даже женщины, не так уж часто прислушиваются к своему внутреннему голосу, потому что тот, и сам сбитый с толку всем тем, что вокруг нас происходит, часто советует совершеннейшую чушь и может зачастую только напортить, но уж никак не помочь, и поэтому Клара попыталась подавить в себе то чувство страха, которое охватывало ее при виде молчаливых попутчиков. Но тут наконец Клара заметила кое-что еще – попутчики-то были все на одно лицо – с огромными, словно вырубленными топором, носами, толстыми губами и черными, глубоко посаженными глазами. Да и одеты они были как-то странно, словно ехали с массовки, на которой снимали фильм про средневековье, и только для приличия накинули поверх диковинных костюмов обтрепанные шубы и пальто. И потом… Они все молчали. Это уж никак не походило на обитателей здешних мест, которые так спешат изложить всему миру свои незатейливые мыслишки, что перебивают друг друга, брызгают друг на друга слюной и машут руками так, словно задохнутся, если немедленно не выложат все те банальности, которые накопились у них по черепной коробкой с тех пор, как они в последний раз закрыли рот. А эти молчали… И гусиная кожа заструилась по Кларе, проникая в самые заповедные места холодными, отвратительными муравьями. И Клара бросила взгляд на стоп-кран, который поблескивал на стене, словно обещая ей свободу, подобно тому, как неожиданный пролом в стене напоминает тюремному узнику о том, что где-то существует и другая жизнь. И она встала и заковыляла к нему, притворяясь, что идет к вагоновожатому, чтобы у того что-то выяснить, но тридцать или сорок пар подозрительных глаз уже были направлены на нее и такой себе дедушка, то ли профессор неизвестных доселе наук, то ли из тех, с которыми в безлюдном месте лучше не встречаться, подошел к ней и взял ее за дрожащую, потную от страха руку.
– Ты куда это собралась? – злобно прошипел он, словно имел на это какое-то право.
– А вы какое право, собственно… – закудахтала Клара, пытаясь вырвать ладонь из его стальных клешней, но тот лишь сильнее сжал свою жертву да так, что Клара вдруг стала размером с белку и ее собственная сумка возвышалась возле нее, как безымянный курган. Дедушка, впрочем, тоже уменьшился в размерах, и его холодные, колючие глаза снова оказались вровень с теми застывшими от ужаса бутылочными осколками, в которые превратились зеленые, загадочные озера Клариных глаз. Она оглянулась и увидела, что и другие пассажиры поспрыгивали с сидений и цепочкой выстроились за настырным дедушкой, причем все они теперь, как и Клара, были размером с солдатский ботинок. А тут трамвай стал тормозить, и дедушка теперь уже более ласково прошептал Кларе:
– Приехали, дочка, выходим.
– Никуда не пойду! – взвизгнула Клара.
– Куда же ты теперь такая? Мальчишки словят и занянчат, как котенка, пропадешь ты, – спокойно ответил чертов дедушка, но тут трамвайные колеса взвизгнули на холодных рельсах и двери его раскрылись напротив безжизненной белой пустыни. Гномы, Клара теперь понимала, что из-за подлости Тоскливца и Гапки ее угораздило оказаться в трамвае битком набитом гномами, так же молча гурьбой выпрыгнули из трамвая, причем один из них успел прикоснуться к Кла-риной сумке, и та сразу же уменьшилась до размера грецкого ореха. Наверное, впервые в жизни Клара оказалась в положении совершенно безвыходном, и, выругавшись, она спрыгнула из опустевшего трамвайного вагона, но при этом не рассчитала свои новые габариты, упала и пребольно ударилась плечом. К ее удивлению, гномы сразу же ее обступили, помогли встать, сочувственно обтрусили с нее снег и, поддерживая за руки, повели с собой. Клара при этом внимательно оглядывалась по сторонам, чтобы на всякий случай запомнить дорогу. Оказалось, что она проехала всего одну остановку и что Горенка совсем недалеко, но она тут же вспомнила, что дом Тоскливца теперь для нее недоступен, потому что там окопалась нахальная Гапка и она больше не может использовать его как своего рода базу отдыха между наскоками на окружающий ее мир с тем, чтобы его завоевывать и покорять.
«И красота, зачем мне теперь красота, – думала Клара, – неужели только для того, чтобы гномов дурачить?».
Но чертов дедушка – так называла про себя Клара их предводителя – подошел к ней и прошептал в ее заиндевевшее ушко: «Не одурачишь, милая!».
Клара ничего ему не ответила, потому что еще не до конца понимала, что с ней происходит и только изо всех сил передвигала усталые ноги, потому что гному намного труднее передвигаться по непротоптанному снегу, чем обыкновенному человеку. Женщина-гном, которая поддерживала ее под руку, прошептала ей: «Я тоже когда-то была человеком».
– И давно ты с ними?
– Уже лет пять, не могу сказать точно – календарей у нас нет, телевизоров тоже, и время тянется, как при замедленных съемках… Спать ложимся засветло, встаем с восходом солнца, и Мефодий – она кивнула на старикана – весь день учит нас, как быть настоящими гномами. Только я не вижу в этом никакого смысла. Тоска…
Клара теперь уже понимала, что влипла в историю далеко не шуточную.
– А где вы еду берете?
– В селе крадем. Наряжаемся мышами и отправляемся за добычей. Только это очень опасно, потому что котам все равно – маска это с мышиными ушами или настоящая мышь… Да и собаки… Вот почему нужны новобранцы…
– Ты хочешь сказать…
– Гномы часто погибают в сражении с котами, а упрямый Мефодий не разрешает нам пользоваться оружием, чтобы селяне не догадались, что мы не настоящие мыши… Он очень жестокий.
Но тут они подошли к большому старому дубу, старикан открыл крошечную дверцу, которая для маскировки была оббита корой, и гномы один за другим стали исчезать в темном, открывшемся за дверцей пространстве. Клара тяжело вздохнула, понимая, что деньгами Тоскливца и своей молодостью в ближайшее время ей воспользоваться не удастся – да и кому нужны гривны размером с игольное ушко и девушка размером с настольные часы? – и покорно шагнула в темноту. Падала она довольно долго, потому что усталые гномы забыли предупредить ее, что она должна сначала схватить веревку и спускаться по ней, раздирая до крови ладони, и спасло ее только то, что упала она на охапку соломы. Новые товарищи сразу же ее подхватили и понесли по темному коридору куда-то в глубь холодного и душного лабиринта.
Но Тоскливцу ничего не было известно о судьбе его бывшей половины, потому что, как только за ней захлопнулась наконец входная дверь, он вообразил, что начался у него второй в его жизни медовый месяц да еще с ненаглядной Тапочкой, которая настолько похорошела, что могла запросто дать фору любой западной кинозвезде. Одно только одно обстоятельство несколько тревожило Тоскливца – Гапка вбила себе в голову, что они должны узаконить свою любовь, хотя и не могла объяснить, зачем ей это, собственно говоря, нужно. Тоскливец никогда в своей жизни скоропалительных решений не принимал и, хотя и был в Тапочку почти влюблен, совершенно не спешил сковать себя опять узами Гименея, опасаясь, что и с ней произойдет обратная метаморфоза и из куколки вылупится не бабочка, а динозавр, который начнет поедать его поедом, как это уже произошло в свое время с Кларой, которая до брака притворялась тихоней, делала вид, что любит стихи и млеет при виде его подштанников. «Обманула, кобра, – думал Тоскливец, – но Гапка меня не проведет». К тому же он всерьез опасался, что на Гапку придется тратить деньги. «Такая красавица, разумеется, должна одеваться соответственно, – думал Тоскливец, – но только почему за мой счет?» Он попробовал было пересчитать свои сбережения и обнаружил, что прохиндейка Клара нанесла ему значительный ущерб. «Другого и не ожидал», – подумал Тоскливец. Впрочем, он на этот раз обманывал сам себя. На самом деле он рассчитывал, что помолодевшая и аппетитная, как булочка с изюмом, Клара, пребывая в очередной эйфории от открывшихся перед ней перспектив, уберется без скандала раз и навсегда. «Но если Гапку модно одеть, – продолжал свои размышления Тоскливец, – и при этом не оформить брак, то она, как только окажется в городе, вскружит там голову какому-нибудь шалопаю, вильнет хвостом и поминай как звали, и буду я тогда и без Клары, а ведь она чертовски похорошела, и без Гапки. А так как все всегда происходит самым худшим образом, то так оно, скорей всего, и произойдет, если не принять должных мер: Гапку для маскировки ее красоты одевать, как колхозницу, прическу ей придумать такую, чтобы вороны в ужасе падали замертво. Только так, быть может, мне удастся заручиться ее преданностью. И не жениться на ней ни в коем случае под тем предлогом, что она может опять превратиться в старуху».
Гапке, однако, ничего не было известно про мысли Тоскливца, и она рассчитывала на то, что заживет интеллигентно и мирно, со временем они сыграют свадьбу, а там, дай Бог, Василия Петровича наконец куда-нибудь переведут и Тоскливей, и сам станет головой. В ее крошечном мирке, ограниченном Горенкой, должность головы казалась ей значительной, и она, привыкнув ощущать себя супругой начальника, не собиралась так, за здорово живешь, терять полюбившийся ей статус. А Тоскливец, сидя в одиночестве, вынашивал свои одному ему известные планы в отношении Гапочки, и когда он наконец заявился из корчмы домой, то первым делом предупредил Гапку о том, что договорился с Васылем и тот сделает ей наимоднейшую прическу. Ничего не подозревавшая Гапка оттаяла от такой новости душой и раскрылась ему навстречу, как цветок утреннему солнцу, и Тоскливцу в какой-то миг даже показалось, что он преждевременно попал в рай. А потом, уже собираясь заснуть, он сообщил ей, что самое верное средство для кожи лица – обыкновенная зола, которой следует проводить то три вертикальные полосы на каждой щеке, то три горизонтальные. С этим Тоскливец и заснул, а в понедельник прямо с утра он отправил Гапку к Васылю. «Только я буду знать, какая она хорошенькая», – думал Тоскливец по дороге на работу, потому что Васыль получил от него строжайшие указания и заодно, чего уж никак не ожидал, соответствующую сумму. Гапка, впрочем, тоже не ожидала, что возвратится от Васыля в таком виде, словно по ее роскошным темно-золотым волосам проехался пьяный колхозник на свихнувшейся бороне. Она долго всматривалась в зеркало, пытаясь найти в том, что она видела, какой-то непонятный ей смысл, но так и не смогла. После того как она провела золой три магические полосы на каждой щеке, смотреть в зеркало ей вообще перехотелось. Перехотелось и готовить еду, тем более, что Тоскливец, в отличие от Головы, питался по-спартански, и ей не хотелось раздумывать над тем, что можно приготовить из одной картошки, двух заплесневелых морковок и луковицы сомнительного происхождения и возраста. А самой ей безумно хотелось есть, но холодильник был пуст, хотя и аккуратно вымыт, но его белизна не успокаивала писк в желудке, и тогда она решила убежать к свояченице. Как решила, так и сделала, и пока Тоскливец делал вид, что вносит в свой пыльный гроссбух какие-то совершенно необходимые обществу цифры, Гапка неслась по снежной пустыне к Наталке, чтобы отогреться душой, напиться горячего чаю и посплетничать обо всем на свете. Гапке еще и в голову не приходило, что если она останется у Тоскливца, то иное меню ей не угрожает, потому что жена, как и лошадь, считал Тоскливец, должна питаться подножным кормом, а если она себя прокормить не может, то это ее личное дело – Тоскливец, сменив супружницу, совершенно не собирался отказываться от своих выстраданных убеждений и даже укорял себя иногда за то, что однажды угостил Гапку кофе. «Нельзя транжирить деньги. Нельзя! – внушал сам себе Тоскливец, притворяясь, что работает с гроссбухом. – Денег мало, женщин много. Сами должны зарабатывать. Кстати, можно и Гапку на работу устроить. Пугалом!». От этой мысли Тоскливец ехидно и злорадно рассмеялся, и Голова, который подумал, что Тоскливец смеется над ним, потому что ему удалось отбить у него Гапку, встревоженно подумал, что пора и ему чем-нибудь Тоскливца уесть, чтобы тот не чувствовал над ним превосходства.
А Наталка как открыла дверь Гапке, так только руками и всплеснула.
– Ты что, совсем спятила? – заорала она на Гапку, у которой и так на душе скребли кошки, а желудок, казалось, уже начал поедать самого себя.
– Не кричи! – ответила Гапка. – Ты чего кричишь?
– Ты себя в зеркале когда в последний раз видела?
– Минут десять тому.
– И что?
– Непривычно немного.
Наталка разразилась резким хохотом, который иногда перемежался хриплым кашлем, и от этой неожиданной какофонии соседские псы зашлись в злобном лае, словно чувствуя что-то недоброе.
– Ты что, модной прически не видела? – попыталась было Гапка перейти в наступление, но у Наталки это вызвало очередной пароксизм и она, обессилев от хохота, рухнула на пол, задрав в воздух руки и ноги, как подыхающий таракан, и только мелко и судорожно дрожала.
Гапка совсем сникла и только тихонько спросила:
– Что, совсем плохо?
Наталка наконец перестала смеяться, встала, предложила подруге сесть за стол, заставленный по какой-то причине всякой снедью, и Гапка послушалась и, не ожидая дальнейших приглашений, принялась поедать все, на чем останавливались ее постепенно заполняющиеся слезами глаза.
– Тоскливец твой оказывается ревнивец и хитрюга, – сообщила Наталка, – но прическа – это я еще понимаю, но со щеками у тебя что?
Гапка рассказала ей про средство для молодости.
Наталка хотела было снова засмеяться, но поняла, что сил на это у нее уже нет.
– Не будь дурой! – без обиняков посоветовала она подруге. – Средство от старости – это пляж на Багамах и прислуга, которая чешет тебе в случае необходимости пятки, а если этого нет, то никакая зола тебе не поможет. Это он придумал, чтобы тобой, моей куколкой, не любовались за бесплатно все, кому не лень, пока он протирает штаны в присутственном месте. Золу придумал! Вместо подобающих тебе одеяний! Негодяй! Да еще тебя и изуродовал, чтобы люди шарахались от тебя, как от взбесившейся лошади. Если бы мне мой такое устроил, я бы его укокошила его же собственным пистолетом. И суд меня бы оправдал!
Произнеся эту тираду, Наталка нервно закурила, словно сигарета могла спасти ее и свояченицу от мужской подлости, и бросила на Гапку долгий укоризненный взгляд, как бы порицая ее и за прошлые, и за будущие глупости, совершаемые во имя эфемерной и, как правило, недосягаемой любви.
А Гапка молчала. Крыть ей, разумеется, было нечем, желудок все еще отчаянно наигрывал симфонию голода, и кроме того, Гапка понимала, что Наталка против ее, Гапкиной воли, раскрыла ей глаза на то, что она упорно не хотела замечать, – Тоскливец при ближайшем рассмотрении оказался не интеллигентным человеком, а удушливым типом с потными руками и готовностью заморить красавицу-жену голодом, лишь бы сэкономить несколько гривен. В глубине души Гапка боялась самой себе признаться, что Голова голодом ее не морил, отпускал к свояченице без ограничений, и даже один раз дал много денег на салон красоты. «Да и для чего Тоскливцу деньги?» – думала Гапка. Она знала, что детей у Тоскливца отродясь не было, потому что от одной мысли, что их придется кормить и одевать, он немедленно бежал в аптеку за очередной коробочкой «заветных» и никогда не позволял себе заниматься любовью а-ля натюрель, опасаясь, что за это потом придется расплачиваться минимум восемнадцать лет. Кроме того, как-то в порыве нежности он сообщил Гапке, что он потому отлеживается в постели по выходным, что так меньше хочется кушать, чем если без толку болтаться по улицам или, скажем, зайти в музей, и, таким образом, во-первых, организм не подвергается дополнительным нагрузкам, а, во-вторых, ему удается экономить на еде, ведь что ни съешь, оно все равно превратится в известную субстанцию. И книг он не покупает себе тоже из экономии, потому что опасается, что его может увлечь чтение и тогда книги придется покупать регулярно. «А эта меня вполне устраивает, – признался в тот вечер Тоскливец, – в ней много умных и глубоких мыслей, и поэтому я засыпаю с ней в обнимку так же быстро, как в детстве с плюшевым мишкой».
Когда Гапка утолила тот страшный голод, до которого ее довел коварный Тоскливец (Гапка подозревала, что еду он теперь держит на работе, но проверить не могла, потому как стеснялась бывшего супруга), и к ней возвратился ее бурный нрав, она, даже не поблагодарив подругу, грозным смерчем вырвалась на заснеженную пустынную улицу и устремилась к дому Тоскливца, чтобы наконец все прояснить. Ей, однако, не было известно, что выяснить у Тоскливца что-либо совершенно невозможно – люди сведущие в повадках Тоскливца, такие как, например, ее бывший супруг, утверждали даже, что с большим успехом можно вопрошать египетского сфинкса. Но Гапка никогда не прислушивалась к разглагольствованиям Головы и как оказалась – напрасно, потому что тот неоднократно описывал при ней Тоскливца такими сочными красками, что, казалось, только холста не хватало, чтобы на нем появилась блудливо-тоскливая фигура писаря с заискивающей и одновременно презрительной улыбкой на впалых от чрезмерного донжуанства щеках. Нет, Гапка напрасно не прислушивалась к словам Головы и сейчас, как корабль, паруса которого раздувает попутный ветер, мчалась во весь опор к своему дружку, который уже пришел домой и с многозначительным лицом рассматривал пустой, но зато стерильно вымытый холодильник и заодно оттирал жирные губы, чтобы Гапка не догадалась, что он не плохо перекусил по дороге домой. Ему, однако, не было известно, что Гапке не до гастрономических тонкостей. И он все еще надеялся, что если с Гапки смыть золу и не рассматривать ее прическу, которую лучше чем-нибудь прикрыть, то она, теплая, как хорошо протопленная печь, и нежная, как теленок, который еще не уразумел, для чего появился на свет, вдохновит его, когда придет домой от свояченицы, которая по своей доброте душевной бездельницу накормила, и они немедленно отправятся в постельку и он тогда насладится природой, потому что неистовую Гапку он представлял себе как проявление дикой, еще не укрощенной никем природы, которую еще не испоганили и не превратили в окружающую среду. Но лицо Гапки, когда она распахнула дверь, напоминало скорее африканскую маску или физиономию индейца, с которого вот-вот снимут скальп, чем лицо женщины, истосковавшейся по любви. И совсем не «Оду к радости» собирались исполнить Гапкины губки, когда могучая ее грудь захватывала нужную толику воздуха – Тоскливец на мгновение даже почувствовал вожделение, увидев, как вздымается на ней блузка, но тут эта мгновенная прелюдия закончилась и Гапка (не будем забывать, читатель, что с Головой она прошла академию супружеской жизни), чуть подняв к потолку голову, как задирает голову воющий в ледяной пустыне волк, издала рык, который парализовал Тоскливца, как жалкое и отвратительное насекомое.








