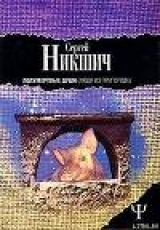
Текст книги "Люди из пригорода"
Автор книги: Сергей Никшич
Жанры:
Юмористическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 16 страниц)
А Тоскливцу в то утро было страшно. Во-первых, потому, что Гапка куда-то запропастилась и не спешила, как предрекала подлая Клара, накормить его грудью, во-вторых, по-гому, что он опасался, что кто-нибудь зайдет в дом и увидит кучу денег возле двух беспомощных младенцев – Тоскливец не знал, что чума молодости поразила всех односельчан, которые так же, как и он, учатся держать головку и радостно смеются, когда им это удается. Но время шло, и никто не спешил одеть на него подгузник и чем-нибудь накормить. Клара, такая же беспомощная, возилась возле него, норовя подмять под себя купюры, Тоскливец ее отталкивал, но от непрерывной борьбы ему все больше хотелось есть, и до него понемногу начало доходить, что он может погибнуть от голода в собственном доме. Он попытался выпутаться из одежды, чтобы добраться по-пластунски до холодильника и попытаться его открыть. Вскоре, впрочем, стало понятно, что такая задача шестимесячному карапузу не по зубам. От злости и для того, чтобы не умереть с голоду, Тоскливец попытался укусить Клару, но не смог, потому что у него еще не прорезались зубки, а Клара больно толкнула его плечом и бросила на него долгий, злобный взгляд. В доме тем временем становилось все холоднее, а за околицей села слышался вой – волки, почуяв неладное, обнаглели и даже лай возбужденных, давно не кормленных собак их уже не пугал.
А когда Голова проснулся и попытался встать, то скатился с тахты и пребольно ударился. К его ужасу, встать ему не удалось – младенцы, как известно, не ходят, и постепенно до него начал доходить размер случившейся с ним беды. «Нечистый попутал», – горько думал Голова и тщетно призывал Гапку, которая в куче других перепуганных младенцев горько кляла свою жизнь, но в глубине души была рада – ей опять предстояло стать ребенком, а потом превратиться в девушку, и кто знает, может быть, на этот раз все сложится не так плохо. «И никаких Тоскливцев! – думала Гапка. – Настоящий муж должен быть минимум министром». А Голова, ползая по холодному полу в поисках хоть какого-то коврика, думал о том, что если не относиться трагически к половым органам, то жизнь становиться намного проще… Но тут на его пути встретился все тот же Васька, и ему пришлось, к большому удовольствию паршивца, разразившегося издевательским хохотом, проползти сквозь него.
– Доигрался, Василий Петрович, доигрался, – гнусно замурлыкал Васька, – я так и думал, что ты опять во что-нибудь влипнешь. Это идиоты думают, что приключения нужно искать в Африке, потому как, если присмотреться, то наша жизнь – это одно большое приключение. Только зазеваешься, и сразу что-нибудь приключится!
– Да заткнись, ты, – попытался посоветовать ему Голова, но губы не слушались, и только нежный детский лепет прозвучал из некогда суровой гортани начальственного лица, что еще больше раззадорило Ваську.
– Ребенком он себя вообразил! – злобствовал Васька. – Вот теперь ты узнаешь, что означает спать на холодном полу, как доводилось мне, когда злобные, как голодные блохи, хозяева подло сгоняли меня с теплого дивана, как будто коту приятно спать на промерзшем грязном полу, укрывшись вместо байкового одеяла, собственным хвостом…
Голова опять было попытался утихомирить Ваську, но ничего у него не получилось, и более того, за Головой теперь тянулся мокрый след известного происхождения, потому что от холодного пола ему начинало казаться, что он погружается в холодное озеро и тепло жизни его навсегда покидает…
Наверное, он и вправду покинул бы этот мир, если бы на Горенку не налетела снежная буря и не продула ее насквозь убийственно холодным ветром, который очистил ее от скверны и забросал белым, девственным снегом. И унес невидимую людям бациллу. И те стали взрослеть, и к обеду Горенка опять наполнилась людьми, которые, не сговариваясь, бросились к церкви, чтобы помолиться, а потом так же дружно отправились в корчму, чтобы как можно быстрее промочить горло и согреть исстрадавшуюся во время всех этих ужасов душу. Надо отметить, что после этой истории сельчане стали относиться к своим чадам намного более сочувственно и не раз при воспоминаниях об этом дне уже было поднятая в воздух рука мирно опускалась и вместо ругани из разгневанных уст вырывался только тяжелый вздох…
А Тоскливец и Клара приобрели свой облик почти одновременно и яростно набросились друг на друга, чтобы завладеть деньгами.
– Мои! – крякал и стонал Тоскливец, задыхаясь и потея. – Это я их копил…
– На мне экономил, ублюдок, – сурово ответствовала Клара, прижимая его к полу, он, как мог, уворачивался, но понемногу начинал уставать и понимать, что сохранить заработанное в поте лица ему вряд ли удастся. И так бы оно, вероятно, и произошло, если бы Гапка, которая опять превратилась в зрелую матрону, а вовсе не в девушку, как ей того хотелось, не показалась на пороге превратившегося в ринг жилища.
– Убирайся, – злобно прошипела Клара, увидев Гапку, но та бросилась на помощь своему дружку, и вскоре на полу образовалась гадючья куча из сплетенных рук и ног, между которыми виднелись остатки изорванных, мятых банкнот. И кто знает, чем бы все это закончилось, если бы в дом не зашел угрюмый Голова с увесистой сулеёй в руках.
– Все, хватит, – сказал он. – Не прекратите, милицию вызову. Из города. Давайте-ка лучше выпьем за мир и дружбу, и чтобы детство нам только снилось…
И вся основательно помятая братия уселась за стол, и Тоскливец в очередной раз был вынужден вытащить увесистый ломоть буженины и накромсать на скорую руку лука с солью. И напиток, принесенный Головой, скоро примирил их между собой, и с их возрастом, и с тем фактом, что молодость бывает в жизни всего один раз и исчезает, как луч солнца, который прорезает ночной мрак, предвещая восход небесного светила. А тут на огонек пожаловали Мотря и Дваждырожденный (он подозревал, что молчаливый счетовод тоже философ и все, правда, тщетно пытался молчуна разговорить), и на лице успокоившегося Тоскливца появилось выражение, отдаленно напоминающее человеческое, а Мотря все рассказывала о том, как она будет худеть, и от ее рассказов им стало даже жарко, хотя дом был не топлен, и разошлись они почти под утро, так и не догадавшись, что Голова устроил этот сабантуй только для того, чтобы избавиться от Васьки, который, как он надеялся, не посмеет появиться перед честной компанией. И только придя домой и даже пропустив вперед себя Гапку, он опять увидел на своей тахте зеленое пятно – Васька его уже дожидался, чтобы изводить рассказами о том, что в городе его ожидает совсем другая жизнь, и Галочка будет кормить его по-царски и возить на «мерседесе», и пусть Гапка лопнет от зависти, а там, может, и он, Васька, опять оживет и тогда уже Василий Петрович будет кормить его как следует…
От кошачьего маразма веки у Головы отяжелели, он рухнул на тахту и под свист пурги незамедлительно убыл в царство сна, в которое Ваське сегодня было не пробраться и в котором всегда происходило то, что Голове не удавалось наяву. Но ведь сны для того и существуют, и особенно они существуют для этого в Горенке, не правда ли?
Ночь перед Рождеством
Настроение у пасечника Хорька было хуже некуда – ревнивая и недоверчивая, как прокурор, Параська ни за что не хотела поверить в то, что это подлые пчелы испачкали его единственную приличную рубашку губной помадой. А на дворе тем временем смеркалось и все живое собиралось за столами, чтобы отпраздновать святой праздник. А у Хорька на столе не было ничего, кроме не вытертой наглой Параськой пыли; деньги, выданные им на праздничный ужин, Параська припрятала неизвестно куда, а других у него не было, и голодный его живот заходился в жалобном писке в холодной, нетопленой хате, в которой, как казалось Хорьку, уже никогда не будет тепло и уютно, и все его естество было склонно улизнуть к куму, чтобы хозяйственная Явдохушка усадила его за стол рядом с другими гостями и чтоб он там, а не с Параськой, встретил праздник, но стоило ему хоть на секунду преодолеть гравитацию и оторваться от стула, как Параська сразу же начинала визжать, как недорезанная свинья:
– Уйдешь – домой не приходи! Не пущу такого скота в дом, хоть ты на коленях в снегу весь день стой!
– Так что же мне умереть от голоду и холоду в родной хате, – пытался ее разжалобить Хорек, – ты там во Французской Гаване, или Гвиане, или как ее там, на солнышке выгрелась, приотдохнула, а я тут все лето ульи тягал, и на тебе – на праздник ни кусочка колбаски, ни рюмки горилочки, а на закуску – одни твои вопли, ну говорю тебе – об улей измазался, пчелы…
– Еще раз скажешь мне про пчел, я тебя вообще убью, – ответствовала Параська, поджала тонкие губы, и ее безутешное от Хорьковой подлости лицо приобрело еще более страдальческое выражение, при виде которого Хорьку стало жаль себя еще больше.
– Давай пойдем к куму вместе, а? – предложил он в сотый раз единственный возможный, по его мнению, вариант выхода из этой ситуации.
– Сиди уж! – в сотый раз ответила ему Параська. – Доходился ты уже, дальше некуда…
Однако на этот раз Хорек не выдержал и, подхватившись со стула, бросился к двери, по дороге схватив видавший виды кожушок, и опрометью, словно из ада, выскочил из родимой хаты вон, на волю. Вслед ему, разумеется, неслось не что совершенно неудобоваримое, причем не последнее место в Параськином монологе было уделено злополучным пчелам. А пчелы и в самом деле были ни при чем, просто чертовка, одуревшая от нестерпимого холода, решила на зиму переехать в деревню, сняла пустовавшую хату и притворилась молоденькой и пухленькой горожанкой, которую интересует медолечение. Ну и понятное дело, Хорек и принялся ее лечить и долечил до того, что почти перестал появляться дома, а Параська все хмурилась, и терпела, и уговаривала себя, что Хорек хочет, как лучше, чтобы хоть какую копейку зимой заработать, но этот жалкий самообман лопнул с треском, как мыльный пузырь, когда она обнаружила на Хорьковой рубашке бесстыдную красную помаду.
А Хорек тем временем несся по первопутку, как запутывающий следы заяц, и ледяной ветер, словно издеваясь, норовил сбить его с ног, но Хорек уже увидел заманчивый ориентир – яркий свет в Явдохином окне и, предчувствуя угощение, на автопилоте финишировал на хорошо знакомом ему крыльце и изо всех сил забарабанил в дверь, которая без промедления открылась. Хорек оказался среди радостных лиц, которые с каждой последующей рюмкой становились все более радостными, и охотно выпил десяток штрафных, чтобы не дать им себя обогнать, и мир вокруг него наконец приобрел хоть какой-то смысл, и мрачное Параськино лицо волновало его теперь уже не больше, чем давно забытые страдания неандертальцев, некогда обитавших в этих местах. И как оказалось – зря, потому что Параське дома одной не сиделось и пилить ей теперь было некого, то есть развлечься было нечем, и она решила из арьергарда перейти в авангард и подтянуть свои силы поближе к Хорьку, чтобы нанести ему последний и сокрушительный удар. И кое-как принарядившись, она заковыляла по следам супруга к дому Явдохи.
А Голова тем временем тщетно пытался заснуть – в гости он никого не пригласил, потому что Гапке было» не до приготовлений еды – все свое время она проводила за чтением журналов мод и в размышлениях о том, где взять денег, чтобы выглядеть, как ей теперь подобает. На щедрость Головы рассчитывать больше не приходилось, да и на его хорошее отношение тоже, а Тоскливцу все никак не удавалось выкурить чужую ему теперь Клару, которая пошла на попятную и даже собиралась затащить бывшего супруга под венец. В гости Голову тоже никто не пригласил – каждый думал, что уж Голову-то, конечно, кто-то уже пригласил, и не хотел нарываться на отказ. Из-за всех этих сельских тонкостей Голова оказался один-одинешенек наедине с загадочно красивой и бесконечно далекой, как еще неоткрытая звезда, Гапкой. Толку от нее, впрочем, не было никакого, и Голова, наевшись на голодный желудок чеснока с краюхой хлеба да запив это нехитрое угощение стаканом горилки, в котором багровел от стыда крошечный перчик, укрылся ватным, по сезону, одеялом и даже улыбнулся в предвкушении тех наслаждений, которые ему, Голове, предстояло вкусить в компании сговорчивых нимф, русалок, гурий и всех прочих обитательниц его заповедного рая. Но как только тяжелые его веки сомкнулись, тишина на улице взорвалась свинским хохотом, а затем послышались совершенно оскорбительные стишата, которые ничем, как казалось Голове, не напоминали колядки. К ужасу Головы, поэты-злопыхатели не забыли ни его, ни Гапку, ни Тоскливца, а Мотрю привязали к нему, и если бы Дваждырожденный это услышал… Голова покрылся холодным потом, который от охватившего его возмущения вскипел и испарился, но Голова все никак не мог заставить себя встать, поскольку надеялся, что мерзавцы уберутся сами по себе. Но проказники не для того весь день придумывали эти гадости, чтобы уйти восвояси не солоно хлебавши, без круга домашней колбаски и сулящей радость сулейки с раскрепощающим воображение напитком. И поэтому их хриплые голоса стали еще более хриплыми и еще более громкими, а так называемые колядки били теперь Голову просто по живому, потому что невидимые ему барды утверждали, что на его сорочке-вышиванке вышит нижний портрет Мотри и поэтому она столь огромна, потому что иначе «портрет» бы не уместился. Про Гапку было сказано, что она «вечно молодая кобыла без уздечки, а пришпоривать ее Голове уже поздно, и не погреться ему в ее печке, потому что поезд, которым управляет Тоскливец, уже увез ее в город Рогливец». Диванчик, который стоял у него в кабинете, почему-то был зарифмован с несуществующим словом «сранчик», и оттого, что такого слова на самом деле не существовало, Голове стало еще обиднее и он понял, что должен встать (чего ему ужасно не хотелось и, возможно, даже было противопоказано) и заставить себя выйти на улицу, чтобы осадить утратившую чувство меры молодежь. Но как только он оказался на крыльце и его обидчикам стало понятно, что он не собирается от них откупиться, ибо вышел с пустыми руками, десятки холодных снежков полетели ему в грудь и в лицо и ему пришлось спасаться бегством на исходные позиции. Гапка предательски заперлась в своей комнате и не подавала признаков жизни. «Гадюка, – подумалось Голове, – вот гадюка, сама кашу заварила, а мне расхлебывать». Про то, что в колядках упоминалась не одна только Гапка, он уже забыл. Ему пришлось достать из кладовки три кольца колбасы, десяток домашних сарделек и увесистую сулею и отдать все это в руки хохочущей молодежи, которая приняла эти дары без особого восторга и тут же унеслась куда-то в темноту. Улица снова опустела, и вдруг Голова, к своему удивлению, понял, что ему настолько одиноко, что даже своим обидчикам он был рад.
– Эх, ты! – сказал он и стукнул кулаком по Гапкиной двери. Но против его ожиданий на стук никто не ответил.
«Неужели ее там нет? Утащилась к Тоскливцу? Так нет же, ведь там Клара», – Голова не знал, как ему быть, вроде бы и дела у него никакого к Гапке не было, кроме, конечно, известного, но на это вряд ли приходилось рассчитывать, но, с другой стороны, его разбирало любопытство и он, поднатужившись, нажал на дверь и та упала внутрь. Как Голова и подозревал, Гапки там не было и в помине. Он не стал вставлять дверь обратно в петли – пусть сама попотеет, и к тому же он хотел дать ей понять, что ее подлость раскрыта.
Только после этого подвига на глаза ему попалась крошечная, написанная бисерным Гапкиным почерком записочка, лежавшая на столе: «Я у свояченицы, у нее и останусь».
«Гадюка и есть», – подумал Голова и хотел было опять улизнуть в царство сна, как на улице послышался звук тормозов. Голова выглянул в окно – и не поверил своим глазам – в синей, густо пересыпанной звездами ночной мгле тускло поблескивал Галочкин «мерседес». А тут еще и она сама вышла из него, правда, на этот разе не в фате, а в гражданском, и заковыляла по снегу на своих высоченных каблуках к дому Головы. А он и сам, ополоумев от радости, как ребенок, наконец дождавшийся мать, бросился к ней навстречу и ну давай ее целовать-обнимать. Он хотел сразу же затащить Галочку в дом, чтобы они не замерзли на холодном крыльце, но порыв ветра захлопнул дверь и путь к отступлению был теперь отрезан до прихода Гапки.
– Это даже хорошо, – успокоила его Галочка, – давай уедем ко мне.
Она сделала знак невидимому за затемненными стеклами водителю, и «мерседес» придвинулся вплотную к калитке. А еще через мгновение Голова вольготно развалился на мягком кожаном сиденье, а возле него сидела счастливая Галочка и держала его за руку. Пахло кожей и дорогими сигаретами, цены на которые всегда вызывали у Головы судороги.
– Через полчаса будем у меня, – ласково промурлыкала Галочка, и токи молодости огненными потоками заструились по его отяжелевшему телу. Но тут то ли черт подкузьмил, то ли наши дороги и климат не подходят для импортированной роскоши, но мотор заглох как раз тогда, когда они проезжали мимо Явдохиной хаты, и, понятное дело, все, кто там пригревался, как рой встревоженных пчел (вот уж эти пчелы!), выскочили на дорогу. Через несколько минут Голова уже сидел за столом рядом со своей Галочкой в Явдохиной хате и по обыкновению запихивал себе в рот все, до чего могли дотянуться его руки, отдавая предпочтение ветчине и буженине. А Галочка ничего не ела и только с обожанием смотрела на своего Васеньку. А Голова, глядя на нее, думал о том, что умные люди женятся на тех, кто любит их, а не на тех, кого любят они, и что женщину доброта украшает больше, чем красота, хотя еще больше ее украшает желание… И тоже нежно поглядывал на Галочку в надежде, что «мерседес» рано или поздно заведется и он окажется наконец там, где ему положено быть в силу, скажем так, родственных с хозяйкой «мерседеса» уз. И неизвестно, сколько продолжалась бы эта идиллия, если бы ее не нарушила незваная Параська, явившаяся, чтобы сквитаться с Хорьком, который уже дошел до такой кондиции, что, увидев супружницу, решил, что стал жертвой очередного кошмара и Параська ему просто снится. Параська и правда первые пять секунд себя сдерживала, но не увидев на довольной харе Хорька и тени раскаяния, как Немезида, обрушила на него карающую десницу, и тот сразу сообразил, что сон был в руку. Галочка с любопытством рассматривала весь этот фольклор, но никакого участия в нем не принимала. А тут вдруг Явдоха уловила какой-то тревожный флюид и что-то зашептала на ухо батюшке Тарасу, который сидел между ней и попадьей. А уловила Явдоха вот что: возле хаты Козьей Бабушки, с которой она совсем недавно отпаивала впавших в детство горенчан, происходит что-то неладное… И Явдоха вскочила с лавки, а с ней увязались Богомаз, поп и Хорек, решивший хоть так спастись от Параськиного рукоприкладства.
А на улице была святая ночь – фиолетовая и спокойная, и ангелы радостно летали среди звезд, возвещая всему сущему Благую Весть. А к окошку хаты Козьей Бабушки прилипли двое голодных бомжат, которые неизвестно как попали в эту ледяную пустыню. Они долго бродили по деревне, но людей не нашли, и кроме собачьего лая, никто чужаков не приветствовал. И дети уже замерзли почти насмерть, а Козья Бабушка сладко спала и не слышала как по стеклу все слабее барабанят детские руки. Явдоха схватила на руки одного из них, батюшка Тарас второго, и вскоре спасенные дети, которые задумали найти тетку одного из них и перепутали и село, и дорогу, были накормлены и сидели в тепле. И как только все улеглось и успокоилось, оказалось вдруг, что в компанию затесался Тоскливец с Кларой – они сидели за столом с таким видом, как будто сидели за ним всегда, и Петро Нетудыхата, хоть насколько уж он был казак, а постеснялся выгнать взашей непрошеную парочку, а тут в дверь снова постучали. Явдоха тревожно осмотрела стол, за которым и так уже не оставалось ни одного свободного места, Петро открыл дверь, и перед взором порядком уже нагрузившегося сообщества оказалась та городская дамочка, которую Хорек лечил медком. Параська при виде ее зашипела, как спущенная шина, но остальные ее радостно приветствовали, и Хорек с замиранием сердца осознал, что, видать, она хорошо знакома не только с ним. Явдоха от досады, что в дом к ней лезут все, кому не лень, махнула рукой, но выгонять ее не стала, хотя и чувствовала себя при ней как-то странно, словно внезапно заболела гриппом, и пирушка продолжала набирать обороты. Но тут Голова почувствовал у себя на голове нечто ему хорошо знакомое – в ужасе он ощупал себя руками и покрылся холодным, отвратительным потом – не было никаких сомнений в том, что проклятые рога опять пробиваются наружу, чтобы позорить его перед всем честным народом, а так как шляпу он оставил в машине, то деваться ему было некуда. Но тут он обратил внимание, что за голову держится не он один – Тоскливец и Хорек тоже внимательно изучали собственные черепа и при этом понимающе поглядывали на него. И в этот самый момент произошло чудо, о котором долго потом вспоминали в Горенке в длинные зимние вечера, когда и поговорить-то особенно не о чем – батюшка Тарас прикоснулся к нагрудному кресту, и тут же непрошеная городская гостья покрылась черными, как смоль, волосами, а затем испарилась, как газ из бутылки с газированной водой, оставив после себя пустой стул да неприятный запах.
– Так вот с кем ты шляешься, – завизжала Параська и так врезала Хорьку по только что прорезавшимся и еще невидимым под остатками былой шевелюры рожкам, что голова у него чуть не лопнула от боли, он вскочил и, не одеваясь, побежал к Васылю, а за ним – Голова, который, правда, успел предупредить Галочку, что он ненадолго, и Тоскливей, который ничего не сказал Кларе, но та и так не подумала, что он побежал покупать ей подарок, и поэтому, пока он отсутствовал, принялась засовывать в свою сумочку все, что могла утащить со стола, не привлекая особого внимания основательно принявших на душу гостей. Как это ни странно, но их стремительное бегство не вызвало никакого любопытства, потому что про себя каждый решил, что они просто перебрали и вышли, чтобы освежиться. И через полчаса, когда они возвратились, им удалось незаметно занять свои места, и при этом каждый из них злорадно улыбался, поглядывая на опростоволосившихся друзей по несчастью.
«Так Тоскливец таки с ней тогда в моем шкафу развлекся, – думал Голова, – вот ненормальный». А Тоскливец думал: «Выходит Голова цыганку успел развлечь до меня, до того, как я залез в шкаф. Вот боров!». А Хорек не знал о том, что рога они приобрели себе раньше, и думал, что «стоит только какой-то городской, даже если это дьяволица, оказаться в селе, и Голова с Тоскливцем, вместо того чтобы справлять службу, виснут на ней, как елочные игрушки, и потом – на тебе – рогачу всего руководства». О своих собственных рогах он как-то сразу забыл, но ведь если бы не забывчивость, то представляешь, читатель, сколько всяких неприятностей вынуждены были бы хранить в своей памяти жители нашей славной Горенки? Нет, в слабой памяти, особенного сильно пола, есть свои многочисленные положительные стороны!
Но тут в дом зашел Галкин водитель и сообщил, что машина в порядке и можно ехать. И Голова, которому уже не хотелось никуда ехать, поднялся и пошел к машине, мысленно проклиная весь женский пол, который вносит столько сумбура в степенную мужскую жизнь. Машина и в самом деле ожила и неслась, щеголяя всеми своими импортными лошадиными силами. Но приехали вовсе не домой к Галочке, где Голове не раз доводилось в молодости бывать, а к какому-то казенному, мрачному зданию, которое к тому же оказалось больницей. Их встретила неприветливая и заспанная медсестра, которая привела их к не менее заспанному врачу, который, судя по всему, был с Галочкой хорошо знаком, потому что говорил ей «ты» да и вообще увел ее в соседний кабинет, отгороженный только тонкой фанерной стеночкой от того закутка, где сидел полностью сбитый с толку Голова, который никому и никогда не доверял, он тут же приник к ней своим ухом, и то, что он услышал, поразило его, подобно тому, как холодная игла пронзает еще трепыхающегося жука, чтобы превратить его в экспонат: Галочка уверяла врача, что ее друг очень просит, чтобы ему сделали наркоз и кастрировали.
– Но он же должен написать мне заявление! Как я потом докажу, что он меня об этом просил, если утром он передумает и подаст на меня в суд?
– Не передумает. Писать заявление ему не с руки – он человек высокопоставленный, у всех на виду, но вот только при виде женского пола не может сдерживать известные порывы. Мне он как брат, вот он и попросил меня все уладить, чтобы не было людям стыдно в глаза смотреть… Так что, доктор, без всяких сомнений – вперед! А это он вам передал. Из-за стенки раздался шорох – доктор пересчитывал банкноты. Вопросов он больше не задавал, потому что купюры, как подумалось Голове, развеяли его сомнения и наполнили решимостью жестокие руки, которые вот-вот возьмутся выполнять задуманный Галочкой ужас. За ним придут санитары, и тогда…
Нет, Голове совсем не хотелось дожидаться продолжения этого диалога и на одеревенелых от ужаса ногах он бросился вниз по лестнице, выскочил во двор и с облегчением увидел, что «мерседес» дожидается их прямо возле входа.
– Эй, – забарабанил он по стеклу, – ты это, наверх пойди, хозяйка тебя зовет, а я в машине посижу, да только ты мотор не глуши, чтобы я тут от холода не околел.
Водитель ушел внутрь здания, а Голова пересел на переднее сидение и легонько нажал на сцепление. Машина заурчала, как довольный кот, и плавно тронулась с места. Правда, машину он не водил уже лет пять, с тех пор как районное начальство экспроприировало у него «Ниву», но и деваться было некуда, а она, послушная, как Галочка в молодости, ринулась в сторону Пущи-Водицы и, набирая скорость, понеслась все быстрей и быстрей. Вот уже и проспект Победы остался далеко позади, и площадь Шевченко… «Не могут машины так быстро ездить, – думал Голова, – нет ли в этом чего-нибудь дьявольского?». Дело в том, что он чувствовал себя, как на ковре-самолете, и быстро оставлял за собой огромный город, в котором люди давно уже собрались за столами. А по улицам скользили серые тени – то ли задержавшихся прохожих, то ли людей, которым некуда было идти, то ли воров… Голова опять вспомнил, что дома его никто не ждет, кроме тахты, и сердце его тревожно сжалось. «Подвела, Галка, подвела, – думал Голова, – я-то уж понадеялся, что опять заживу с ней и она будет гладить мне рубашку, и провожать на работу, и всегда улыбаться, и все там такое, а она мне доктора подсунула. С ножом!». Но тут мысли Головы были прерваны – за ним послышались надоедливые и отвратительные звуки милицейской сирены, и сердце у Головы тревожно екнуло и скатилось куда-то вниз, почти под ноги, а глаза наполнились слезами – Голова преисполнился жалости к самому любимому им человеку – к себе. Да и было отчего – он ведь мог спокойно спать под ватным одеялом и видеть причитающиеся ему по положению сны, а его увезли в город для известной операции, а теперь уже и милиция гонится за ним во весь опор, а он, конечно, выпивши, так кто же не пьет в Святую Ночь? Но тут, к счастью для Головы, завиднелся лес, и Голова благоразумно свернул от греха подальше с главной дороги, забыв, что «мерседес» не вездеход и не предназначен для поездок по заснеженному лесу. Но, к счастью для Головы, машина не застряла, и он, выключив фары, чтобы не привлекать ненужного внимания, стал пробираться окольными путями к родному селу. «Пусть потом докажут, что я машину угнал, – храбрился Голова, – а я их обвиню в покушении на мою девственность. И думаю, в медицинском смысле, это близко к истине». К его удивлению, возле дома его ожидала Галочка – она прикатила по прямой на другом «мерседесе», из которого вылез уже знакомый ему водитель, он сел на освобожденное Головой место, и машины цугом тронулись в сторону города. Перед тем как уехать, Галочка опустила окно, и он робко спросил у нее:
– Неужели и ты меня не любишь?
Галочка улыбнулась.
– Любить тебя? А ты меня эти тридцать лет любил? Ты мне позвонил хоть раз, от радости или с горя, все равно, но позвонил? Ты выбросил меня, как перегоревший утюг, и вычеркнул меня из своей жизни, и тебе было все равно, где я, болею я или здорова, или меня бьет муж-алкоголик, или что-нибудь там еще… Тебе было все равно… И я подумала, что все, что я могу для тебя сделать, – это кастрировать, ибо духовно – ты уже кастрат: кто-то ампутировал твою душу и вместо нее ничего не дал взамен… Ну что тут скажешь…
– Гапка меня околдовала. А ты вообще решила меня доконать… Даже если ты права и, этой, как ее, души у меня уже нет, – только и нашелся сказать пораженный таким ходом событий Голова, – то, во-первых, неправда, что я тебя никогда не вспоминал, совсем неправда. Очень даже вспоминал, особенно в первое время…
– Знаю, какой ты меня вспоминал, можешь не говорить, но я это все для тебя вытворяла, чтобы ты угомонился и не пожирал глазами всех женщин подряд… Да что там говорить, надо было тебя еще тогда…
– Да что ты зациклилась на операции! – не выдержал Голова. – Да посмотри ты вокруг себя – все живут, как могут, и никто никого, кроме котов, не кастрирует. Злодейка!
В возмущении он покрутил пальцем возле виска. Галочка пожала плечами, что-то сказала водителю, и машины тронулись и исчезли из виду, а снег тут же замел отпечатки шин и можно было подумать, что Голове просто приснился страшный сон.
Так толком и не поужинав и совершенно изнервничавшись, Голова оказался все на той же тахте, под тем же, по сезону, ватным одеялом. «Ну неужели не бывает по-настоящему добрых и ласковых женщин? – засыпая думал он. – А если бывают, то где их искать? И хотят ли они, чтобы их нашли? И как умудриться не тратить на них деньги?». Но вместо гурий ему приснился кот Васька, который нудил про то, как утомительно быть привидением кота, и требовал к себе внимания и ласки. А потом оказалось, что это вовсе и не сон, а кот на самом деле сидит у него в ногах и утверждает, что сидеть будет всю ночь, потому как для него единственный способ развеять тоску – на кого-нибудь ее нагнать.
– Васька, уберись, а, – просил Голова его жалобным голосом, – я и так сегодня устал…
– Знаю, знаю, – кастрировать тебя хотела Галка. Да не пофартило ей – удрал ты, гад.
– Ну ты вообще! – от возмущения вскричал Голова. – Тебя-то я и не думал кастрировать, хотя ты таскался где-то вместо того, чтобы ловить мышей, которых, как ты сам говоришь, в доме превеликое множество.








