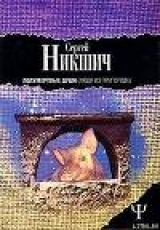
Текст книги "Люди из пригорода"
Автор книги: Сергей Никшич
Жанры:
Юмористическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 16 страниц)
– Потный труп! – завопила Гапка. – Зловонная, похотливая падаль! Членоголовый кастрат! Протухшая задница! Клонированная мошонка! Изуверская выхухоль! Изуродовал меня! Меня, которая любила тебя так, как никто тебя, быть может, и не любил…
Но тут по обличности Тоскливца расползлась предательская улыбка, и Гапка поняла, что любила Тоскливца так не она одна, но это ее не опечалило, а ввело в еще больший раж, и она жадно глотнула воздух и стала придвигаться к потаскуну, чтобы его раз и навсегда уничтожить вместе с его осклизлостью, потливостью и жадностью.
А Тоскливец по своему обыкновению затоскливел еще больше, потому что вместо десерта на него выплескивали помои и, кроме того, он не понимал, для чего Гапка орет, – даже Клара не утруждала так свои голосовые связки, понимая, что кричать на него все равно, что выкрикивать оскорбления вечно шумящему морю, и, как правило, только шипела на него и кулаками наставляла его на путь истинный. Кроме того, Тоскливец весьма смутно представлял себе, что такое выхухоль, потому что все, чему его учили в школе, он уже давно забыл, а в его единственной книге об этом ничего не было сказано. Он бы очень удивился, если бы узнал, что и Гапке это тоже не известно, но она уже, как пифия, вошла в трансовое состояние и теперь ею руководили хтонические, страшные силы, доступные и понятные лишь шаманам.
А Гапка все придвигалась к Тоскливцу, но уже не как та любезная дамочка, что навещала его втайне от Головы, а страшная в своем гневе амазонка, и мошонка Тоскливца, которая вовсе не была клонирована, тревожно, как второе сердце, запульсировала от предчувствия основательного мордобоя. Но ему повезло, потому что Гапка в последний момент передумала меряться с ним силами, так как поняла, что перед ней открывается все та же пропасть, в которую она падала тридцать лет с Головой, и решила, что пока ей еще на вид лет двадцать, а волосам ее ничего не сделается – за месяц отрастут, то не следует марать руки об это ничтожество, и отступила, оглушительно хлопнув ни в чем не повинной страдалицей-дверью, в сторону родимой хаты, решив, что отсидится там, пока все образуется. Надо сказать, что она так никогда и не узнала, что пока она произносила свою гневную тираду, из-под пола ее внимательно слушала самая благодарная из слушательниц – Клара. Дело в том, что Клара, переодетая в мышь и с мешком в руке, вдохновенно выполняла особо важное задание Мефодия – крала все, что под руку попадется, а так как ей хорошо было известно, где у Тоскливца хранится неприкосновенный запас, до которого Гапка так и не добралась, то Клара намеревалась основательно набить свой искричавшийся от голода желудок и выданный Мефодием мешок. Прислушиваясь к сочным Гапкиным эпитетам и сочувственно покрякивая, Клара упорно пилила ножовкой размером с ученическое перо кольцо ароматной домашней колбаски, то и дело с голодухи перекусывая и отпуская проклятия в адрес Тоскливца, который довел ее до мышиного образа жизни.
Но тут Клара почувствовала, что кто-то мало доброжелательный подсматривает за ее манипуляциями с колбасой. Оглядываться ей не хотелось, потому что если окажется, что это кот или крыса, то не добраться ей тогда до того сомнительного пристанища, которым стало для нее подземелье гномов, известное среди его обитателей как «поддубье», или в просторечьи – «дубятник». Но и не оборачиваться никакой возможности не было, и Клара, сжав рукоятку пилы, прыгнула в сторону и оглянулась. За ней стоял кот. Зеленый и страшный, как сама смерть, он нагло заурчал и протянул к ней свою отвратительную, когтистую лапу. Клара не раздумывая ударила по лапе пилой, но та прошла сквозь нее, как сквозь туман, и Клара сообразила, что перед ней привидение.
«Привидение мне ничего сделать не может», – сообразила Клара и, не теряя ни секунды, принялась опять пилить колбасу.
– Не уважаешь, – услышала она за собой вальяжный, бархатистый от наглости голос кота, – а ведь я могу на тебя донести Тоскливцу, и тогда он запустит сюда настоящего кота, которого он держит со вчерашнего дня…
– Не лги, глупое привидение, – сурово парировала Клара, не прекращая ни на мгновение сражаться с колбасной шкуркой – трудно преодолимым препятствием для такого крохотного существа, как гном, переодетый мышью, – Тоскливей, не может завести кота, потому что того нужно кормить… Он умудрился даже Гапку изуродовать, чтобы не тратиться на ее туалеты. Она, конечно, не красавица, но все же собой недурна – слышишь, как она там заходится. И я не удивлюсь, если под глазами у нее черные круги, скажем так, от чрезмерного аппетита. Но Тоскливец, насколько я знаю своего суженого, рассчитывал совсем не на тот аппетит и, как оказалось, просчитался. Так что не лги мне про кота…
Оглушительно захлопнувшаяся наверху дверь подтвердила правоту ее слов.
– А если я сейчас все расскажу Тоскливцу, – продолжал канючить кот, которому не удалось напугать бывалую Клару, – что тогда? Он ведь, наверное, не обрадуется тому, что наглая мышь пытается проделать дыру в его колбасе и бюджете, да еще к тому же пилой!
Только тут до Клары дошло, что подслеповатое привидение так и не сообразило, что перед ним не настоящая мышь, и чтобы избавиться от навязчивого собеседника, которому явно хотелось просто поболтать, Клара на мгновение приподняла маску и Васька, который как раз собирался выдать очередной перл кошачьей мудрости, от страха чуть повторно не отправился на тот свет, но вдруг что-то припомнил и, оглядывая и ощупывая себя, заорал: «Спасен! Спасен! Спасен! Ты меня спас, гном, ведь привидение кота, увидев гнома, становится опять котом, и за это я тебя не сожру, хотя я и не ел целую вечность! Но этой колбаске несдобровать!».
И противная зелень, покрывавшая Ваську, растворилась в подвальном мраке, уступая место благородной серой шкурке в аккуратных полосочках, и Васька оттолкнул Клару и набросился на колбасу подобно тому, как храбрый солдат набрасывается на неприятеля.
Но тут и с Кларой что-то произошло – ведь она была не настоящим гномом, – и она внезапно увеличилась в размерах и своей извечной дулеобразной прической пробила столь горячо любимый Тоскливцем паркет, и паркетины разлетелись, как домино, и голова Клары оказалась между широко расставленными ногами Тоскливца, который, как всегда, пребывал в состоянии задумчивости – на этот раз он не знал, как ему быть дальше, – он лишился и Клары, и Гапки и в глубине души склонен был считать такое развитие событий происками Головы. Надо, впрочем, заметить, что Кларе очень повезло, потому что Тоскливец на этот раз не обмочился от страха, но люди, как известно, редко догадываются о том, в чем именно заключается их счастье.
– Мышь! – заорал Тоскливец и на всякий случай врезал незваной гостье по макушке первым, что попалось ему под руку, – книгой с неизвестным названием, потому что его насмерть перепугало появление мыши размером с хорошо упитанного бульдога. Но тут маска съехала с опешившей мыши и хорошо знакомая Тоскливцу, грозная, как Немезида, обличность показалась из-под нее. Несколько минут Тоскливец не мог оторвать от ее лица изумленный и одновременно перепуганный взгляд, словно перед ним появилась не бывшая половина, а выходец с того света, но в этот момент облако пыли, вырвавшееся из пожелтевших страниц, заставило их обоих расчихаться и загипнотизированному Тоскливцу удалось наконец оторвать взгляд от обворожительного Клариного личика, вызвавшего у него такой ужас.
– К-карнавал у тебя, что ли? – заикаясь от страха, спросил Тоскливец.
Но Клара ничего ему не ответила, потому что она не хотела, чтобы Тоскливец узнал, что она была гномом (ей казалось, что это неприлично), и еще не придумала, что ему солгать.
Но тут Тоскливец в дыре рассмотрел лихорадочно пожирающего колбасу Ваську и вынужден был на некоторое время позабыть о супружнице и броситься спасать от вора то, что тот еще не успел сожрать. Но и Васька был не лыком шит и, зажав в зубах круг колбасы, бросился искать выход из дома Тоскливца.
– Брось, негодяй! Брось, и я открою тебе дверь, а не то…
Но Васька, который не ел с того злополучного дня, когда Дваждырожденный переехал его мотоциклом, скорее расстался бы опять с жизнью, чем с колбасой. На его беду оказалось, что Тоскливец, как человек по-своему нервный, всегда тщательно запирал двери и окна, и поэтому Ваське, спасаясь от Тоскливца, пришлось носиться кругами по дому, расшвыривая все на своем пути, потому что с остекленевшими глазами, багровый от непривычных для него усилий Тоскливец несся за ним по пятам и в глазах у него был написан заранее вынесенный приговор, который не оставлял внезапно ожившему Ваське ни малейших шансов на продолжение рода. И, спасая себя, Васька прыгнул прямо в оконное стекло, разнес его вдребезги и, так и не расставшись с ароматной колбаской, оказался во дворе, взлетел на забор и был таков. А Тоскливец с Кларой остались в холодном доме, в котором с каждым мгновением становился все холоднее, потому что зловредный холодный воздух сразу, как вода сквозь пробоину, хлынул внутрь через разбитое стекло. Они старались не смотреть друг на друга – не потому, что им было стыдно, а потому, что сказать друг другу им было совершенно нечего, хотя они прожили вместе целую жизнь.
– Может быть, собаку заведем, – предложила Клара, чтобы хоть что-нибудь сказать, забыв, что Тоскливец никогда не держал домашних животных, опасаясь, что они могут его объесть.
В ответ на этот, как ему показалось, выпад Тоскливец рухнул в постель и открыл свою вечную книгу, явно отдавая предпочтение ей, а не Клариной молодости, потому что хотел, притворившись, что читает, все тщательно обдумать до того, как решится на общение с бывшей половиной.
А Васька, понятное дело, добрался до родного дома быстрее, чем Гапка, которая почему-то прихрамывала и которой возвращаться домой было тошно. И Васька, у которого по животу растекалось приятное тепло от колбаски Тоскливца, жизнерадостно поскребся в дверь, и Голова ему тут же открыл и, только когда тот разлегся на полу в кухне, вспомнил, что кот уже давным-давно окочурился.
– Ты как это? Ожил что ли? – спросил его Голова, но тот молчал, потому что коты умеют разговаривать (иногда довольно нагло) только тогда, когда превращаются в привидение.
– Ага, так, значит, я теперь могу спать спокойно, – обрадовался Голова, – и ты не будешь донимать меня своими дурацкими разговорами. Да?
Но кот молчал и, как все коты, делал вид, что не понимает, о чем ему толкует хозяин. Но Голове теперь уже точно было известно, что тот притворяется, и он вытащил из холодильника селедку, отрезал голову и стал заставлять Ваську служить. А Васька недавно наелся до отвала колбаски, и селедочная голова не вызывала у него особого аппетита, но из уважения к хозяину он потянулся, грациозно прогнув спинку, и встал, проклиная дурость Василия Петровича и свою жадность к рыбе, на задние лапы.
– Служи! Служи! – не унимался радостный Василий Петрович, перед которым теперь опять открывались известные перспективы в царстве сна, но тут дверь распахнулась и в облаке пара перед ним явилась мрачная, как скифская баба, Гапка. Голова, уже привыкший к мысли, что он – холостяк, ее приходу не особенно обрадовался и поэтому сразу же попал в еще большую немилость.
– Гад, – сообщила ему Гапка сквозь зубы, – я – твоя! И громко захлопнула за собой дверь своей комнаты.
«Что бы это не означало, – подумал Голова, – но мне лучше отсюда смыться».
– Прощай, Васька, – попрощался он с домашним животным, потому что после тридцати лет супружеской жизни прощаться ему в этом доме больше было не с кем, схватил пальто и побежал на трамвайную остановку.
А Гапка улеглась на постель, уткнулась головой в подушку, чтобы ее рев не услышал торжествующий из-за ее поражения Голова, и рыдала до тех пор, пока не услышала возле себя запах селедки.
«Василий Петрович, видать, пожаловал, – подумала Гапка, – зря, однако, я ему пообещалась». Но свое горе, она не могла ему это показать, и слезы на ее лице испарились, когда она оторвала лицо от подушки, то на нем блуждала безмятежная, радостная улыбка, словно именно сегодня исполнилась ее самая заветная мечта. Но комната была пуста, и только вонючий Васька был обнаружен в небезопасной для него близости от хозяйки, за что и был сразу же выдворен из дому на свежий воздух.
«Тебя бы на этот свежий воздух», – подумал Васька, который свежий воздух, как и все коты, переносил зимой только в умеренных дозах, но дверь за ним захлопнулась и он, гордо задрав хвост трубой и не оглядываясь назад, отправился совершать вынужденный моцион.
А пока Гапка предавалась унынию, Голова добрался до города, и перед ним распахнулась дверь в Галочкину квартиру – она сама в домашнем халатике открыла ему, и хотя она разговаривала на каком-то неизвестном ему языке по мобильному телефону и не с ним, а с человеком, ему, Голове, совершенно чужим, он не осерчал, а запросто ввалился, как к себе домой, в пахнущую чем-то вкусным и свежим квартиру. А Галочка, закончив говорить по телефону, вовсе не удивилась его приходу, словно он сюда всякий раз возвращался после работы или пирушки, и предложила ему подкрепиться, чем Бог послал. Оказалось, что Всевышний неплохо о ней позаботился, и они долго сидели в столовой до того, как перешли в спальню, и Голове казалось, что именно в этой квартире он и прожил все эти годы, а Гапка, Васька и все прочие занудливые обитатели Горенки во главе с Тоскливцем ему просто приснились… И тут на него снизошло второе дыхание, и вторая молодость, и давно забытая нежность, и что-то еще, что словами не выразить, но и нужно ли все выражать словами? И безжалостное время смилостивилось над ними и свило вокруг них непроницаемый для людского взора невидимый кокон, из которого доносились теперь лишь ласковые вздохи, а на улице весело светили фонари-звезды, между которыми летали ангелы, и мир и тишина опустились на миг на грешную землю…
«А как же Мотря? – спросит взыскательный читатель. – Неужели автор забыл про Мотрю?». Да нет, уважаемый читатель, непросто забыть про такое архитектурное сооружение под рыжей гривой, которое к тому же так лихо гадает на картах, хотя и следует признать, что мы немного отвлеклись из-за проделок других героев нашего незамысловатого повествования. Итак, вперед, читатель, мы расскажем тебе про Мотрю!
А с Мотрей мы расстались на ступеньках ее дома, когда она советовалась со звездами да поджидала Дваждырожденного, который заседал в корчме вместе с Хорьком и Богомазом и совсем не спешил возвращаться к домашнему очагу. И Мотрю это обидело не на шутку. И поскольку упрямства ей, как и всем обитателем здешних мест, было не занимать, она решила, что ни за что не зайдет в дом, а будет ждать Дваждырожденного на крыльце, даже если при этом она замерзнет насмерть – пусть ему будет стыдно и пусть он тоже умрет, но не от холода, а от стыда, и их тогда похоронят рядом, и они будут лежать вместе, как верные лебеди. От таких мыслей слезинки-льдинки скатывались по Мотре прозрачными шариками, и скоро уже у ее ног их образовалась небольшая пирамидка. Мотря попыталась посмотреть на звезды, чтобы разглядеть, что они ей пророчат, но глаза у нее слезились и от жалости к себе, и от холодного ветра, и она ничего на небе больше не рассмотрела тем более, что очки, купленные по секрету в городе, она забыла в доме, куда поклялась без Дваждырожденного не возвращаться. Ей показалось, правда, что звезды погасли, потому что кто-то невидимый разорвал черный бархат, на который они были нашиты, а потом быстро, стремясь исправить ошибку, возвратил его на место и звезды засияли снова, даруя людям надежду на завтрашний день. И еще… Мотре показалось, что на фоне выглянувшей и, как всегда, довольной собой луны * она увидела ведьму на метле, которая медленно пролетала над Горенкой.
«Замерзаю, – подумала Мотря. – Глаза слезятся, и мне мерещится черт знает что. Но тем лучше, пусть Дваждырожденный меня найдет с двумя большими солеными льдинами в глазах, пусть поймет, что я плакала, его дожидаясь, и замерзла от холода и… горя».
Но Мотре не показалось – над Горенкой, воспользовавшись тем, что супруг ее засел с кумом и Дваждырожденным в корчме, прогуливалась в ночном небе Явдоха. И она своим орлиным взором разглядела Мотрю и сразу обо всем догадалась.
«Только этого мне еще не хватало, – подумала Явдоха, резко набирая скорость, чтобы немедленно возвратиться домой. – всякая погань наползает в село и из города, и из леса, а хорошие люди вытворяют такое, что хоть святых выноси! Надо же – она придумала замерзнуть, а мне потом придется отхаживать ее дружка валерьянкой, да еще и не известно, перенесет ли он вообще такое развитие событий – Мотре-то ведь неизвестно, что в Афган он попал совсем еще ребенком и что она – его первая любовь, и если она умрет, то, как пить дать, заберет с собой на тот свет и его душу. Ох, люди…».
Оказавшись дома, Явдоха переоделась и побежала в сторону корчмы – сначала она хотела ворваться в нее и за уши потащить Дваждырожденного к нему же домой спасать Мотрю, но потом одумалась и, приблизившись к злачному месту, стала внушать Дваждырожденному, что домой к нему забрался вор-библиофил и, пока он тут несет всякую чушь в философской упаковке, вор норовит украсть у него самые ценные фолианты, без которых Дваждырожденный, ясное дело, не представляет свою жизнь. И Явдоха так ловко притворилась его внутренним голосом, что у того никаких coмнений не возникло, он вскочил и с криком «Держи вора!» опрометью бросился на улицу. Хорек и Богомаз только плечами пожали и неторопливо продолжили степенную мужскую беседу, которая, как общеизвестно, отличается от женской болтовни только тем, что в ней якобы присутствует какой-то смысл.
А Дваждырожденный добежал наконец до своего дома, но обнаружил не вора, а Мотрю, которая уже почти замерзла и превратилась в необъятный ледяной столб, грозящий вот-вот рухнуть и расколоться на множество мелких осколков. О том, чтобы взять Мотрю на руки, не могло быть и речи, а подъемного крана поблизости, разумеется, не было, и Дваждырожденный как мог плавно опустил ее на крыльцо, а сам бросился в дом за ковром, который подоткнул под нее и втащил внутрь. Мотря, однако, и в самом деле почти умирала, и Дваждырожденному немало пришлось потрудиться, пока она открыла свои огромные глаза и его узнала. И еще ей показалось даже, что она увидела его робкую и нежную душу, голубую на цвет и похожую на девушку, которая выглядывала из-за него, словно давая понять, что все обойдется. Или она так замерзла, что оказалась во власти галлюцинаций? Кто знает… Одним словом, Дваждырожденный ее отходил и миллион раз поклялся, что не будет оставлять ее одну и всегда будет с ней и что они незамедлительно обвенчаются и в любви и согласии проживут остаток своей жизни. И когда они наконец выговорились, вдруг неизвестная Мотре и Дваждырожденному музыка зазвучала в наступившей тишине. Позже Дваждырожденный, только в корчме и только по большому секрету, рассказал как-то Богомазу, что дома у них зазвучала музыка сфер, словно благословляя их брак, и Богомаз поверил и даже мысленно пожелал ему, чтобы у Мотри где-нибудь в кладовке не обнаружилась привычная к верховой езде метла.
Следует, однако, заметить, что и недели не прошло, как сыграли в Горенке свадьбу Мотри и Дваждырожденного. И Мотря родила ему множество мальчиков, причем все они как один обладали склонностью к философии и по этой причине многого добились в жизни, хотя Мотря и считала, что эта та божественная музыка, прозвучавшая тогда в их доме, как путеводная звезда, направляет по жизненной стезе ее отпрысков, не давая им сбиться с пути.
Вот, пожалуй, и все о событиях тех бурных дней, и мы как бы выходим на финишную прямую нашей истории. Разумеется, мы могли бы бесконечно рассказывать о Горенке, в которой автор, пребывая еще в нежном возрасте, отдыхал во время летних каникул и тщательно записывал поразившие его детское воображение рассказы ее диковинных обитателей, но мы боимся утомить нашего взыскательного читателя всеми этими бесконечными, как нам кажется, подробностями. Скажем лишь, что Хорек впоследствии вдруг продал ульи и открыл в Горенке Интернет-кафе, но этим тут же не преминули воспользоваться черт с чертовкой, чтобы попытаться подло одурачить православных, и что Голова проник в великую тайну Тоскливца, которая настолько поразила воображение горенчан, что те поначалу только о ней и говорили, но потом, опасаясь что сойдут с ума, объявили услышанное отъявленной ложью и зажили, как им это и свойственно, мирно, счастливо и беззаботно. Но обо всем об этом – в свое время, ибо всему свой черед.








