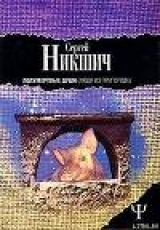
Текст книги "Люди из пригорода"
Автор книги: Сергей Никшич
Жанры:
Юмористическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 16 страниц)
Сергей Никшич
Полумертвые души
Люди из пригорода
Украинские волшебные повести-поэмы для взрослых
Посвящается В.В. Никшич
Богомаз и черт
Что ты, кум, знаешь про Горенку? Да ни шиша ты не знаешь, чтобы хуже не сказать, прости Господи! Явдоху ты разве знаешь, Явдоху, у которой зад, что та тыква с огорода татарина Бахтияра? А Мотрю, Мотрю, у которой не груди, а макитры с белоснежной сметаной… Нет, кум, ты – невежда, и посему молчи, молчи и молча пей, пока злобная твоя супружница не пронюхала, что ты в корчме, – так витийствовал за столом из грубо обтесанных досок деревенский Богомаз Петро Нетудыхата, которого ни за что нельзя было остановить, стоило ему хоть немного промочить горло от уличной пыли.
Впрочем, на его кума, пасечника Степана Хорька, все эти речи не производили ровно ни малейшего впечатления, и он и вправду молчал, но не потому, что был так уж несведущ в тыквах и макитрах, а потому, что опасался, что за ставнями корчмы и вправду притаилась не отличавшаяся ангельской кротостью его половина, от рук которой не раз страдал его пышный чуб, превращаясь со временем в жалкое подобие казацкого оселедца.
А Петро разошелся не на шутку – не легко ему было весь день молча сидеть в своей хате за святыми образами, которые с немым укором взирали на его несколько расплывчатую от чрезмерно близкого знакомства с зеленым змием обличность.
– Нет, ты мне скажи, скажи как куму и брату, другу своему сердешному – знаешь ты Явдоху или нет?
Вопрос этот поверг его собеседника в трепет, потому что от одной только мысли, что ответ может быть услышан свирепой его половиной, шпионившей за ним денно и нощно, остатки его чуба начали ныть как от зубной боли, и поэтому он от греха подальше свалился на пол, устланный остатками когда-то цветастой ковдры, и захрапел, давая понять, что куму ничего из него вытянуть не удастся.
Надо заметить, что интуиция Хорька не подвела, – за ставнями и на самом деле притаилось изогнутое в дугу, шваброобразное тело его половины, увенчанное, словно набалдашником, длинной, под стать худосочному телу головой. Со сверкающими от гнева глазами и щелкающими зубами, с копной сбившихся в паклю волос, заправленных по этой причине под очипок. Признайся только Хорек, что не раз любовался, правда, на расстоянии, теми прелестями, про которые на всю корчму ораторствовал подвыпивший кум, и кто знает, что осталось бы к утру от казацкой чуприны любвеобильного пасечника да и от него самого.
Ситуация эта позабавила черта, который пробегал в темноте мимо желтых окон корчмы, размышляя, как бы поскорее ввести кого из православных в искус или просто вытворить какую подлость, чтобы похвастаться потом перед своей хохотуньей-чертовкой.
Недолго думая, черт подскочил к Параське, так прозывалась супружница Хорька, раздвинул стены корчмы и втолкнул ее внутрь да так, что она свалилась прямо на своего муженька, у которого при виде ее оскалившейся пасти чуть не сделался удар. Чтобы было еще смешнее, он сдвинул опять стены и запер корчму снаружи – благо ключ торчал в двери, – и не особо вслушиваясь в раздавшиеся грохот и вопли, заспешил по хорошо ему известным закоулкам, прикинувшись заблудившейся черной свиньей.
Впрочем, сотворить гадость черту на сей раз не пофартило, потому что Хорек ни в чем дурном в этот вечер замечен не был, а к тому же и он, и кум быстренько догадались упросить Параську усесться с ними за стол, заказали еще горилки и так грустно и тоскливо спели Параське «Песню про ридну матир», что та прослезилась и сказала, что все им прощает, хотя они и так ни в чем виновны не были.
Не прошло и нескольких часов, как им удалось излить друг другу душу, а в природе к тому времени наступило блаженное успокоение, как только в Украине все затихает, когда благовонная ночь опускается на грешную землю и светильник-месяц, кокетливо изгибаясь, всплывает на фиолетовом небе, чтобы запоздалые парочки и гуляки не заблудились по дороге домой, и наша троица, пошатываясь и обнимаясь, встала наконец из-за стола и зашагала по пыльной улице. Пробегавшую мимо свинью Богомаз хотел было пнуть ногой, чтобы направить ее на путь истинный, но та так взглянула на него зеленым глазом, что нога у него покрылась гусиной кожей, и тот, крестясь и одновременно чертыхаясь, вернул ногу в исходное положение и, покрепче обняв Параську (благо кум ничего не замечал), зашагал дальше, заставляя себя изо всех сил не оборачиваться и не смотреть на свинью.
Придя домой – его жалкая хата постепенно врастала в землю по соседству с пышным строением кума, – он разложил вокруг постели образа, перекрестился и с чувством выполненного долга безмятежно заснул.
Черт, впрочем, затаил обиду на Богомаза, которого и так недолюбливал за святую его работу, и всю ночь, бегая свинья свиньей по Горенке, размышлял о том, как его подкузьмить. К утру, когда проснувшиеся петухи уже готовы были возвестить своими хриплыми, как после доброй попойки, голосами о том, что пора уже наконец продрать глаза и выгонять на улицу скотину, чтобы деревенские пастухи увели ее на пастбище, черт наконец сообразил, как ему быть, и потирая когтистые свои конечности, заскакал, топоча копытами, в лесную чащобу на совещание с чертовкой.
А солнце, как всегда, ласковое и невинное, встало над широко раскинувшейся Горенкой, над озером и кладбищем с древней часовней, приласкало своими лучами покрасневшую будто бы от стыда клубнику, послало солнечные зайчики заспавшимся шалунам и нырнуло за тучу, чтобы не спалить весь этот райский, притаившийся в лесу, за стольным градом, уголок.
Богомаз, впрочем, спал, и сон его был, словно мягкая вата, – он окутал его пеленой, сладостной и спокойной, из которой так горько выходить в этот полный тревог мир, но все на свете имеет свой конец, и Петро наконец пробудился и выпорхнул из сна, словно бабочка из куколки, размышляя, приснилось ли ему, что Явдоха и вправду ведьма, как о том судачат деревенские кумушки, или он наяву копал у нее в огороде для самого себя огромную яму, чтобы улечься туда на веки вечные. Так ничего и не придумав, он решил, что сон был дурацкий и не в руку, и решил отправиться опять-таки к Явдохе, потому что она была большая мастерица на: всякого рода рассолы и как никто другой умела утешить боль в затылке и наговорить столько приятных слов о его искусстве, что время словно застывало на месте, как прозрачный шар, присыпанный сахарной пудрой.
Пока Петро собирался отправиться к Явдохе и для этого всячески причепуривался и даже чистил зубы, черт в глухой чаще щелкал своей козлиной челюстью орехи, которыми его угостила чертовка, и заранее предвкушал, в какой конфуз введет сегодня же ненавистного ему Богомаза.
Петро тем временем плелся по деревенской улице к Явдохиной расписанной им самим картинами и длинношеими лебедями хате, проклиная боль в затылке, и того, кто изобрел горилку, и того, кто ее продает честному народу, одним словом, всех подряд. Он настолько увлекся своими словесными выкрутасами, что совсем позабыл о барышнике с Андреевского спуска, который должен был приехать к нему за новой партией икон, которые он всучивал как антиквариат растаявшим на киевском солнышке иностранцам.
Но вот наконец показалась и хата приветливой Явдохи. Хозяйка собак не держала, чтобы не отпугивать гостей и не давать повод сплетням, и Петро уверенно толкнул незапертую калитку и браво, почти не пошатываясь, зашагал по тропинке между двумя рядами уродливейших астр, посаженных почему-то вперемежку с дикими розами. В конце тропинки обнаружилась массивная дверь, такая мощная, словно за ней располагалась не деревенская хата, а отделение выросшего, как гриб после дождя, банка, норовящего с первых шагов пустить пыль в глаза простодушному клиенту. Такую дверь уже ногой не пнешь, как бедняжку-калитку, и Петро чинно застучал по ней костяшками пальцев. За дверью, впрочем, царили полная тишь и торичеллиева пустота, от которых веки сразу наливались свинцом и тело начинало хотеть лишь одного – рухнуть, где придется, и забыться до захода солнца. Петро еще раз постучал. На этот раз, к его удивлению и радости, дверь бесшумно распахнулась настежь и за ней показалась босоногая, улыбчивая Явдоха в сорочке, сплошь покрытой вышивками, и в белоснежнейших юбках под кокетливой, чуть подоткнутой плахтой.
– Петрусик, ты это или не ты? – заворковала она, как голубь, обхаживая иконописца со всех сторон. – Заходи что ли, отдохни с дороги, водицы тебе подать колодезной или?…
– Ох, Явдохушка, – вздохнул, пустив слезу, непривыкший к ласке деревенский художник, – какая там водица. Рассола мне дай или зелья какого, чтобы унять боль проклятую в затылке, от которой в глазах и на душе темно, словно в погребе…
– Есть и рассол, Петрусику, и рыбка к нему остренькая, все есть, иди в горницу, садись на лавку, я мигом тебе прислужусь.
Не успел незадачливый наш Богомаз рухнуть на лавку, подобно мешку с мукой, как перед ним уже задымилась только что сваренная картошечка, а рядом с ней покрывались гусиной кожей нежинские огурчики с укропом и чесноком, от запаха которых боль не выдержала, подхватилась с затылка и улетела в дымовую трубу куда подальше. А рядом с огурчиками появилась стопка прозрачного, как слеза, напитка. Петро было вздумал отказаться, памятуя о сегодняшнему утре, но Явдоха замахала руками:
– Не вздумай не выпить, пуще прежнего она тебя одолеет, вернется проклятая, а так ты ее прогонишь на четыре ветра, на четыре стороны. Правду тебе говорю, чтоб мне не сойти с этого места!
Петро, впрочем, и без Явдохиных уговоров знал, что она права, и посему не заставил долго себя уговаривать. Сложения он был молодецкого, и аппетит у него был соответствующий, и вскоре снедь исчезла со стола, как будто ее там; никогда и не бывало, а Явдоха, радуясь, что гость так быстро выздоровел, притащила с кухни чайник и яблочный пирог и начала угощать Богомаза душистым, с малиной, чаем, от которого его сразу прошиб обильный пот, и пирогом, который, как она утверждала, испекла специально для него, надеясь, что он придет.
Когда и пирог исчез, Явдоха подсела совсем близко к Богомазу, и тот уже было размечтался, что она наконец предложит ему пройти в другую комнату, и даже обнял пышный ее стан, подталкивая ее к этой мысли, как вдруг в дверь постучали. Надо заметить, что Явдоха в утро была удивительно хороша собой: темно-русые ее волосы в лучах утреннего солнышка казались золотой короной, а васильковые глаза искрились, словно два нежных озера, в которые наш Богомаз был готов уже погрузиться навсегда. Так вот, Явдоха чуть скривила свои пухленькие губки, недовольно поморщилась и подошла к окну, чтобы посмотреть из-за занавески, на того, кто к ней пожаловал.
– Кто там? – спросил Петро, испытывая новое для своего заскорузлого от одиночества сердца чувство – ревность.
– Попик собственной персоной, – застенчиво улыбаясь ответила Явдоха. – Не знаю, что и делать…
– Да пусть его, пусть идет к своей попадье, что ему тут, – угрюмо проворчал Петро.
Явдоха, однако, с ним не согласилась.
– Грех обманывать святого отца, – сказала она. – Он, наверное, на минутку зашел воды испить или посоветоваться, он ведь в селе человек новый, а попадья его и в селе-то раньше вообще не жила, нет, я его пущу, а ты поди в спальню, так и быть, я разрешаю, только смотри, на постель не ложись, а в кресле сиди и дверь закрой, нечего уши вострить! И она подтолкнула Богомаза своей пухленькой ручкой к двери, которая вела в спальню, и закрыла за ним дверь.
Петро, впрочем, ревновал не зря. Молоденький попик, едва оказавшись в горнице, наговорил Явдохе столько комплиментов, что если бы она по-настоящему умела смущаться, то покрылась бы густым, как свекла, румянцем. Но она, привычная к таким излияниям сильного пола, лишь улыбалась да хлопала длинными ресницами, притворяясь, что ничего не понимает, – Явдоха была себе на уме, а попику было и невдомек, что беседует он с любительницей прокатиться в безлунную ночь на метле. Явдоха, впрочем, считала себя не ведьмой, а феей, потому что зла людям без нужды не чинила, а ночные свои прогулки оправдывала тем, что и космонавты летают среди звезд, однако же их никто не сжигает на костре, как Джордано Бруно. Метлу, видать, она считала чем-то сродни ракете. Родители ее уехали работать на Север да там и осели, а дочь осталась в родной Горенке сохранять дом. Годы шли, Явдохе перевалило за тридцать, но замуж она не спешила, хотя в женихах недостатку не было, – боялась, что мужу не понравится ее «хобби».
Надо сразу пояснить читателю, что ничего особенно ведьмовского в Явдохе и впрямь не было. Просто после отъезда родителей соседи иногда замечали, как в полнолуние она босоногая, в одной ночной рубашке прогуливается по заснеженному двору, выставив впереди себя полные, красивые руки – в девичестве она считалась писаной красавицей и одноклассники ходили за ней табуном. Явдоха, впрочем, о своих ночных прогулках по снегу не помнила, но когда соседи ей рассказали, то поняла, что болеет лунатизмом. Впрочем, это скоро у нее прошло, но зато по ночам у нее иногда начинался зуд по всему телу, который проходил только тогда, когда она, оседлав метлу, проветривалась в ночном небе. Во всем остальном она была женщиной доброй и осмотрительной и уже начинала посматривать на Петра как на возможную для себя пару.
Все карты, однако, спутал попик, который хотя так и прозывался, но отнюдь не был худосочен и бледен, как приличествовало бы его сану, а был здоровенным, под два метра, детиною, с ершистыми волосами, голубыми глазами на открытом, загорелом лице и с телосложением сплавщика леса. Женился он впопыхах перед окончанием семинарии на девушке, с которой был едва знаком и которую подсунули ему родители. Первые месяцы их совместной жизни они провели как в раю, но после переезда к месту службы в Горенку попадья захандрила – в город ездить было далеко, подруги приезжали к ней редко и она почти не выходила на улицу, проглатывая одну книгу за другой да дожидаясь возвращения супруга из церкви.
Попик, как его в шутку прозвали горенчане, любил зайти к Явдохе по дороге домой, чтобы излить душу и немного перекусить – попадья, не в обиду ей будет сказано, готовила отвратительно, предпочитая угощать святого отца пищей духовной. Впрочем, стихи, которые она ему читала, когда он поглощал чудовищные каши и совершенно несъедобные борщи, никак не способствовали улучшению их вкусовых качеств. А поп, на самом деле его звали Тарасом Тимофеевичем, был охоч до еды и совершенно не знал, как ему быть, – и попадью обидеть не хотелось, и поесть вкусно не удавалось. А тут Явдоха уговорила как-то зайти на куличек да так попотчевала, что он еле домой дотащился и вынужден был взять грех на душу и солгать, что у него болит живот и поэтому нет никакого аппетита.
Итак, Богомаз неохотно поплелся в спальню, а Явдоха бросилась открывать дверь. Попик был усталый – служба затянулась, жара его измучила, и он сразу спросил воды напиться. Явдоха его усадила за стол, принесла воды, яблок, а сама все думала, как ей быть, – Петро был мужчина холостой и, судя по всему, неплохо зарабатывал, хотя и не любил говорить о своих заработках, а попик – женат да и на виду у всего общества, того и глядишь ворота дегтем вымажут…
Напоила Явдоха попика да и выпроводила, притворившись, что не слышит, как пищит от голода молодецкое брюхо, – не хотелось ей сегодня беседовать с ним об умном, да и Петро в спальне топал ногами, как тигр в клетке.
Попик, насупленный, ушел восвояси, а Явдоха возвратилась к Петру. Но у того уже настроения не было, он как-то быстро попрощался и ушел, сказав, что не хочет мешать, – ревность душила его изнутри, а он не хотел показываться перед Явдохой злым.
От такой неблагодарности Явдоха хотела было нахмуриться, но не смогла – по своей природе она была хохотунья, и до калитки Петра провожал ее громкий и нежный, как перелив колокольчиков, смех, от которого, впрочем, ему становилось еще горче – и уходить не хотелось, и себя было жалко, и ревность слепила глаза, как полуденное солнце.
Кое-как добредши домой, Петро хотел было рухнуть на постель, но оказалось, что возле хаты его поджидает барышник. Петро, который еле переставлял ноги, быстро спровадил барышника, отдав ему по дешевке все, что написал за последний месяц, и тот радостно засуетился и исчез, словно растворился в своих «Жигулях», а те, в свою очередь, в окружающем хату пространстве.
В изнеможении Петро рухнул на постель, словно хотел; забыться, но что-то заставило его открыть глаза и он увидел, что на потолке над ним чернеет злобная харя свиньи, которую он чуть было не пнул вчера по дороге домой. Свинья, заметив, что он на нее смотрит, заурчала, как кот, и еще пуще прежнего осклабилась в улыбке, и только ее зеленые глазки словно холодом буравили усталое Петрово сердце.
«Допился», – подумал было Петро, но тут на него сыпануло штукатуркой с явным запахом серы, и тогда он подхватился к святым образам, прижал Николая Угодника к груди и забормотал молитву. Свинья потускнела, испарилась черным мрачным дымом, и потолок приобрел свойственный ему серый цвет.
«Черт с ним!» – подумал Петро про черта и наконец сладко и крепко заснул. Сон его освежил, а черт, вынужденный убраться восвояси, злобно таскался по лесу и пугал баб, собиравших ягоды. Настроение у него было совершенно омерзительное, и даже чертовка была ему уже не мила.
А к Петру откуда ни возьмись пожаловал гость – сельский фельдшер по прозванию Борода. Впрочем, кличка уже давно заменила ему имя, его даже на работе никто иначе и не называл, да он и не обижался. Окладистая борода и очки с толстыми стеклами словно отгораживали его от всего мира и скрывали добрую душу и растерянные глаза. Он, как и Петро, женат не был и любил по дороге домой наведаться к Богомазу, чтобы пофилософствовать немного, а потом уже залечь до утра в своей берлоге, обложившись книгами. Не успели они между собой и двух слов сказать – Петро уже было собирался рассказать ему о случае со свиньей, как в дверь забарабанил вездесущий Хорек, да не сам по себе, а с гостинцами – блюдом уже нарезанной, изрядно отдающей чесноком, шинки и с бутылкой прозрачной, как слеза, влаги, в которой только изолгавшийся до последней крайности ханжа не признал бы святого, отпускающего грехи прямо на месте напитка.
Друзья уселись за квадратный, кое-как сколоченный стол, зажгли лампу и собрались уже было насладиться едой и взаимной беседой – каждый предвкушал рассказать что-то свое, но не тут-то было, то ли черт попутал, то ли что еще, но дверь распахнулась настежь и Параська, которая должна была всю ночь дежурить в свою очередь в сельсовете, показалась на пороге, бледная от злости, как призрак отца Гамлета, и скрученная в пружину, готовую вот-вот разогнуться. Друзья вскочили из-за стола как ужаленные и принялись усаживать дорогую кумушку, обхаживать ее и изливать на нее елей из всех своих пор, и старания их уже почти увенчались успехом, но тут, на этот раз это точно был черт, в дверях показалась совершенно некстати прежде никогда и не бывавшая здесь Явдоха. Да еще в цветастом платье, и с румянцем от уха до уха, и с копной темно-русых волос, при виде которых невольно вспоминалось и душистое сено на лугу, и кое-что еще, что происходит только по молодости лет и только где-нибудь на лугу, в копне душистого, под стать молодости, сена. Параська сразу встала на дыбы, как необъезженная лошадь, и ни тпру ни ну карьером устремилась к двери. Все бросились к ней на перехват, но она, изловчившись, прожогом выскочила из хаты и скрылась в опустившейся на Горенку густой тьме.
Теперь уже компания усаживала Явдоху, правда, намного более искренне, чем Параську, а она, впрочем, и не сопротивлялась (читатель, не это ли самый опасный для сильного пола вид кокетства?); и когда все наконец успокоилось и суета улеглась, беседа их потекла, как масло из бутылки. Хорек рассказал о том, что Параська в молодости была писаной красавицей – никто не поверил, хотя всем было известно, что это правда. Петро рассказал про то, как ему примерещился черт в виде свиньи – поверила только Явдоха, но виду не подала. А фельдшер, фельдшер рассказал удивительную историю, которую ему поведала нынче древняя старуха в благодарность за то, что укол он ей сделал не больно да и вообще пожалел, как родную матерь, – Борода был человек жалостливый и деликатный.
А рассказала ему старуха вот что. Лет двести назад Горенка была совсем уж захудалой деревушкой с одной только церковкой да тремя шинками на подъездах к ней. После войны с Наполеоном горенковские девчата стали появляться на свет еще более смазливыми, чем до нашествия французов, и все как одна с васильковыми глазами да с пышным бюстом. Две-три из них даже барынями стали – повыходили замуж за господ заезжих офицеров да и уехали навсегда из родных краев. Одна только Оксана, а уж как хороша была она собой, замуж не спешила. Отец ее, приходской священник Данило, дочку не неволил, и она росла беззаботно, помогала тятеньке по хозяйству, готовила ему еду – попадья умерла при родах. Оксана закончила в Киеве по протекции пансион для благородных девиц, который, однако, возненавидела всем своим девичьим и нежным сердечком, потому что каждый день богатые и тупые уродки помыкали ею и издевались над ее нищетой. После пансиона она, казалось, навсегда осела в добром и уютном домике отца своего, чтобы помогать ему коротать угрюмые в ненастную погоду сельские дни и радовать его тускневший с подступающей старостью взор.
Но в один весенний день, когда батюшка ее был в церкви, деревенский Богомаз Петро, да-да, его тоже звали Пет-ро, проходя мимо поповской усадьбы, спросил у Оксаны воды – одолела его тогда страшная жажда. Оксана принесла ему кухоль колодезной воды да белоснежный в красных узорах рушник, а Богомаз, как увидел ее отражение в воде, так и замер на месте, а как пришел в себя – бросился домой, заперся и всего лишь за три дня написал образ Богоматери такой дивной красоты, что люди невольно падали перед ней на колени, но одно только в иконе той было странно… Лицо Святой Девы – было лицом Оксаны.
А дальше – больше. Прилип Богомаз к Оксане как банный лист, а та и знать его не хочет, прогоняет со своих глаз и ножками своими топает на него, как на собаку. А тот ни в какую не идет на попятный. «Замуж, – говорит, – тебя возьму, самые красивые иконы напишу в твою честь, прославлю тебя на весь мир». Данило молчал себе в бороду, молчал, но потом и он не вытерпел. «Ты, – сказал он Оксане, – реши раз и навсегда, если уж прогонять, так прогони, но чтобы ясность была, а то ты его так гонишь, словно к себе зовешь, а он, Петро, человек к общению с барышнями непривычный, богобоязненный. Да и мне скажи правду, отцу своему, люб он тебе или нет? Если люб, так чего б тебе и в самом деле не стать ему женой, человек он вольный, свой дом у него да и при деньгах…».
Оксана, услыхав такие речи, – в ноги ему бултых да так зарыдала, что на всю Горенку рев, говорят, стоял:
– Что ты, тятенька, речи такие завел? А у нас разве дом мал для нас? Разве мешаю я тебе? Зачем ты меня к чужим людям гонишь на погибель верную, на кручину неминучую?
– Ну если уж так, дочка, – не стал спорить с ней старый священник, – сама решай. Дело твое. Мне мило, что ты при мне, но если захочешь…
– Нет, нет, нет! – замахала руками Оксана. – При вас только и хочу я находиться. Не хочу никуда идти…
На том тогда и порешили. У Оксаны, однако, девичью ее веселость как ветром сдуло. Насколько она хохотуньей была – пропал ее смех, как в воду канул. Ходит с поникшей головой, все свою думу думает, но ни слова ни отцу, никому. Месяц проходит, второй, третий, уж и лето пошло на убыль, как идет мимо дома ее Богомаз – икону он тогда заказчику тащил, да и, задумавшись, пошел мимо дома Оксаны, забыв, что дал себе зарок обходить его десятой дорогой. И надо же, выходит ему навстречу Оксана, как всегда с головой поникшей, бледная такая вся, как лебедь грустный, подруга которого растворилась в небесном просторе да и не вернулась никогда, погибнув то ли от охотников, то ли от хищной птицы. И вдруг свой портрет видит у Петра в руках, а он как раз ту икону нес – Богоматерь с лицом Оксаны. Замерла Оксана, словно молнией пораженная, на бледных ее щеках румянец выступил.
– Куда, – говорит, – ты несешь меня? Да и зачем ты несешь меня к чужим людям? Неужели ты не понимаешь, что из этого портрета глаза мои живые смотрят и я все лето на тебя смотрю в упор, а ты меня не замечаешь, словно слепой…
Смотрит Богомаз на икону, а глаза на ней и вправду живые. Смотрит на Оксану – а нету у ней глаз на лице, только кожа белая да ресницы длиннющие. Протер глаза – есть глаза у Оксаны, а на иконе закрылись.
– Что делаешь со мной, – закричал Богомаз, – голова моя кругом идет, с ума сойду, если не прекратишь меня мучить!
– Да не мучу я тебя, Петро, – отвечает ему Оксана, и подходит к нему близко-близко, и обнимает его своими дивными руками, и кладет свою голову к нему на плечо, – люблю я тебя, потому у иконы и глаза мои, чтобы быть с тобой все время.
И недели не прошло, как сыграли они свадьбу.
И время как бы остановилось в счастливом их домике. Оксана по хозяйству, муж со своими иконами, у него как раз большой заказ был от одной церкви, что на Подоле. Ух, как он писал тогда образа! Оксана любила наблюдать за ним во время работы – он словно погружался в икону, словно он был учеником Господа и бродил с ним по полям и долам Земли Обетованной, словно он внимал Ему среди учеников и наблюдал из толпы во время крестного пути Его. И краски ложились гладко и нежно, и лики получались, словно живые, и заказчики, которые наведывались иногда проверить, как продвигается работа, не могли нарадоваться на его работу и даже обещали накинуть червонец-другой.
Но нечистая сила никогда не оставляет православных в покое, словно проверяя их на прочность, а тот черт, что обитал тогда в непроходимых чащах за Горенкой, которые избегали даже осатанелые от крови волки, поклялся перед чертовкой, что не позволит Богомазу закончить свои иконы.
И начал он свои набеги на уютный и счастливый Богомазов дом. То молнией ударит, то куры камни начнут нести вместо яиц, то вой в кладовке такой раздастся, что хоть убегай. Богомаз, однако, сразу разумел, в чем дело, но страх поборол и только работать стал быстрее да молитвы святые бормотать непрерывно, чтобы и себя, и нежную свою супругу уберечь от нечистой силы. Батюшка по просьбе дочери окропил весь участок вокруг дома святою водою и службу в доме отслужил да такую, что нечистый на время отступил и, затаившись в чаще, только щелкал зубами да обливался холодным потом, выставив себя на посмешище перед чертовкой и всякими прочими лешими.
Но не сдался окаянный черт и пуще прежнего, как репей, пристал к Богомазу, норовя нащупать у него слабинку, узнать, на чем можно его объегорить. И случай представился. Богомаз, как и все живописцы, любил потолкаться в базарный день на Подоле на Житнем рынке, где в те времена продавалось все то, что нужно для людей его ремесла: краски, кисти, холст, подрамники, высушенные и уже приготовленные для работы доски, одним словом, все то, от чего у настоящего живописца глаза разбегаются и руки начинают предательски дрожать. И перед наступлением зимы Петро направился в базарный день в Киев, чтобы запастись на зиму всем необходимым с тем, чтобы тогда, когда сорвется с цепи свирепая пурга и забросает Горенку снегом по самые крыши, он мог позволить себе спокойно работать, не выходя из дому, и к весне исполнить заказ.
Черт, преисполненный ненависти ко всякой христианской: душе, однако, давно уже подстерегал его возле озера, притворившись Оксаною, он кинулся в ледяную уже воду и, увидев Богомаза, истошно завопил Оксаниным голосом: «Тону, Петрику мой любимый, тону!». Петро поверить не мог своим глазам, ведь супругу свою он только что оставил дома, велел ей запереться на все замки и на улицу даже носа не высовывать, пока он не возвратится с ярмарки. Однако же времени раздумывать не было, и, скинув с себя одежду, он в одном только исподнем бросился спасать непослушную супругу свою, неведомо как оказавшуюся на середине даже в летнюю погоду предательского озера с многочисленными омутами и холодными ключами, бившими где-то в темной глубине его у самого дна. Не успел он подплыть к черту, как сообразил, что околдовала его нечистая сила и повернул было к берегу, но сердце его совсем уже застыло, а тут на беду Оксана почуяла своим вещим сердцем что-то неладное, бросилась вслед за мужем и, увидев его одежду на берегу, а его самого с белым как снег лицом, плывущим из последних сил в сторону берега, кинулась в воду, чтобы помочь ему выбраться из озера. Петро только и успел из последних сил крикнуть ей: «Оксана, любимая, спасайся, не плыви ко мне, тут нечистая сила!», но было уже поздно и нечистый утащил их обоих на дно.
А в деревне толковали по-разному про исчезновение Богомаза с супругою. Тел их так никогда и не нашли – только одежду Петра да монисто Оксаны, что лежало на нем. Батюшка отслужил через девять дней молебен, на кладбище врыли в землю два креста с их именами, да на том все и закончилось. Горько горевал старый священник, что не дождался внуков, догадываясь в глубине души, что не обошлось тут без нечистой силы, но поделать ничего не мог и только молился неустанно за своих исчезнувших детей. Говорят, с тех пор каждой весной у священника расцветали во дворе два куста неземной красоты сирени, которые всякий раз, когда он проходил мимо, норовили прикоснуться к нему и погладить подобно тому, как дитя прижимается к отцу своему, словно впитывая его любовь и ласку. Впрочем, правда это или нет, кто знает…
Прошло лет пятьдесят, священника уже давно не было в живых да и про Петра с Оксаною селяне уже позабыли, как вдруг стал распространяться в народе слух о том, что в полнолуние на берегу озера люди добрые и душой святые могут увидеть взявшихся за руки юношу и девушку в белоснежных одеждах, стремительно плывущих по мутным глубинам вечно холодного озера.
Не все верили в эти присказки, потому что не всем дано Богомаз и черт было увидеть Петра и Оксану, но кое-кому удавалось их увидеть, и правда об их вечной любви навсегда сохранилась среди жителей Горенки и окрестных сел.
Вот какую историю рассказала Бороде старуха, и тот, не в силах утаить ее в себе, тут же поделился ею с почтенным обществом.
Явдоха (нет все-таки она была фея, а не ведьма!) прослезилась и убежала на кухню наводить марафет – не любила показываться перед мужчинами в невыгодном свете. А приятели помолчали да и пришли к выводу, что следует встать и стоя выпить за упокой невинных душ, пострадавших от врага рода человеческого. Так они и поступили, а снова усевшись, важно приступили к Параськиной шинке. Явдоха возвратилась к ним уже как ни в чем не бывало, и только одна мысль роилась в ее обычно хладнокровной головке – как уберечь своего Петра (с этого вечера она уже считала его своим) от той гадости, что примерещилась ему свиным рылом на потолке, – Явдоха чуяла, что и тут точно не обошлось без прижившегося в этих местах черта.








