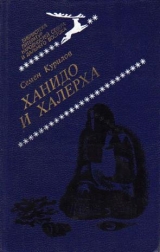
Текст книги "Ханидо и Халерха"
Автор книги: Семен Курилов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 48 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]
Понравилось мне, еще стал петь и бить в бубен, а руки у меня большие, и звон получался громким. Это, наверно, понравилось духам – вот они и вселились в меня. Но я духов не видел. А тут у Петрдэ сдох олень, и, кажется, ты первый заметил следы от моей яранги. И с тех пор все беды начали сваливать на меня. Умрет от болезни ребенок – говорят, что я его съел, прибьются к моим оленям чужие – духи мои их привели, поломалась нарта, жена от мужа ушла – я виноват…
– Э, мэй, не так говоришь, – перебил его, прячась под одеяло, Сайрэ. – Что делал, то и рассказывай.
– К тому говорю, что сперва мне было обидно…
– А потом ты начал просить выкупа: "Отдай последнего оленя – а я прикажу духам не делать зла"?
– Было и так, – согласился чукча.
– И хуже было, – сказал Сайрэ, – сам призывал делать зло.
– Призывал…
– И мог ножик подсунуть…
– Нож? Какой нож?
– С белой ручкой. Которым Эргэйуо ударил девочку Халерху.
– Что? Господи…
– Ты безбожник – не вспоминай господа.
– Но ведь я просто менялся… А откуда ты знаешь это? Сайрэ! Ты не человек…
– Я шаман. Говори все, что делал. Я лягу, буду дремать; соврешь – я перестану дремать и поправлю. Лучше уж не вертись.
Неожиданность эта подрубила под корень Мельгайвача. Он понял, что у него нет больше сил противостоять старику юкагиру. И в то же время он испытал великую зависть к нему. А зависть туманит ум; она ожесточает и всегда подсказывает одно и то же: ты можешь – и я смогу, смогу даже лучше тебя.
Мельгайвач, ничего не скрывая, стал говорить.
А на воле тем временем начиналась поземка. Тучки сухого снега то и дело наскакивали на одинокий тордох, шурша, облизывали его и катились дальше по скату холма. Ветер дул с озера, а такой ветер самый жестокий. В тордохе зашевелился полог. Костер давно уж потух… Перемена погоды не настораживала Мельгайвача – он ничего не слышал, кроме своего собственного одинокого голоса.
Сперва он говорил с остановками, припоминая давнее прошлое и даже раздумывая, как это мог он совершить такое гадкое дело. Но потом вспоминать стало легче, а раздумывать больше уж не хотелось, и речь потекла быстро и ровно. Покачиваясь, даже распевая слова, он говорил, говорил, говорил. И лишь когда вспомнилась совсем юная, белолицая, плохо одетая Пайпэткэ, слова его будто наскочили на крутую едому. Скорее, чтобы Сайрэ не заметил этой заминки, Мельгайвач с усердием принялся перечислять, что он ругал в природе – волну, пургу, дождь, луну.
Ветер уже сильно давил на тордох, а пурга шумела вовсю, когда он облапил лицо руками и ткнулся головою в колени.
– Сайрэ, – тихо сказал он, – Сайрэ… Пусть меня по дороге домой растерзают волки, пусть я замерзну и останусь без рук и ног, но я теперь буду добрым шаманом. Дай мне вдохновение, дай. Как ты, буду подарки брать за хорошее дело, как ты; буду приказывать духам своим нападать на злых духов…
– Ты все сказал? – спросил старик, не шевелясь.
– Нет. Я не открыл тебе еще одну тайну. Но я открою ее; когда сяду на нарту.
– Пусть будет так… Но после того, что услышал я, трудно сказать, придет ли к тебе вдохновение.
– Придет. Я знаю. Ты только скажи, что делать дальше, как и когда делать.
– Осталось немного… Ладно, расскажу, если так просишь. Ты сделаешь это в первый весенний день, когда увидишь проталину. Ножом проткнешь кожу ниже пупка – насквозь. Будет кровь. Этой кровью ты вымоешь руки и щеки. Смоешь грехи. Но это не все. Потом, от появления новой луны до конца луны, ты не должен ничего есть, кроме жиденького мясного навара. Голодать будет трудно, но если не стерпишь – вдохновение придет и быстро уйдет…
И еще Сайрэ дал много разных сложных советов и указаний.
Выслушав все, Мельгайвач долго сидел молча, погрузившись в раздумье. Но потом он встал на колени, вынул трут, кисет – закурил. Стал одеваться.
– Ты что это, мэй? – зашевелился Сайрэ.
– Поеду я. Мне надо ехать.
– Пурга бьет. Куда ж ты в такую погоду? Ложись, отдохни. Не спавши, не евши – как можно трогаться в путь?
– Нет, я поеду. У меня теперь все пути трудные… Сайрэ, если я стану шаманом, всю жизнь буду делать тебе добро. А когда захочу уехать в тот мир, когда надену на шею петлю, то прикажу людям не забывать твое имя, прославлять тебя – доброго шамана и мудрого человека. Проводи меня, добрый старик.
Ничего больше не возразил, не сказал Сайрэ. Он встал, обулся, выбрался из-под полога. Мельгайвач немного замешкался. Раскаяния размягчили его, и он потянулся рукой к голове Пайпэткэ, чтобы погладить ее. Но нет, не погладил, отдернул руку. И пополз вслед за хозяином.
– Апай, – Сказал он тихо, возле сэспэ, – уезжаю и хочу открыть грешную тайну. Присоедини, могучий старый шаман, этот мой совсем непростительный грех к тем грехам, которые ты теперь знаешь. Не воровал я и, кроме этой тайны, не скрыл ничего. Может, мелкое что-то забыл.
– Говори.
– Пусть, апай, об этом тебе расскажет твоя жена Пайпэткэ. А я кровью смою и этот грех.
– Хорошо, поезжай.
Мельгайвач еще путался в полах ровдуги, отрывая прижатую ветром сэпсэ, а шаман Сайрэ уже потихоньку крестился.
Пайпэткэ спала долго. Но открыла она глаза не потому, что выспалась – ее разбудили холод и храпенье Сайрэ. Она выскользнула из-под одеяла, села на свернутую доху, лежавшую под головой, и замерла.
Мельгайвача на постели не было. В одно мгновение Пайпэткэ поняла, что его нет и за пологом, нет и на улице за тордохом. Однако, не веря самой себе, она сейчас же с великой осторожностью перескочила через спящего старика, оттянула полог, глянула в щель, прислушалась. Очаг не горел, нигде не было видно огонька трубки; в незаткнутом онидигиле шумела пурга, осыпая снегом очаг и треногу; по тордоху гулял лютый мороз. Сильно храпел старик.
Босая, неодетая, Пайпэткэ выбралась из-за полога – и кинулась к выходу.
На воле гудела пурга. Небо чуть посерело, была середина дня, но что-либо разглядеть не могли даже молодые, жадно ищущие примет глаза: так и сяк проносились потоки снега, вздымая возле тордоха густые тучи. И все-таки Пайпэткэ зашла в неглубокий сугроб, наклонилась и стала искать следы… Но следов не было никаких – ни новых, ни старых: все давно зализала пурга. А Пайпэткэ не сдавалась: она нагнулась сильней и разглядывала, разглядывала сугроб. Наконец она увидела свои голые ноги, вокруг которых извивались бурунчики снега, – и бросилась обратно в дверь.
В тордохе Пайпэткэ остановилась возле стола-доски и треноги. Очаг выглядел жалким, покинутым – над останками костра, притрушенными снегом, одиноко висел пустой крюк-сускарал [46]46
Сускарал – крюк из железного прута или оленьего рога для подвешивания котла или чайника над огнем. Обычно вешают две-три посудины.
[Закрыть], чай в неубранных кружках замерз. Эта заброшенность, и противное храпение старика, за пологом заставили Пайпэткэ вздрогнуть. Но, вздрогнув сердцем, она задрожала и всем телом, да так, что руки тотчас вскинулись к груди и начали трястись, хватая воздух. Дробный стук зубов рассыпался по тордоху. И был страшным дикий, прерывистый смех, вдруг перекрывший и нудный гул непогоды, и тягучее храпение старика. Пайпэткэ хохотала все сильней и сильней и зубами стучала все громче и громче – и это бы кончилось чем-то еще более страшным, если бы не Сайрэ, выскочивший из-за полога.
Кривоногий Сайра засуетился, забегал вокруг жены, боясь сказать или сделать что-то неверное. Но он нашелся и оборвал этот смех:
– Ке, слушай, ке; а где ж Мельгайвач? Разве он но вернулся? Как же он не вернулся? Он ведь за подарком поехал – оленей пригонит сюда… Наверно, пурга его задержала…
Сайрэ спасал жену от беды, обманом возвращал ей рассудок и не знал, что Мельгайвач в это время действительно и всерьез размышлял о подарке.
Ничего не случилось в пути с богатым, но обреченным на тяжкие испытания чукчей. В мешке на нарте у него была водка, и он, хорошенько выпив, не щадил оленей, пробиваясь сквозь полосу непогоды.
В теплой яранге, где все говорило об огромном достатке, к нему пришли свои, трезвые, но слишком нетерпеливые мысли. Он рассудил так. Да, кровь и боль сводят с ума – даже животных, и человек, глядя на кровь, расширяет глаза, становится не таким, каким бывает всегда. Поэтому главное – кровь, а не всякие там проталины по весне и пустой навар вместо жирной еды; Сайрэ, как и все шаманы, конечно, немного жулик… И Мельгайвач, завалившись спать с младшей женой, начал гадать, сколько оленей нужно отдать Сайрэ – сто или двести и когда лучше пригнать их в Улуро – весной или сейчас.
За этими размышлениями Мельгайвач совсем забыл о том, что Кака, вроде птицы, клюющей падаль, в последнее время все снижался и снижался над ним.
Если бы он подумал об этом, то, наверное, остерегся спешить и уж непременно бы все сделал иначе. Но ему слишком надоело видеть себя попавшим в беду, и слишком близкой была возможность опять улыбаться.
Уже на второй день Мельгайвач отправил всех жен к родственникам и остался один: ему надо было бы выгнать еще и собаку, но ведь собака не человек, что она понимает…
В опустевшей яранге было тепло и светло – под треногой горели поленья, горел, как всегда, и большой жирник. Мельгайвач ходил туда и сюда, разглядывая свои богатые пологи, каждый из которых был подобран из шкур одинаковой масти. И вдруг он подошел к очагу, спустил на бедра штаны, задрал рубаху и ударил себя не успевшим блеснуть ножом. Ощутив вполне терпимую боль, Мельгайвач удивился, как все это просто. Он не взглянул на живот; он наугад придавил ладонью рану, а когда ладонь стала мокрой и теплой, отнял ее, поднял голову кверху, чтоб ничего не видеть, потер руку о руку, умыл сразу обе щеки – но неожиданно зашатался, зашатался, как одинокое дерево, попавшее в круговорот горячего ветра. Дымовое отверстие метнулось в сторону, а подсвеченный снизу кособокий шатер [47]47
В отличие от тордоха чукотская яранга не сферическая; передняя «стена» у нее прямая.
[Закрыть]расправился во все небо и закрутился, как колесо на русской телеге. Чтоб не упасть, Мельгайвач схватился свободной рукой за жердь треноги и опустил голову. То, что увидел он, было ужасно. Ладонь опять зажимала рану, но из щелей между пальцами упругими струйками вырывалась в разные стороны кровь.
Вот тут-то Мельгайвач и оторопел. Он скорее закрыл правой ладонью левую, однако кровь моментально нашла новые щели. К тому же все туловище охватила жгучая боль. Он согнулся до самой земли, чуть не достав головой пола, – но большие ладони отстали от живота, и кровь потекла сильней. Тогда Мельгайвач упал на бок, упал и придавил локоть – и рана вовсе открылась.
Растерявшись, не зная, что делать, он стал кататься по полу.
Он купался в крови и не мог закричать – боль со страшной силой стискивала ему зубы. И когда от этой боли и от отчаяния глаза совсем полезли на лоб, вдруг наступило какое-то успокоение. В муках всегда бывает миг отупения, передышки – его дарит сила жизни затем, чтоб у человека мелькнула трезвая мысль, может, последняя, а может, спасительная. Но Мельгайвач этот миг понял по-своему, так как приготовил себя к нему. И только успел подумать о вдохновении, как закричал что было сил. Он заметил у очага собаку, лизавшую красную лужу…
В это-то время и показался в двери Кака. Рослый голова чукчей хотел войти поскорей, но потерял шапку и нагнулся, чтобы ее поднять, – да так и оледенел, стоя на четвереньках. Клочья черных волос вздыбились на его голове, а глаза выкатились белками наружу. Смуглый до черноты, он сейчас был похож на черта, увидевшего такое, чего не мог бы придумать он сам вместе с другими чертями.
Поняв все и забыв о шапке, Кака вскочил, пинком ударил собаку, с визгом отлетевшую в угол, схватил с ящика недошитый камус.
– Ы-ы-х, дурак… дурак! – начал подпихивать он шкурку под ладони Мельгайвача. – Да постой – книзу кожей. Шерсть набьешь – кровь загниет. Ну, прижимай. К Сайрэ ездил, жадюга? Пожалел половину стада, хотел подарком отделаться. Подыхай теперь, а стадо твое новые мужья жен поделят.
– Нет, Кака… Не о том думал… – Из глаз Мельгайвача к ушам покатились слезы. – Вдохновение хотел получить.
– В пасть зверю прыгнул. Во как он тебя разукрасил.
– Кака, помоги… – Бледный как снег и измазанный кровью, Мельгайвач смотрел на него глазами умирающего ребенка, который впервые понял, что мог бы жить очень долго. – Возьми бубен, Кака…
Перестав суетиться и найдя на полу место, не залитое кровью, Кака сел и глянул на свои руки, тоже измазанные кровью. Покуда не сбежались люди, он лихорадочно соображал, что может произойти дальше – умрет Мельгайвач или нет, сейчас умрет или после долгой болезни. Но вот он решительно встал и пошел к двери.
Он вернулся быстро, неся в руках обломки твердого снежного наста.
– Лежи, не крутись, – приказал он и стал обкладывать живот и руки Мельгайвйча снегом.
– Кака! Не надо, – взмолился несчастный. – Не морозь меня, брат. Я сам, наверно, замерзну.
– Лежи, если дурак.
– Ты лучше бубен возьми. Покамлай – может, еще вдохновение и придет.
– Да Сайрэ отомстил тебе, а ты о вдохновении думаешь! – проговорил Кака. – Останешься жить – разве этот шрам не будет напоминать тебе о шраме девочки Халерхи? Будет. До конца дней твоих. Вот как Сайрэ защищает свой род. А не так, как ты. Старый он черт, но молодец. Его похоронят с почестями. А тебя?
– Покамлай, Кака, – попросил Мельгайвач. У него уже не было сил шевелиться, сил хватило только на то, чтобы прижимать к ране шкуру да говорить.
– Я покамлаю. Но ты обидел меня – на Сайрэ променял. Отдашь половину стада – буду камлать. Всё равно богатство твое разлетится, как на ветру пепел. Слаб ты, а чтоб удержать богатство, надо быть сильным. Или посылай за Сайрэ… "
– Покамлай, Кака, может, придет ко мне вдохновение, – с упрямой надеждой попросил Мельгайвач. – Было уже вдохновение, было. А половину стада возьми. Придут пастухи, при тебе распоряжусь.
Народ сбежался в ярангу, когда голова и шаман Кака изо всех сил заколотил в бубен. Ужас и крики жен; суматоха, вопли испуга распалили Каку очень быстро. Ему никогда не приходилось прыгать по земле и шкурам, залитым кровью, и каким бы рассудительным он ни был до этого, сердце его теперь колотилось так, что от сильного удара палкой бубен лопнул и замолчал, а сам он упал под полог, ошалело вращая глазами. В яранге было шумно, и ему пришлось почти закричать:
– Будет он жить, будет! Но страдать и болеть придется ему. Убейте собаку, которая крови его нализалась сейчас убейте. А шаманом ты, Мельгайвач, не станешь, – сказал он тише, – ни большим, ни маленьким. И лучше тебе стать простым чукчей…
– Как – безоленным? – подал Мельгайвач слабенький голос.
– Да, безоленным. Поставь половину стада на приз, назначь состязания. Имя твое прославится. Иначе ты умрешь опозоренным и несчастным.
Мельгайвач простонал. Лицо его, обмытое старшей женой, было сейчас особенно бледным, и стон кому угодно мог показаться предсмертным. Но больше всех испугались жены. Старшая из них, не помня себя, схватила пробитый бубен, схватила палку и начала стучать, приседать и подскакивать. Кто-то заголосил. Пробитый бубен издавал только треск, и хоть старшая жена колотила по ободу, на губах у нее быстро появилась пена – и она затряслась, свалилась на руки женщин. Но бубен и палку подняла вторая жена. Эта была помоложе, покрепче. Она закричала визгливым голосом, подражая мужу-шаману…
А Кака поднялся; он осторожно обошел толпу сзади, начал искать возле двери шапку. Не найдя ее, вышел на волю. Вышел – и оторопел: ярангу со всех сторон окружали олени. Их было до ужаса много. Ближние обнюхивали жилье своего хозяина. Все они теснились, не разбредались – будто почуяли что-то неладное. А может, пришли прощаться?.. Но Каке было сейчас не до нежностей.
У него нетерпеливо зазудело сердце. Половина всего этого богатства теперь принадлежала ему, и он моментально представил себе, как будет выглядеть целое стадо, когда соединят то, которое он имеет и эту часть, которую он тоже имеет отныне. Разве тут захочется размышлять, кто страдает и почему страдает!.. Кака вернулся в ярангу, нашел пастуха, который подходил к хозяину, и потянул его за собой к стаду.
– Знаешь? – спросил.
– Знаю.
– Разделяй. А я пойду кликну своих пастухов.
ГЛАВА 5
Куриль и Мамахан зимовали вместе. Куриль в этот раз не перекочевывал в свою Дулбу – остался в Булгуняхе, на небольшой летней заимке. Места здесь ничем не примечательны – кругом холмы с жидким лесом, а между холмами впадины – днища давно пересохших озер. Но вот эти-то впадины и привлекали сюда многих богачей со своими стадами: кормов для лошадей и оленей здесь куда больше, чем по другим местам. Почитай, все богачи окрестных тундр знали эти ложбины – и чукчи Кака, Чайгуургин, Мельгайвач, и юкагиры Курили – Афанасий и Петр, и якуты Мамахан и Похон, и с Нижней Колымы Потонча, Бережновы, Соловьевы, Шкулевы…
Афанасий Куриль считал, что пасти стадо зимой в Дулбе выгоднее, однако не поехал туда. И для этого были причины. Несколько лет назад в Дулбу приезжал поп; божий человек окрестил некрещеных, накормил их божьей едой, а
Курилю, между прочим, сказал, что ему стоило бы отдать одного хорошего парня на обучение, чтобы парень стал тоже попом. Жил бы поп-юкагир в Дулбе или же Булгуняхе, сказал он, детей бы крестил, был бы посредником между людьми тундры и богом, призывал бы всех к добрым делам и смирению… Этот совет Курилю очень понравился. Однако он сразу подумал о больших трудностях, без которых ничего не удастся сделать. Парень начнет учиться, а тем временем надо церковь строить. Поставить же церковь одному не под силу, значит, нужно искать компаньона. Хорошо сговориться бы с Петрдэ, но Петрдэ неразворотливый и мелочный. Стало быть, надо искать других. А скажи об этом Каке или даже Мамахану – другу, сразу начнется спор: почему в этой церкви будет петь и крестить юкагир, а не чукча и не якут.
Как бы то ни было, а пришлось открыть свои мысли. И выбор Куриля пал на Мамахана. Купец и богач Мамахан Тарабукин сразу смекнул: дело и нужное, и выгодное.
Разговор о постройке церкви произошел после большого камлания. И Мамахан но дал Курилю поговорить: попом будет якут. Но ведь не ему же первому русский священник сказал обо всем этом – так почему же якут?
Поспорили, но ни на чем не сошлись, а строить церковь все же решили твердо.
Потом они ездили в Среднеколымск. в Верхний и даже Нижний остроги. Божьи дома были огромные – глянешь на крест, малахай потеряешь. А строить поменьше, видно, нельзя. Спросили, сколько надо песцовых шкур, чтобы такой же дом поставить в тундре. Городские сказали: двести мало, надо четыреста. А исправник даже с мягкой красивой скамейки вскочил: "Что? Четыреста? Да если в шестьсот обойдется – это вам бог просто уважение сделает…" Вернулись домой невеселыми. Собрать столько пушнины с людей да ничего за это не дать – попробуй, помотайся по стойбищам. Бедно люди живут, у многих ровдуги дырявые, в день всего по две трубки выкуривают…
Но и Куриль и Мамахан понимали, что строить церковь все равно надо.
Светлая вера не только очистит людей от грехов, но и сделает их послушными, а кроме того, она отнимет власть у шаманов и разорит шаманов-жуликов, которых развелось больше, чем надо. Но главное – построить церковь на свои деньги и попа посадить в нее местного, своего. Если же за все это возьмется губернатор или исправник, то попом станет русский или нездешний якут, которые будут на город оглядываться, и тогда туго придется неграмотным богачам, не говоря уже о мелких купцах.
Время шло, а Куриль с Мамаханом никак не могли собраться и обо всем подумать по-настоящему. И вот наконец решили: пусть эта зима станет началом.
А раз церковь выгодней строить здесь, в Булгуняхе, то и решать все лучше на месте.
За ползимы много горькой воды выпили два богача друга, много чохона [48]48
Чохон, или хаяк – коровье масло, очень дорогой продукт в тундре тех времен (якут.).
[Закрыть]поели. Но не без пользы для дела. Условились твердо: Куриль возьмется за сбор пушнины, а потом, когда Мамахан продаст ее в городе и купит все нужное для постройки, он привезет материалы на место по Якутско-Колымскому тракту. У Мамахана были большие связи с якутскими, индигирскими, иркутскими купцами и даже с ветвью какого-то купца из Москвы, а Курилю было все же сподручней иметь дело с простым народом: немало людей он выручил в трудное время, хапугой его не считали.
Все хорошо и складно решили они, но тут до Булгуняха долетели страшные и непонятные вести, из-за которых пропала охота пить горькую воду. Шаман Сайрэ будто бы внушил Мельгайвачу сделать надрез на животе, чтобы при грехомытии обрести власть над духами, а тот перестарался – не то задел кишки, не то смешал кровь с шерстью, стал опухать и чуть не умер. Голова же чукчей шаман Кака, говорят, спас его и получил за это подарок – половину всего огромного стада. Такие серьезные слухи быстро опровергаются или подтверждаются. Эти подтверждались надежным нарочным, посланным в Халарчу.
Призадумались Мамахан и Куриль. Пока они годами собираются отколоть людей от шаманов, шаманы действуют, да еще так, будто они вот-вот возьмут всю целиком власть над тундрой. Это не просто новая свара, на которую можно плюнуть: один богач совершил глупость, а другой нагло ограбил его. Люди знают, что богачи вовсе не глупые и что добро им достается не даром. И только совсем непонятная сила может заставить их резать себя, отдавать за камлание половину богатства. Как же им-то, простым, совсем темным, малоимущим людям не бояться этой силы, не почитать ее и не подчиняться ей…
Несколько дней Куриль и Мамахан не встречались. Каждый заново обдумывал затею с попом и церковью, каждый прикидывал, побьет ли светлая вера черную веру. Купец Мамахан, знавший, что на строительстве он кое-что заработает, рассудил в конце концов просто: церковь будет готова года через три или четыре, а к тому времени история с Мельгайвачом заглохнет и опасаться, стало быть, нечего. Куриль пришел к такому же заключению, однако он был головой юкагиров и вовсе не хотел, чтобы эти три-четыре года с ним считались меньше, чем с шаманом Сайрэ. А еще он сильно переживал неудачу во время большого камлания, когда шаманы не посчитались с ним, не пошли на сделку ради добра, из-за чего все теперь обернулось вот так нехорошо для него, для юкагиров и чукчей. И он решил тоже действовать.
Зайдя к Мамахану и отказавшись выпить горькой воды, Куриль сразу заговорил:
– А ты, догор, знаешь, почему мы слабы? Потому, что у нас нет ни шестисот шкурок, ни денег. А если было бы это, то как раз бы время сейчас завозить лес, говорить о светлой вере и божьем доме, о своем попе и еще о том, что шаманы – черти…
– Ты, Куриль, накинул аркан на собственную руку, – сказал Мамахан. – Ты все эти дни прицеливался?
– Нет. Я приглядывался к ветвистым рогам шаманов-чертей… Я в конце зимы проведу большое оленегонное состязание. Поставлю на первый приз половину своего табуна, другие богачи поставят по стольку же, и я выиграю этот приз. Выиграю – или отдам печать кому угодно.
– А я продам этих оленей, куплю бревна, ты привезешь Их – и в Булгуняхе или на берегу Большого Улуро застучат топоры, – договорил Мамахан.
– Это не главное. Главное, я скажу всем людям, что отдаю выигрыш светлой вере.
– Хорошо. Но кроме этого, ты еще соберешь шкурки – и божий дом будет готов? А как же я? Может, ты без меня справишься?
– Глупому все это я рассказал бы не так…
– Догор Куриль! До чего же у тебя умная голова! – Мамахан даже вскочил на ноги. – Я, значит, тоже должен провести состязание? Конное? Я на первый приз ставлю двадцать! Хватит! А выиграю сорок или больше… – И он добавил вкрадчиво, с расстановкой: – Сегодня мы пьем водку…
И покатилась вторая половина зимы под уклон, на ровное поле гонок.
Не мешкая, Афанасий Куриль отправил посыльных к богачам индигирской и восточной тундры. Мамахан послал вестовых во все якутские заимки. А как только дни начали удлиняться, Куриль покинул свой Булгунях, перекочевал к Большому Улуро и на едоме Артамона поставил огромный тордох.
Жаркими, хлопотливыми были эти дни у богатых друзей, решивших бросить вызов шаманству.
Куриль первым делом подобрал гонщика. За три луны до состязаний он пришел в тордох Пурамы и спросил:
– Пурама не забыл, кто он такой?
– Я? Твой шурин и первый охотник, у которого в мешках вместо шкурок гуляет ветер.
– Шкурки, надо менять на порох и железные капканы. А Пурама рыбу и мясо отдает шаманам, а потом шкурки на еду меняет.
– Я не пойму, зачем ты ко мне пришел и что хочешь сказать.
– Пурама не забыл, что его близкий родственник два раза подряд выигрывал на состязаниях? Хороший гонщик – вот кто такой Пурама!
– Теперь понимаю. Я, значит, должен выиграть тебе еще одно стадо и тоже умереть? Смотри, Куриль… Мельгайвач жирел, жирел – и лопнул. Кака ограбил его – и тоже лопнет. Всем богатством тундры одному человеку завладеть нельзя – бог не разрешит.
– Пурама прав. Я назначил большое состязание. Но гонки проведу по старому правилу: приз выигрывает хозяин оленей, а не гонщик. И ему незачем будет умирать… А за меня переживать нечего: если лопну, то не сейчас. Сядем, шурин, поговорим спокойно.
В тордохе было тепло. Пурама отличался огромным трудолюбием, без дела не мог сидеть, а лазить с иводером [49]49
Иводер – крюк из рога молодого оленя, приспособленный для добывания топлива.
[Закрыть]по снегу мог сколько угодно. Но хоть и любил Пурама жить в тепле, был он, однако, настоящим сыном тундры. Худой, с сухим обветренным лицом, он казался человеком, которого не может взять никакой мороз. Да, в тундре все зависит от подвижности и трудолюбия – ленивых она жестоко наказывает. А Пурама побывал в таких переделках, что иной и не выдержал бы. К тому же характер у него был вспыльчивый, и жил он в постоянном напряжении, словно дикий зверек. Куриль, знавший его гордый и независимый нрав, редко бывал у него и мало ему помогал. Но сейчас он пришел – ему нужен был человек-пружина, человек-стрела.
– Я скажу кое-что важное, и Пурама сам поймет, почему об этом пока не надо рассказывать никому… Я и купец Мамахан решили поставить в тундре большой божий дом… – Куриль замолчал в надежде узнать, как воспримет главную новость простой человек.
И то, что последовало за этим, обрадовало его. И без того узкое лицо Пурамы стало вытягиваться – рот его открылся от удивления, а быстрые маленькие глаза будто ушли куда-то назад, чтобы издали разглядеть человека, знакомого и вроде бы незнакомого.
– Мы поставим божий дом, – продолжал Куриль, – а божьим человеком, попом, станет не приезжий, а свой юкагир. Мы его пошлем в острог на обучение. Но божий дом будет для всех, и строить его должны все. Я приду к Пураме первому и попрошу хотя бы одну песцовую шкурку.
– Я дам две! Нет, я дам три! – выпалил Пурама.
– Две хорошо, три не надо – пусть другие тоже дадут… А я и Мамахан богаче вас всех, и потому мы должны больше внести. Мы внесем, но мы хотим еще больше внести – чтобы дело шло скорей и надежней.
– Я понял тебя, Апанаа, кажется, хорошо понял, – сказал Пурама. – Призы отдадите? И их надо взять? – Но тут лицо охотника неожиданно переменилось, стало обыкновенным, злым и недоверчивым. – Я понял тебя, – повторил он, но уже иным, недобрым голосом. – Я дам песцов, я погоню оленей. Однако с условием: перед самой гонкой ты скажешь людям, что весь выигранный табун отдашь божьим работникам, которые сделают божий дом. Согласен? – Пурама привычно искоса посмотрел прямо в глаза Курилю, будто прицелившись в него из ружья. – Не сердись, Апанаа: дело такое – сразу не сообразишь. Тебе я верю.
Ты добрее других богачей. Но все вы обдумывали с Мамаханом? А вдруг Мамахан не выиграет приз и ничего не даст? И тогда тебе одному отдавать будет обидно…
– Он меня с наглым Какой равняет! – вспыхнул Куриль, забыв, что стоит ему согласиться с условием, как зятю крыть будет нечем.
– Почему ж я равняю? – спокойно сказал Пурама. – Приз будет честно выигран… Да кто же поверит тебе, – сорвался он с мягкого тона, – что в тундре богачи захотели поставить божий дом, как в остроге? Да еще захотели попом посадить юкагира, чтобы он с самим богом и царем разговаривал! Нет, не поеду я.
– Ну и ладно. К чертям! – встал Куриль и нахлобучил шапку. – Найду другого. Я сам хотел сказать, что оповещу народ: приз – для божьего дома. Найду гонщика. А Пурама пусть идет и прислуживает Сайрэ. Может, шаман посоветует охотнику из ружья Себе в живот выстрелить. Погляжу я, как зятю совестно перед богом будет, когда железный крест к облакам на ремнях потянут…
Он зло расшвырял обтрепанные полы ровдуги и, конечно, ушел бы, если б слова его не убили наповал все неверие и подозрительность Пурамы.
Охотник вскочил и с ловкостью затравленного песца втиснулся в дверь между жердью и напрасно обиженным гостем.
– Апанаа, постой, – залепетал он, – зачем же ты так. Ну какой ум у меня? Что я видел и что понимаю? выкинь из сердца мою обиду – мне твою выкинуть будет трудней…
И Пурама взялся исполнять такое неожиданное, такое важное и страшноватое поручение зятя.
Тайна, которой была покрыта его подготовка, напрягала и ум, и силы его до предела. Он сам отобрал оленей, переглядев всех потомков тех самых оленей, которые принесли Курилю богатство. Первый раз он выехал в тундру после полуночи, когда меньше всего бывает опасность встретить каюра или посыльного-сплетника. Уже на другой день после пробной объездки Пурама пришел к Курилю и сказал, что нарта не годится для состязаний – она тяжела и груба. Куриль велел пока ездить на этой: пусть олени привыкнут к тяжелой, и тогда легкую они понесут как на крыльях.
Катаясь на нарте, Пурама часто крестился, а еще чаще разговаривал с богом. Нет, он не просил его помочь выиграть приз, который оказался очень большим. Он просил его сделать сердца Куриля и Мамахана твердыми, чтобы из них не ушла добрая воля и чтобы в них не проникла ни обида, ни зависть.
Новую нарту взялся выстругивать лучший мастер Нявал. С Нявалом разговор был короткий: зима перевалила за середину, и его семья, как всегда, нуждалась в еде, чае и табаке. Ну, а насчет тайны договариваться не пришлось – Нявал по необходимости-то не умел толком сказать двух слов. Нарта у него получилась сказочной – он сам съездил к купцу Мамахану, и вместе с ним они выбрали самые стройные, без сучка и извилины, молодые березки, и тесал, гнул, сушил и подгонял он каждую рею с великим терпением. Готовую нарту можно было поднять рукой и повертеть ее в воздухе.
А Пурама продолжал гонять по тундре оленей. Он гонял их и днем, и ночью, не щадя ни их, ни себя. И за три луны олени сбросили жир, исхудали, но зато и окрепли.
Первым из богачей, приехавших на берег Большого Улуро, был Тинелькут – владелец огромного стада в восточной тундре. Тинелькут потребовал, чтобы в призовом табуне Куриля были ламутские важенки и быки: он надеялся на выигрыш, который позволил бы ему распространить кровь ламутских, самых лучших оленей на восточную тундру, то есть на свое стадо, состоявшее из каргинов. Куриль согласился.








