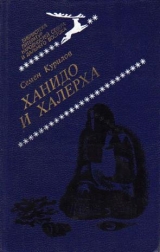
Текст книги "Ханидо и Халерха"
Автор книги: Семен Курилов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 48 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]
За сугробом дорожка была очень узкой, стесненной кустами и снежным заносом. Десятерым первым женщинам здесь никак нельзя было по-честному состязаться – передние не уступали дорогу. И поневоле началась потасовка.
Вторая оттолкнула в сторону самую первую. Та чуть не упала, а когда поняла, что случилось, – бросилась из последних сил за обидчицей, догнала ее, схватила за волосы. Моментально дерущихся опередили другие, но и среди них завязалась схватка. Раздались крики, кто-то отлетел в сторону и плюхнулся в снег, кто-то попытался обежать стороной дерущихся, но завяз по пояс в сугробе над ямой.
Шутки уже не были шутками, и мужья не могли молчать. Тем более что заветная жердь была недалеко.
– Это твоя схватила мою за волосы. Зачем схватила?
– Толкаться не будет! Пусть толкает тебя.
– А ей надоело глядеть на кривые ноги. Хлыстом свою погоняй по тундре – может, ноги прямыми станут…
– С кривыми – да первая. А за такие слова – убью!
– Том! Том! – перебил спорщиков громкий голос. – Ты сейчас иголками торговать будешь или жен мирить?
– Мужиков будет мирить! – ответил за американца другой весельчак.
Томпсон икал от смеха и огромным клетчатым платком вытирал слезы.
Другой рукой он держался за живот, который вздрагивал так, будто в нем бился теленок.
Четыре женщины резко рванулись вперед, оставив позади и кривоногую, и ее соперницу.
Толпа загоготала, как табун лошадей.
А у четырех женщин от смертельного напряжения и близкого счастья глаза перекосились или залезли под лоб – вместо глаз виднелись только белые точки.
Одна из четырех бежала чуть впереди; чтобы обогнать ее, вторая сняла рукава – и керкер ее поволочился по снегу. Третьей вдруг стали мешать толстые, длинные косы – она засунула их в рот и прикусила зубами. Четвертая неожиданно выдохлась, руки ее повисли, а ноги подкосились. Но в этот момент третья – та, что держала косы в зубах, поскользнулась и грохнулась на спину.
Увидев это, потерявшая силу и надежду воспрянула духом, зачастила ногами.
Однако глаза ее не все видели – она наступила на рукав, волочившийся по снегу; ноги ее разъехались, и она шлепнулась. Тут же упала вбок и та, которая волочила свой керкер. Тогда вперед, словно из ямы медведица, бросилась упавшая на спину: она не выпускала изо рта косы, зубы ее были оскалены, и понеслась она почти на четвереньках.
А толпа заорала что было мочи: самая первая схватила двумя руками яркий кусок материи, скомкала его на бегу, прижала к груди – и упала в снег, как убитая пулей. Полная коробка иголок и наперстки, привязанные к материи, достались одной, всего одной женщине! И подступившая к самой жерди толпа шумела, приплясывала, подпрыгивала – будто шаманила. И не было ей никакого дела до того, что женщина потеряла сознание, что к ней бросился муж, который никак не мог вытащить из ее окостеневших рук богатой добычи.
А между тем женщина, закусившая косы, нырнула под жердь – и все увидели, что второй клок материи остался на месте. Упала женщина, но не замерла, не потеряла сознание – она сразу же села и начала медленно водить по сторонам мутными, сильно перекосившимися глазами. Видно, сплошная чернота была в ее голове.
Но четыре руки, разом сдернувшие материю, она разглядела. И тут же вскочила.
– Мой приз! Отдайте! Я не успела схватить!
– Ишь ты какая! Она не успела! А я успела!
– Нет, я, я первая сдернула!
– Как это первая ты? Все видели – я! Не ври!
– Ты не ври!
– Я первая прибежала – мой приз!
– Не успела – бери третий.
И, глупая, тряхнув косами, бросилась к последнему призу. Но вместе с ее руками в материю вцепились еще четыре руки.
– Уходи! Не твой!
– Как – не мой! Кто прибежал раньше? Отдайте – моя материя.
– Ага! Погналась за вторым – не сумела сдернуть. Теперь за чужой ухватилась? Уходи!
И сильная рука ловко поймала ее толстую косу, рванула в сторону.
– Ай-ай! – закричала несчастная.
А материя треснула с краю и поползла вдоль по нитке, рыча, как медведь.
– Так вам и надо! Тьфу!
Но сдаваться было нельзя, и женщина с красивыми, теперь растрепанными косами снова бросилась к своему законному куску материи, который перетягивали туда-сюда все те же две женщины.
– Не мой третий приз! Мой второй. Отдайте. Мужчины видели – я второй прибежала.
– Ага, оборвали тебе косы, сюда пришла! Уйди – а то волосья твои с кожей вырву.
– Ах, так! Вот вам!.. – И рассвирепевшая, замордованная чукчанка в момент перекусила край материи, рванула ее руками. – И вот вам еще! – Она сильно ударила по коробке, болтавшейся на шнурке. Иголки брызнули вверх, словно дождь. – Не мне, и не вам!
И тотчас обе женщины упали на снег, пытаясь прикрыть драгоценное место.
Обе они стали быстро и жадно сгребать истоптанный снег. Но люди знали, что они не правы, и тоже бросились собирать иголки – мужчины, женщины, дети.
А чукчанка с растрепанными косами стояла в стороне: у нее дергался подбородок, а по бледным щекам катились слезы.
Куриль, расставив ноги, смотрел из-под бровей вниз на ползающих и пересыпающих из ладони в ладонь пожелтевший снег. И когда он увидел старого чукчу, который, вроде собаки, лицом разгребал снег, очевидно надеясь, что иголка воткнется в подбородок, нос или лоб, – поднял голову, обвел взглядом верхушки деревьев – и вдруг уставился на Томпсона.
Эта игра кончилась. Теперь начиналась другая, размах и законы которой знали одни богачи.
Американец без ошибки понял взгляд Куриля. Он повертел выпученными глазами, собрал губы в кружок, пососал одну щеку, потом другую. Что-то прикинув в уме, он наконец чмокнул губами, поднял руку в перчатке и пошевелил огромными пальцами. Около него сразу же появился человек, которого богачи и купцы считали до этого посторонним. Все напряженно следили за тем, что будет дальше, и одновременно разглядывали еще одного подручного американца. Это был опять же восточный чукча среднего роста с широченными плечами; бросался в глаза его маленький, но острый, крючковатый нос, похожий на клюв совы. Остроносые люди часто очень подвижные. Этот был, однако, удивительно собранным, спокойным, даже холодным, медлительным. В малоподвижных глазах его отражалась такая самоуверенность, точно был он, по крайней мере, братом Томпсона или помощником исправника Друскина…
Не спеша чукча достал из кармана коробку, выгреб из нее часть иголок, высыпал их в варежку и подал неполную коробку американцу.
– Люди, люди! – сказал Томпсон по-чукотски. – Нехорошо кончилось состязание, ой как нехорошо. Надо по совести делать все. По совести. Только по совести. Я не затем выставлял призы, чтобы женщины ссорились. А драться вовсе нехорошо. Все испортили сами. Теперь справедливость может восстановить только моя доброта. На, лэди с косами, получай свой приз… – И Томпсон протянул руку с коробочкой.
Молодая женщина ловко шмыгнула через людей, не хотевших вставать с земли, цапнула, словно зверек добычу, коробку и мигом исчезла в толпе.
– А теперь женщины – все женщины, которые состязались сегодня, подходите ко мне, – сказал американец. – Я каждой подарю по иголке. На память. А девочке… Где девочка с бабушкой? Девочке я подарю две…
Чукча с кривым остреньким носом встал перед Томпсоном и через плечо подал хозяину вторую коробку с иголками. И тут же с силой, не покачнувшись, не изобразив на лице никакой злости, оттолкнул ламутку, которая не выдержала и протянула к Томпсону руку.
– Так вам, ламуткам, и надо! – сказал Ниникай – младший брат богача Тинелькута. – Бегать им совестно. Дуры…
– Ну и помощников себе подобрал амарыканкиси, – сказал по-юкагирски, вроде бы сам себе, Пурама.
– Не тебе чета, – буркнул Куриль. – Ходишь по ярмарке с разинутым ртом. Люди вон уже мешки с песцами трясут…
– А я из любопытства приехал.
– Любопытствовать надо с умом.
– Стараюсь с умом…
Мика Березкин не смог до конца вынести этой картины щедрости американца. Брызнувшие дождем иголки мелькали перед его глазами, куда бы он ни посмотрел. Он, правда, утешал себя мыслью, что Томпсон сильно пострадал, отдав бесплатно целых три коробки людям. Но если у американца этих коробок сто? Тогда он года на три вышибет козыри из его рук… Чтобы дальше не мучиться, Мика решил уйти. Он осторожно протиснулся к Курилю и тихо сказал:
– Учти, Афоня: американские иглы круглые, потому ломкие – для материи только. А шкуры шить лучше трехгранными, русскими. Яков мой к вечеру привезет русские. Чайгуургину скажи…
– Ладно. Сам разберусь.
Раздав всю коробку, Томпсон легонько толкнул чукчу – и Тот, не оглядываясь, подал ему варежку, в которой было еще полкоробки иголок.
Вытряхнув на свою огромную ладонь и эти иголки, он продолжал раздавать их, теперь уже каждому, кто протягивал руку.
– Шагай к нартам – тащи мешок, – тихо приказал Куриль Пураме. – Туда, к палатке тащи.
С кислыми лицами, уже понимая, что американец взял на ярмарке верх, купцы начали расходиться, мучительно соображая, что делать сейчас, как торговать в ближайшие годы.
Томпсон возвращался к палатке один. Он шагал медленно, разглядывая то макушки деревьев, то рассыпавшуюся по большой поляне толпу, сплошь одетую в шкуры. Перчатки он нес в руке. Было тепло, ярко светило солнце, в воздухе так и висел запах близкой весны. Томпсон начал было высвистывать какую-то песню, но быстро оборвал ее: он увидел впереди себя человека, в котором узнал Потончу.
Поджав губы, Томпсон коротко свистнул.
Потонча немедленно оглянулся и сразу остановился.
– Что невеселый нынче? – спросил американец, шлепнув его перчатками по спине. – Обиделся на меня? О, обижаться не надо. Скоро в Америку я поеду.
Нас ждет большая торговля. Очень большая… Только людей у меня мало. Взял недавно еще двух – пусть подучатся. А ты все умеешь, ты подождать можешь…
– На золотишко мое намекаешь? – задрал голову и искривил лицо Потонча. – Э-ге-ге! Нет у меня ничего. Урвал немного, да за эту зиму все и спустил.
– Не надумал жениться?
– Жениться? Зачем? Интересно каждый раз свеженькую… Тундра большая.
– О-эй! – ответил американец и оттолкнул его в сторону. Однако сейчас же свистнул. Потонча опять оглянулся. Томпсон погрозил ему пальцем: разговор, мол, никого не касается.
Потонча неопределенно осклабился и зашагал быстрей.
Сердце Томпсона, в привычном понимании, было не на месте. Оно стучало сразу в двух мостах – в большой палатке, до которой оставалось двадцать-тридцать шагов, и в теплом, увешанном зеркалами магазине, до которого не одна тысяча миль. И все-таки сердце американца было как раз на месте – потому что его и здесь и там ласкал, нежил белый песцовый мех, белый и мягкий, как гагачий пух, как облака…
Сейчас Томпсон отогнал от себя все тревоги. Да, свора этих разнолицых – узкоглазых и курносых – купцов останется в дураках. Но разве он плохо относится к ним, разве не угождает? А торговать пусть учатся: торговля дело такое – обижаться можно только на самого себя.
Сегодня у Томпсона нет конкурентов – он знает, он все знает. На ярмарке даже не появился его земляк Свенсон: здесь ему нечего пока делать…
В самом лучшем расположении духа американец и подошел к своей огромной палатке, где уже суетились оба восточных чукчи.
У закрытого входа – десятки людей, половина которых ему знакома – богачи тундры. И знакомый богач, и незнакомый, и работник богача – все топчутся возле мешков; лица у всех напряженные, жадные. Это не их мешки – это мешки Томпсона…
– Том! Том! Иголки!..
– Будут. И по дешевке будут. Только немного. Я не стану жилы из вас тянуть. – Американец откинул шкуру на брезентовый верх.
И толпа сразу вломилась в палатку.
Томпсон бросил перчатки через штабель ящиков, прикрытых морской парусиной, за которым стояли наготове его помощники-чукчи.
– Одну коробку иголок меняю на два песца! – объявил он и вытаращил глаза: лица людей будто расперло – рты пораскрывались, узкие глаза стали широкими и страшными.
Это была неслыханная цена. За пятьдесят иголок всего две шкурки!
– Сколько ж в коробке… иголок? – робко спросил кто-то.
– Как всегда: пять десятков.
С толпой произошло невероятное. Все разом нагнулись, потом на них будто обвалилась огромная снежная глыба, под которой заворочались придавленные люди, высвобождая руки и головы. И эта шевелящаяся масса двинулась на Томпсона.
– Том! Мне. На. Самые лучшие!
– Том! Том! Глянь на мои: пух, не шкурки!
– Дай коробок! Дай, дай! Бери три песца! Бери.
– Восемь песцов даю! Мой коробок!
– Восемь линялых? Лучше четыре хороших! Том – на. Бери, Том, не пожалеешь.
Американец был могуч ростом, но руку с коробкой он поневоле протянул вверх, боясь, что иголки опять разлетятся брызгами.
– Тише, пожалуйста! – сказал американец. – Слово – мое, слову хозяин я. Беру твои шкурки, Куриль. Две – как сказал.
Пурама взмахнул рукой – и две шкурки, как две белые птицы, мелькнули в воздухе.
Чукчи сцапали их, ловко спрятали под прилавок и, будто два близнеца, одновременно стукнули о прилавок коробками.
– Мне теперь! Шесть шкурок даю. Сколько хочу, столько отдам.
– Том! Том! Тоже шесть. Только разницу видишь?
– Я даю десять! Десять. Том, десять! Лучший товар. Десять! – это кричал ламут, забивая все голоса. Не вытерпев, он швырнул за прилавок целую связку. – Мой коробок! Больше никто не даст.
Томпсон не удержался – отдал коробку ламуту. Но в руке у него уже была третья коробка.
– Двенадцать! – вдруг заорал одуревший от волнения Тинелькут. Он бросил сначала одну, а потом другую связку.
И снова чукчи стукнули коробочками о прилавок.
Стоя сзади бурлящей и орущей толпы, Мика Березкин не находил в себе силы уйти. Так бывает, когда глядишь на покойника: очень страшно, а глаза смотрят, не отрываясь, а ноги будто прилипли к земле.
– Тоже двенадцать! С реки Раучуа. Лучшие шкурки! Песцы только там настоящие. Здешние – мышечники [71]71
Песцы-мышечники – то есть песцы голодающие, питающиеся мышами.
[Закрыть].
– Это мои мышечники?! А ну, глянь – это плохой мех? Плохой?
– На берегах Раучуа лучшие шкурки! – стоял на своем восточный чукча. – Пусть скажут помощники Тома…
"Раучуа… Раучуа… Речка Раучуа…" – В голове Мики Березкина было пусто, как в тундре, накрытой черными тучами. И в этой пустоте – тундре, будто одинокий заяц, прыгало туда-сюда слово "Рау-чуа… Рау-чуа…"
Бессмысленно повторяя это слово, Мика выбрался из палатки и пошел, сам не зная куда и зачем.
По-настоящему он опомнился, лишь когда увидел себя на разъезженной дороге под высокими деревьями. Между стволами леса проглядывало круглое, без лучей, солнце. Кажется, вечерело. Да, а зачем он здесь? Куда ведет эта дорога? "А-а, – вспомнил Мика, – въезд из острога… Габайдуллин… Яшка… Где ж его черти перехватили?"
Мика заколебался: идти ли ему навстречу посыльному или же возвратиться к людям, на ярмарку. "Нет, все пропало, – вдруг решил он. – Скоро стемнеет".
И быстро зашагал к заезжему дому. В груди его все горело, и он знал, что душа просит водки.
С трудом открыв плохо обшитую шкурами дверь, Мика Березкин вдруг ожесточенно захлопнул ее и зашагал опять к палатке Томпсона.
А там, под натянутым на колья брезентом, творилось что-то невиданное.
Прилавка словно и не было – он утонул под грудами шкур. Рядом с покрасневшим хозяином стоял на ящике один из его помощников и потрясал коробкой, второй забрался на бочку и поправлял вороха, а все вместе они будто плавали в белой клубящейся туче.
– Восемь очень хороших даю!
– Десять!
– Том, Том – тоже десять! Но ты возьми в руки, только возьми! Обратно уж не отдашь.
И связка полетела прямо в лицо Томпсону.
– Бери, не жалей!
Томпсон поймал ее и не только ничуть не обиделся, но даже обрадовался: он был добр, они были добры – и все тут происходило по-свойски. Один только Мика Березкин видел все это иначе. Американец купался в мехах и блаженствовал, а богачи понимали его…
– Десять давал – двенадцать даю! Том! Том, я еще ни одной коробки не взял!
– О, так нельзя. Вот коробка твоя.
"Что он делает! Что только делает, – сильно зажмурился Мика Березкин. – Богачи же купцами станут! Купцами… А мы? О-о, что будет на следующей ярмарке! Порох задаром, чай задаром, табак задаром…"
Чуть не закричав вслух, Мика выскочил снова наружу – и едва не упал, налетев на собачью упряжку.
– Яков, ты! Дай. Дай скорей. Они грабят! Там – грабят! – Трясущимися руками Мика сорвал с большой коробки засаленную тряпицу, потом крышку. – Где, где ты был, где пропадал? У-у… – зарычал он медведем. – Убью, променяю иголки – убью…
И он кинулся в дверь.
Тут, в палатке, Мика немедленно преобразился.
– Иголки! – закричал он весело и изо всей мочи. – Русские! Трехгранные! Лучшие иголки. Трехгранные. Не ломаются, не теряются – из рук не вываливаются. Русские иголки – лучшие! Одна бумага – десять иголок, десять иголок – один песец!
Мика кричал, не обращая внимания на шум и суматоху. Он сразу увидел, что здесь произошла неприятность. Связки шкурок, разом брошенные Томпсону, запутались, некоторые порвались.
– Не моя эта связка! Мою отдай, – кричал один.
– А зачем кидал – мне коробку подали! – зло швырнул через себя связку другой. – Где моя?
– У меня в связке не хватает двух шкурок!
– Чего орешь? У меня целой связки нет. Стойте. Ищите.
– Люди, не топчите мои! Шкурки топчете!
– Как – твои? Это мои.
– А где мои?
– …Русские иголки! Русские – лучшие иголки. Трехгранные! – продолжал кричать Мика Березкин, надеясь, что суматоха образумит людей, заставит опомниться.
Люди и в самом деле опомнились. Многие повернулись к нему, тряся связками шкур. Однако и Томпсон не зевал.
– Одна коробка, пятьдесят штук – четыре песца! – закричал остроносый чукча. – Коробку за четыре песца – подумайте, что говорю!..
Однако круглых иголок уже нахватались вдоволь, и теперь многие бросились к Мике. Но и от Томпсона не отвернулись, тем более что он брал уже все без разбора – не самые лучшие, даже залинялые шкурки.
Очень быстро Яков Габайдуллин навешал на обе руки по пять-шесть связок.
Мика радовался: он знал, что бумажек с иголками у него не так много и что его барыш будет похож на мышонка перед барышом-медведем Томпсона, однако же иголки не останутся никому не нужными, не поржавеют.
Этого не мог знать американец. Он испугался: земля все же российская, во все ее тайны он не проник. А глаза его видели, что мешки богачей до конца не опорожнены и что с нарт то и дело подтаскивают новые.
– Кто возьмет сразу две коробки иголок – сто штук – и ружье? – вздруг закричал он по-чукотски и поднял над головой что-то такое, отчего можно было только зажмуриться: два ствола – как два луча солнца, – не стреляя, они уже стреляли, возле курков – блестящие изрисованные накладки, приклад изогнут – будто приготовился прыгнуть, рука, наверно, так и влипнет в тонкую шейку приклада.
Американец вертел ружье в одной руке, и все видели, что оно очень легкое.
После дикого гвалта палатку захватила такая тонкая тишина, что было слышно, как дышат собаки, загнанные Яковом Габайдуллиным. Мика Березкин так и замер на месте с протянутой рукой, в которой держал бумагу с иголками.
К этой тишине и подоспели старик Петрдэ, за которым посылал Куриль Пураму, и Чайгуургин, принесший еще один совсем небольшой мешок.
– За ружье – пятнадцать шкурок, – сказал остроносый чукча, неизвестно как узнавший цену Томпсона. – И сто иголок – десять. Всего двадцать пять шкурок. Ружье новое, такого здесь нет ни у одного человека. Это ружье оправдает пятнадцать шкурок не один, а пятнадцать раз. Ну, кто удал? Удалой всегда будет богат!
Не до конца выслушав эту речь, старик Петрдэ повернулся и очень спокойно вышел на волю. Здесь он высморкался и, словно нигде не был, заковылял обратно к яранге.
Тишина держалась недолго после слов чукчи. Ее с безбожной смелостью нарушил старик Тинелькут. Он поднял мешок и кинул его на ворох шкур между Томпсоном и чукчей.
– На. Тут больше, чем двадцать пять. Отдай мое ружье.
– Нет, погоди. Погоди! У меня шкурки с берегов Раучуа! – сказал восточный чукча и поставил свой мешок на мешок Тинелькута. – Погоди… Раз – и взял! Нет, так не получится. У меня самые белые и пушистые шкурки. Снега белей… Бери, Том. Отдай ружье и иголки.
И только теперь все остальные поняли, что через один миг взять ружье будет уже невозможно. Ничего нет страшней и упрямее чисто мужской страсти.
Богачи вдруг поперли вперед. Раздались короткие, отрывистые голоса. Все сразу стали не просто чужими, а вроде бы никогда и не видевшими друг друга.
В глазах – кровавое бешенство, лица – в суровых складках, локти у каждого растаращены ~ не моги напирать, но дорогу мне дай…
Почуяв неладное, чукча сбросил оба мешка под ноги толпы.
– Не класть ничего, пока не будет согласия! – зарычал он. – Сейчас цену набавлю.
Пурама хорошо знал, что Куриль не полезет. Поэтому он рванулся назад и выскочил из кряхтящей, шипящей, осатанелой толпы. Он остановился у самой двери и начал быстро-быстро моргать, играя желваками скул и кадыком.
Наплывшие слезы размыли все перед ним, и в этой неясной, будто залитой мутным жиром картине четко сверкали только полоски ружейных стволов, поворачиваясь и так, и этак…
Неизвестно, чем бы все это кончилось и за какую цену загудело бы диковинное ружье, если бы не Чайгуургин. Загородив искалеченный бок мешочком, морщась, кряхтя и обливаясь потом от боли, он упрямо протискивался вперед. И когда до Томпсона осталось подать рукой, он поднял над головой мешочек, тряхнул его – и выкинул на белый ворох десять черно-бурых лисиц.
Черно-бурые шкурки медленно, будто живые зверьки по пушистому снегу, сползли в ложбинку и замерли.
– С Ясачной реки. Из тайги. Три раза стоят двадцать пять шкурок песца. Гок! Гок! Возьми мои лисьи шкуры.
Напрасно он объяснял и хвалил товар. Американец и без слов видел, что выпрыгнуло из чужого мешка и влетело в его еще не завязанный огромный мешок.
Он опустил ружье и рывком подал его Чайгуургину.
– На, возьми. Шкурки не пожалеешь, – сказал он, но сам не удержался и схватил один из десяти почти готовых воротников. Левой рукой он привычно колыхнул мех, правой погладил его, однако тут же отбросил шкурку, будто она ничего особенного собой не представляла.
– Эй, мэй, где ж ты такой товар достаешь? – спросил Ниникай, брат Тинелькута.
Обалдевшая от неожиданного оборота дела толпа жаждала услышать от счастливца хоть одно слово. А Чайгуургин, одновременно морщаясь от боли и улыбаясь, сказал:
– У жены под одеялом поймал… Ты еще не женат? Смотри, как бы под одеялом у твоей красивой невесты кто-нибудь раньше тебя не поймал чернобурку…
Толпа закатилась хохотом. Смеялись все – смеялся Томпсон, смеялись его злые помощники, даже смеялся Куриль. Это было концом напряжения, в котором прошел большой и горячий день. Молчали только Мика Бсрезкин да Пурама. У Мики еще оставалась половина коробки иголок в бумажках, а Пураме вдруг сделалось нехорошо от всего нехорошо – от счастья Чайгуургина, от гогота богатых людей, вообще оттого, что он приехал на эту проклятую ярмарку.
И все-таки Пурама сказал Чайгуургину, когда тот подошел к Курилю:
– А патронов-то нет. Чем стрелять будешь? Тут нужны патроны особые.
– Эй, мэй! – встрепенулся, опомнившись, чукча. – Патроны! А где патроны? Дай патроны – бери десять песцов!
– О, патроны? – выпрямился американец, гладивший шкурки, – Мэй, мы же друзья! Много будет патронов. Ничего не стоят они. Только приходи завтра: устал я.
Он вдруг бросил шкурки и направился через толпу прямо к Курилю и Чайгуургину.
– О, господа, – сказал он, осторожно дотрагиваясь голыми ручищами до их спин. – Мы еще хорошо не знакомы. Я буду очень рад видеть вас завтра в заезжем доме. Я всех позову, а вы приходите раньше… Послушайте, люди! – обернулся американец к толпе. – Если я никого не обидел, завтра к вечеру заходите выпить хоть по полкружки. Я угощаю. Глотки размочим, а то накричались так, что после ярмарки рявкать будем…
– По-заячьи разговаривать будем! – крикнул кто-то в ответ.
И толпа недружно захохотала на прощанье, двинувшись к выходу.
– Если он никого не обидел!.. – пробурчал Мика Березкин, завертывая коробку в тряпицу. – Ну ничего: будет еще ярмарка…
На Приколымье опускались потемки.








