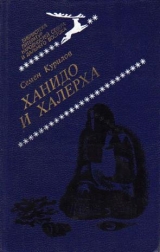
Текст книги "Ханидо и Халерха"
Автор книги: Семен Курилов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 48 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]
ГЛАВА 12
Последний день ярмарки был суматошным, каким-то неровным, растрепанным.
Все как будто метались на нартах по кочкарнику, отыскивая, что бы такое схватить или во что выстрелить. Да все оно и впрямь было так. Каждый, кто приехал сюда, уже сделал свое главное дело, и теперь оставалось лишь нарываться на случайную вещь, придумывать, на что бы выгоднее променять остатки, искать шаромыжника или менялу, которому позарез надо сбыть опоздавший товар. С утра еще мелькали песцовые шкурки в палатке Томпсона и в ярангах других купцов. Но охотничьи принадлежности и припасы оказались у всех, и сделки тут проходили с прижимом и быстро: есть шкурки – бери, нет – уходи. Этот товар похлеще иголок – на дешевизну надеяться нечего…
Опростали тундровики мешочки, а многие пожалели при этом, что чересчур увлеклись иголками, – опростали и вышли искать гостинцы, подарки, дешевую или случайную вещь.
Пурама в это утро проснулся рано: его, как и всех, кто ночевал с Тинелькутом, разбудил Чайгуургин. Голова чукчей стонал и охал. Сперва все молчали, как будто раздумывая, какие лучше слова сказать. Было ясно, что Чайгуургин вчера сделал сам себе хуже – больной, с разбитым боком, полез в толпу за ружьем; ружье взял, а теперь охает. Но шутить было грешно, тем более что и Тинелькут, и Куриль, и Лелехай, и Ниникай, не говоря уже о Пураме и Кымыыргине, сами, не задумываясь, полезли бы за таким ружьем – если бы у них тоже оказались мешки с чернобурками. К тому же Чайгуургину было действительно плохо.
– Полночи не спал, терпел, – пожаловался он.
И тут ему стали давать советы.
– Уезжать надо скорее, – сказал Тинелькут. – И шамана Каку вызвать.
– Ребра никакой шаман не исправит, если они поломаны, – не согласился с ним Ниникай. – Даже Токио. И ушибы не пройдут сразу. Лучше водки выпить.
– Много ты понимаешь! Тебе бы только водка.
– Тут, на ярмарке, слух про русского лекаря ходит, – подал голос Куриль. – Говорят, деревянной трубкой прослушивает, что у человека внутри делается. И заставляет пить целебную водку. Сразу вылечивает, говорят. Вот бы тебя к нему. Хоть бы только прослушал да сказал, что у тебя.
– Ну? Деревянной трубкой прослушивает? – привстал на локтях Чайгуургин. – Ой!.. Даже подняться нельзя… Это – шаман. Что ж ты мне до сих пор не сказал? Это – шаман. А вчера Кымыыргин весь день бегал – искал шамана.
– Не шаман он, а лекарь, ученый! – сказал Куриль. – Царь его от себя прогнал.
– Видишь, – прогнал! Царь-то – сын божий. Как же он не шаман, если келе внутри человека прослушивает?! А где этот русский?
– Говорят, в Среднем.
– А-а. А я думал, здесь. Но ничего. Можно и в Средний поехать. А зовут его как?
– Мускевич [72]72
Сергей Иванович Мицкевич – политический ссыльный, врач, друг В.И.Ленина; жил в Среднеколымске в 1899–1903 гг.
[Закрыть].
– Ну вот. Конечно, шаман. Сложное имя – Мукевич. Или как ты сказал?
– Мускевич.
– Запиши мне на доску – там прочитают. У них, у русских, легкие имена: Попэк, Солон, Бэрчэнов, Майкоп. А это – шаманское имя.
– Пусть будет шаман, – согласился Куриль. – Только ты поезжай.
Чайгуургин начал стонать. А когда боль отошла, неожиданно изменил решение и отверг совет Куриля:
– Ох, нет, – не поеду в Средний. Не поможет мне русский шаман. Чукча я.
– Он и якутов, и чукчей лечит. Ему все равно – так говорят.
– Нет, мне способней Каку попросить. Этот – который меня ногами-то бил, говорят, чукча прибрежный, а не восточный? Алитетом зовут. А прибрежные чукчи, они всегда ненавидят тундровиков. Может, тут вражда какая: все-таки я – голова… Ружье-то небось Алитет брал в руки – вот и следы оставил. Пусть Кака келе на него напустит. Да заодно и узнает, зачем приехал этот русский шаман…
Куриль шумно вздохнул, заворочался, сел.
– Ну вот – лучше б не говорил, – сказал он. – Опять по тундре разговоры пойдут…
Пурама не стал слушать дальше. Он отбросил шкуру, встал, подтянул меховые штаны, вышел наружу.
"Опять шаманы, опять грызня", – подумал он, усаживаясь на одну из опустевших нарт Куриля. И сразу всем телом почувствовал, что сегодня – последний день ярмарки, что завтра он поедет домой.
Пурама вздрогнул, зевнул в кулак, достал было кисет с трубкой, но не закурил. Перед ним по поляне, от яранги к яранге, от яранг к деревянным домам сновали люди с мешками, веревками, ружьями. Многие увязывали на нартах поклажу.
Домой…
Пурама сегодня долго не спал. Из-за ружья не спал. Верней, не из-за ружья. Когда Чайгуургин завернул двустволочку в шкуру и положил ее рядом с собой, Пурама задумался: пойдет или не пойдет богатый чукча на то, чтобы поменять эту двустволку на что-нибудь более дорогое? И решил, что не пойдет – он не согласится отдать ее ни за пятнадцать шкурок таких же лисиц, ни за все двадцать. Он – голова халарчинских чукчей, и ему всегда будет приятно похвастаться перед богачами вещицей, какой нет ни у одного человека в ближних и дальних тундрах. Обо всем этом Пурама рассудил довольно спокойно: мало ли что у кого есть, и волноваться тут нечего. Но ему вдруг пришло в голову пойти завтра к американцу и договориться с ним: американец привезет точно такое же ружье, а он даст ему за это пятнадцать или даже двадцать черно-бурых шкурок. Вот тут-то и заколотилось сердце. Американец наверняка согласится – но где взять столько меха? Где? Перекочевать на Ясачную и добыть самому? Нет, это мальчишество – он же не богач, чтобы самостоятельно перекочевывать, да и скоро ли один человек настреляет двадцать лисиц!
Оставался еще один путь. Часть огромного стада Куриля – это его, Пурамы, часть. Раз Куриль не выполнил слова, не отдал этих оленей на общее богоугодное дело, стало быть, он взял грех на свою душу, и если Пурама намекнет – Куриль тут же отрежет часть стада. Вот и ружье!..
Ружье у него в руках. И он уже было решил поговорить утром на этот счет с Курилем. Но шаманы научили Пураму рассуждать, глядеть во все стороны, а не в одну. Что же получается у него? Всемогущий бог почему-то не вразумил Куриля, не подсказал ему, как дальше быть, – года идут, а он не подсказывает. Может, он испытывает Куриля – стоит доверять ему большое дело или не стоит? Но бог, наверное, не разгневается, если Куриль отдаст оленей тому, кто их приобрел своими стараниями: не сумел его раб исполнить благо задуманное дело – что ж, значит, и не сумел. Зато честен. Афанасий может спокойно жить. А Пурама? Пурама променяет оленей. На ружье променяет. Вот так просто, не задумываясь, не вспомнив бога, возьмет и променяет…
Дорога вела к обрыву. Бог испытывает его. Испытывает так же, как Куриля. Нет, не так. Курилю он ружья не показывал. Показывает ему, соблазняет. А чем сильней соблазнишь охотника, как не ружьем? Возьмешь эту красиво и ловко сделанную двустволку – бац, а стволы на куски… А один кусок – в лоб… Нет, нет – богу не нужна его такая смерть: зачем ему пробивать в голове простого охотника дырку? Он просто оставит Пураму в тундре с обломком приклада и скажет: "Ну вот – а теперь думай…"
И станет Пурама на всю жизнь чужим, нелюдимым человеком, к тому же еще и посмешищем…
Когда посреди ночи Чайгуургин тихонечко застонал, Пурама лежал с открытыми глазами и был очень спокоен. Ему уж не хотелось иметь второе ружье, к американцу он передумал идти.
Он и заснул бы так, очень спокойно. Однако ружье было рядом, и оно все-таки не давало покоя. Ведь может же кто-то не мучиться, не размышлять – взял, швырнул из мешка чернобурки, забрал красавицу – и под бок ее. Просто все…
И тут Пурама вдруг возненавидел всю ярмарку. Богачи, купцы, перекупщики, шаромыжники – все эти важные и мелкие хитрые люди ему показались одинаково нехорошими, жадными, сумасшедшими из-за жадности. Он мог бы поклясться, что только сотую долю всех отданных купцами шкурок эти люди добыли сами. А где остальные взяли? Собирали ясак – и не весь отослали царю? Или у голодающих брали за кусок мяса? Не за кусок, а за малый кусочек, потому что от тысячи оленей даже целый олень это только кусочек… Но разве достойно мужчины не самому добывать шкурки, а брать у других или выменивать взятые у других – за порох ли, за иголки, за материю или ружье?! Пурама лежал в одной яранге с шестью такими людьми: тут были Тинелькут с братом, Чайгуургин с племянником, его шурин Куриль и старик Петрдэ. И он с насмешками и злостью припоминал, как каждый из них, кроме старого жадины Петрдэ, метался по ярмарке, вынюхивая, выслеживая товар или бросаясь в толкучку, при этом вовсе не вспоминая о том, что в мешках у них – чужое добро. Особенно гадким ему казался Чайгуургин. Огромный, могучий детина с разбитым боком лезет в толпу, обливаясь потом, выкидывает чернобурок, живыми которых наверняка и не видел, берет ружье, потом бессовестно шутит. Он шутит – а все гогочут… А другой великорослый детина, которому бы на медведя ходить – американец, – трясет коробочками с иголками и хватает на лету шкурки… Куриль важничает, хочет показать себя достойнее, умнее и честнее других – но все-таки берет от американца подачку, а придержанные шкурки тут же сбывает Мике Березкину…
Когда Чайгуургин застонал утром и сказал, что терпеть больше не может, Пурама подумал: "Так и надо тебе. Хоть бы у твоего американского ружья стволы разлетелись на части".
Такой была эта ночь Пурамы. Но одно дело – ночь. Если надо спать, а сон не приходит, то вместо сна приходят тяжелые и дурные мысли. Когда же человек отдохнет и проснется – тут дело другое. На все передуманное и пережитое человек непременно посмотрит сверху. Что Пураме Чайгуургин? Разлетятся ли при первом же выстреле стволы у его ружья или он будет хвастаться им до старости лет – какое ему до этого дело? Пурама едет домой – вот что теперь главное…
Вспомнив о доме, о тундре, невыспавшийся охотник зевнул, нехотя, по привычке достал кисет и трубку. Прикурить огня не было, потерял кремень, но он не стал искать глазами ярангу, из которой бы поднимался дым. Сунул в рот трубку, спрятал кисет – и вдруг остро почувствовал здешние запахи. Дым ярмарочного стойбища был совсем не таким, как в Улуро. Там топят сырым тальником, и дым всегда отдает едкой горечью. Здесь на костры ломали сухие сучья, и дым потому был нежным, пахучим, приятным. И еще здесь круто, приветливо пахло помягчевшей к весне древесной корой и конским навозом…
Пурама подумал о том, что ему в общем-то везет в жизни. Вот ведь никто из простых людей не видел этой ярмарки и наверняка никогда не увидит. А он побывал и насмотрелся всяких чудес. Его теперь каждый день будут расспрашивать… "А что, если бы все стойбище на эти дни перекочевало сюда? Вот бы уж простым людям-то любопытно было! – Пурама вынул изо рта трубку и усмехнулся, представив себе, как удивлялись бы старики и старухи, как радовались бы ребятишки. – А разговоров, а разговоров бы потом было – на много зим… Да, а с чем бы приехали сюда люди? А что, если бы устроить ярмарку без богачей и купцов? Э, нет – плохая получилась бы ярмарка. Невеселая. Нет, совсем не получилась бы ярмарка…"
И он, мельком вспомнив обо всем пережитом ночью, стал рассуждать трезво. "А, да не в этих людях все дело! Не приехал бы Чайгуургин – приехал бы вместо него Кака. А вместо Березкина – Мамахан. Иголки мог привезти не Томпсон, а Свенсон… Нет, это не они придумали ярмарку. Наверно, богом она заведена. Может, и к лучшему заведена. Нахватаются здесь богачи иголок, сахару, табаку, чаю – и успокоятся. От них и простым людям что-нибудь перепадет. А когда разъезжий купец появится в тундре – богатый человек ничего у него не возьмет, и все достанется простым людям…"
Душа Пурамы улеглась. В глаза ему уже било солнце, взошедшее над макушками леса. "Ишь ты, дни-то какие стоят! Даже слабого ветра не было…
Да, надо бы наломать сучьев да сходить поглядеть оленей". Пураме стало совсем хорошо, когда он вспомнил о своем выигрыше: пригнать домой пятьдесят три оленя – из-за этого стоило ехать на ярмарку…
Он повернулся назад и начал приглядывать дерево с сухими нижними сучьями. И в это время увидел Лелехая и Ниникая, вышедших из яранги.
Брат Тинелькута был женихом – чуть-чуть переростком. Считалось, что он мог бы обзавестись семьей лет пять назад. Звался он Ниникаем, а попросту парнем, был он очень красивым, ну, а красивый парень из богачей всегда на виду и на языке. Не сбылись ожидания, что Ниникай вот-вот начнет разгонять молодую кровь: он стал пить и пить, а беды девушкам от него не было. Прошлой осенью он как будто сошелся с очень красивой чукчанкой. Однако прошла зима, а Тинелькут свадьбу не собирал. И сам Ниникай что-то мудрил: новую невесту не подыскивал и с этой не сходился по-человечески… Это был высокий, ладный, хоть и не плечистый парень, с гибкими молодыми движениями, которые не могла скрыть свободная одежда из шкур. Лицо у него чуть лоснящееся, в меру смуглое, волосы мягкие, и нигде они не топорщатся, нос ровненький, губы нежные. И только глаза ему как будто достались чужие – они диковатые, а часто – когда он выпьет – еще и въедливые, какие-то опасные. Из-за этих-то глаз всем и казалось, что Ниникай непременно начнет куролесить.
Пурама не просто не любил его, но ненавидел, как только может ненавидеть мужчина более молодого мужчину. Почему – он не знал сам. Может быть, потому, что Ниникай чем-то походил на него – нет, не красотой, а гибкостью тела, глазами; да, только этим. Между ними, однако, и впрямь была огромная разница: один пил и жил в свое удовольствие, а другой рыбачил, ходил на зверя, впутывался в грызню шаманов, любил, чтобы о нем говорил народ… Ну, а толстенького, маленького Лелехая Пурама вообще не считал достойным своего внимания.
Сейчас оба молодых богача шли прямиком к Пураме, хотя им следовало бы идти к купцам – чтобы потихоньку от старших выпить горькой воды: камусы-то завернули в тряпочки, – видно.
– Что? – спросил Пурама, когда они подошли к нему и молча стали разглядывать его лицо, будто никогда не видели.
– С нами… брат, а? – неуверенно, но стараясь выглядеть отчаянным, попросил Ниникай. – Понемногу бы… для веселости…
– Я пью только вечером, да и то если душа горит, – ответил охотник.
– Домой собираешься, а душа ничего не просит? – спросил Лелехай.
– А чего ей гореть! Жене три маха материи привезу, сыну – американских калачиков, а себе – пороху и пуль… – Пураме показалось, что Лелехай грубо намекает на его зависть к богатым людям, которые увезут с ярмарки очень много товаров.
Ниникай без ошибки понял его.
– Нет, брат, мы не про то говорим, – подступил он ближе. – Это мы сейчас от Куриля слышали, что у вас там сложно с одной красивой бабенкой… которой ты помогаешь… Что – она родить скоро должна?
Пурама от этих слов похолодел. Но не просто похолодел. Он испытал то же чувство, что в момент встречи с медведем, которого непременно надо убить, – хочешь не хочешь. Отвернув лицо, Пурама искоса, беспощадно посмотрел в глаза Ниникая.
– А вы так луны через четыре приезжайте в Улуро, – сказал он. – Бабенка после родов поправится. Побалуетесь…
Глаза молодого богатого чукчи блеснули таким холодным огнем, что Пурама не удивился бы, если б увидел в его руке выхваченный нож.
Насупился, сдвинув широкие редкие брови, и Лелехай. Однако Лелехай в счет не шел, и, если б все они разошлись молча, Пурама даже не заметил бы его лица. Но толстенький, маленький племянник Чайгуургина шагнул вперед и сказал такие слова, от которых у охотника даже зарябило в глазах.
– Пошли, Ниникай, пошли, – тронул он за рукав дружка. – Мы к нему, как к своему человеку, а он нас вожжой… Наверно, из-за ружья обозлился на всю ярмарку. Да мы сейчас разговор о вашей Пайпэткэ слышали – хотели тебя расспросить. Вот ему, ему удивительно это все. Хотел по-человечески… Нам тоже жалко ее…
Ниникай вдруг резко повернулся – и, не сказав ни слова, зашагал по направлению палатки русского купца Соловьева.
– Знаю, как вам жалко бывает! – сказал уже не так зло Пурама. – Особенно если девка сирота и защиты у нее нет.
Он хотел уйти, но Лелехай сделал еще шаг вперед и спросил:
– У тебя сколько оленей в стаде?
– Пятьдесят три. Да дома десять. Не дойдешь до палатки, как сосчитаешь.
– А те, что Куриль пасет?.. Слушай, чего ты волком на богатых оленных людей смотришь? Сам-то – оленный! Живешь только под бедного. А!.. – махнул короткой рукой Лелехай, собираясь уйти. – Чудные вы, юкагирские богачи: Петрдэ – глупый скряга, вашему голове шаманы мешают жить, ты – видно, большой хитрец. А у Ниникая переживания. Понимаешь – переживания!
– Га! Переживания! У чукчи… По три жены имеете.
– У Чайгуургина одна. У меня одна.
– У Каки тоже сперва была только одна… Не о чем говорить: ты молод и ничего в этих делах не смыслишь.
– Ну не смыслю, – значит, не смыслю. А тебе только скажу: у Ниникая невеста беременна, а свадьбы не было. Ты понять это можешь? Мучается человек.
– Ха-ха-ха… – зло изобразил Пурама смех. – А я о чем говорил? Красивая? До свадьбы с женихом играла? И шаман Кака знает об этом, наверно?.. Ладно, иди, Лелехай – веселись, пей со своим другом. Переживайте. И нечего вам интересоваться судьбой юкагирки: у вас то же самое будет.
Пурама зачем-то перевернул ногой нарту кверху полозьями и зашагал в лес.
Не ожидал Пурама, что этот последний день ярмарки будет таким суматошным. Не успел он засыпать снегом костер в яранге, как старик Петрдэ, обтерев руками губы и подбородок с редкими волосинками, спокойно проговорил, растягивая слова:
– Ты, Афанасий, должно быть, умно тогда сказал, что камусы да оленьи шкуры надо бы здесь обменять. Чего их в Нижний везти? Пьянство будет, а торговли не будет… Попроси-ка Пураму, чтоб он мне помог кое-что променять…
Он свалился с дерева, ударился и опомнился – не иначе… Ни один из возов Петрдэ действительно не был развязан – это Пурама видел. Но он знал и другое: старик слишком опытен и хитер, чтобы сделать себе что-то во вред.
Мало ли! Возможно, ему не подходят цены, может, он учуял чей-то просчет и ждет выгодного момента – ни одного ведь дня он не сидел на месте, каждую ярангу и палатку обошел только кругом, почитай, раз по десять… Но что же теперь получается?.. А если бы разум у него пробился сквозь скряжничество завтра, когда люди разберут яранги и палатки?..
Пока Пурама соображал, что бы такое ответить старику, Куриль уже придумал ответ:
– Да он поможет, конечно. Только я хотел возы вместе с ним поправить: не все хорошо уложено. До середины дня и прокрутимся…
Петрдэ не обиделся и не отчаялся.
– Ну что ж, – спокойно сказал он, – и ладно. А я посижу на нарте, покурю и вас подожду.
Ух, каким ненавистным вдруг стало для Пурамы сморщенное лицо старика!
Стыд-то какой – ходить со шкурами и упрашивать купцов взять их. К тому же к середине дня все кончится, купцы и богачи начнут пить – попробуй поговори с пьяной компанией. Хохотать будут, насмешки сыпать…
– Что ж – придется, – неожиданно согласился Пурама. – Только так, я считаю, сделать бы надо. Чего с мешком ходить – запрячь нарту, наложить побольше шкур, я бы оленей водил, а хозяин-то уже пусть договаривался бы…
– Ну ладно! – рассердился, поняв его уловку, Куриль. – Хайче лучше нас знает, что делает. Это мы швыряем дорогие шкурки за любой товар, которого не хватает. Твое ружье, Чайгуургин, одной лисьей шкурки стоит. А ты сколько отдал?
Богачи закряхтели, заерзали.
"Умен Куриль", – подумал Пурама. Злость с него соскочила, как малахай с головы.
– Сейчас пойдете, – сказал Куриль. – А возы потом подготовим к дороге.
И Пурама пошел.
К счастью старика, ему удалось добыть и чаю, и табаку, он даже взял муку и сахар. Нашлись купцы, которые и в последний день позарились на камусы и оленьи шкуры.
Этот запоздалый обход купцов неожиданно сильно увлек Пураму. Вместе со стариком Петрдэ он появлялся в торговых ярангах и палатках как раз в ту пору, когда шел суетливый подсчет барышей и остатков – необменного товара.
Над ними никто не смеялся, их не выталкивали за дверь. Даже напротив. Одни купцы видели в старике юкагире чудаковатого барахольщика, с которого можно содрать все до нитки, другие – ловкого хитреца. Так ли, иначе ли, но Пураме удалось побывать за пологами, за перегородками, где совершалось самое главное в жизни купцов.
Все недаром увиденное и услышанное оказалось таким удивительным, что сердце Пурамы в конце концов переродилось в какое-то существо, начавшее отдельную жизнь, – оно само прыгало, само замирало, само прислушивалось и само скрипело собственными зубами. Никогда не предполагал Пурама, что кто-то может иметь целый мешок бус, пересыпать пустые патроны, как ненужные камешки, что мука от долгого лежания может стать горькой, а потому ее надо незаметно выбросить в снег, что песцовые шкурки – это самое верное золото…
Пурама узнал, что есть огромные лодки, на которых может плыть по тысяче человек, что Томпсон все до одной шкурки обменивает на золото, что и поп Попов, и исправник Друскин тоже участвовали в ярмарке и получат барыш…
Сперва перед Парумой приоткрылась какая-то новая, сказочная жизнь, где не хватает одних только шкур да мамонтовых клыков. Но когда Петрдэ сказал:
"Хватит, больше менять не будем", сердце Пурамы опять стало обыкновенным сердцем.
Уже возле яранги он вспомнил о стойбище на Соколиной едоме – и вдруг будто провалился в какую-то пустоту. На душе стало горько, одиноко, тоскливо.
Кончилась ярмарка – и погода испортилась. К вечеру лес зашумел, деревья затрещали сухими ветками. Морской ветер погнал сперва крупный сырой снег, а потом ледяной мелкий песок.
Когда богачи уже собрались идти в гости к американцу, в яранге Тинелькута появился разъездной купец Потонча. Он был немного пьян, бодр и полон самых разных ярмарочных новостей. Новостей он знал слишком много и поэтому начал так: – Афоня, бра-ат, мужики! Неужели мы все разъедемся и не поговорим по душам? У американца разговора не будет, убейте меня – не будет. Нам бы, знакомым-то, собраться одним. Я же набит новостями, как мешки у купцов шкурами, а ваши мешки – припасами. А что оставалось делать? Томпсон-то меня подсек. Вот и ходил и шевелил ушами, как заяц. Ну дела, ну ярмарка!.. Афоня, ты, Тинелькут, ты, хайче Петрдэ, и вы, Ниникай с Лелехаем, – двинем к нам на Керетовую? И Чайгуургина обязательно довезем – у нас и подлечим. Или так сделаем. Говорят, в Нижний приехал лекарь из русских, он человека режет, а человек ничего не чует. Вот он его ребра и поставит на место…
Куриль с силой тер лысину красной и толстой от работы ладонью. Он соображал. Предложение Потончи хитрое: хочет повеселиться за чужой счет – подвыпившие богачи не будут скупиться. Но дело наверняка не только в одной этой хитрости. В Томпсоне дело. Он подсылает его.
– А что – я бы не против повеселиться, – сказал он. – Только на Керетовую не поеду.
– Ну? А почему? Места посмотрел бы, от ярмарки отдохнул, да и люди наши тебя хотят видеть, брат.
– Гы! Я им бог? Или царь? Я даже и не купец, чтобы меня чужие люди видеть хотели.
– Какие ж керетовские тебе чужие! – воскликнул Потонча. – Они тебя знают, о тебе слышали многое. Тебя почитают больше, чем других знатных людей!
– Ну, я еще ничего такого не сделал, чтобы меня почитали. Это ты, брат, врешь. На Керетовую не поеду. – Куриль повернул голову к Тинелькуту и, наверное, что-то передал ему взглядом – потому что Тинелькут сразу же предложил:
– А если ко мне, на Сохатиную речку поехать? До табуна моего недалеко. Всем хорошо будет. И купцов западных пригласить… Ты, Чайгуургин, как?
– Ох, не знаю. Мне лишь бы уехать. Резать себя никакому шаману не дамся.
– Что, Петрдэ, – к Тинелькуту в гости поедем? – спросил Куриль.
– Можно. Можно, – тотчас согласился старик. Да его племянник мог бы и вовсе не спрашивать: как же Петрдэ откажется от угощения! Но он его все же спросил – из уважения к старику.
– Ну, тогда пошли к Томпсону – выпьем за хорошую торговлю.
И они ушли.
В яранге остались лишь двое – охающий Чайгуургин и Пурама. Кымыыргин, наверно, встретил старых дружков и режется с ними в карты.
Только сейчас Пурама почувствовал, как сильно устал за все эти дни.
Ноги от бесконечной ходьбы по растоптанному снегу ныли и дрожали в коленях, руки были горячие и тяжелые, голову не хотелось поворачивать набок. Глаза сами закрылись. И он бы сразу заснул, если б не охал богатый чукча да не шумел лес.
Грустно было на душе Пурамы. Отдыхая, он обычно любил думать о разных загадках человеческой жизни, а больше всего любил думать о тайнах земли, неба, озер и рек, солнца, луны, звезд, о боге, о духах, о возвращении человека на землю спустя много лет после смерти. Но сейчас никакая из этих мыслей не шла ему в голову, не настраивала на сладко-тревожные или страшные вздохи. Ему сейчас было грустно, так грустно, что хотелось услышать какие-то тихие-тихие голоса – голоса матери и отца, что ли, а может, голоса добрых духов, которые не собираются помочь ему в какой-то большой беде, но готовы лечь рядом и долго, весь вечер, всю ночь, петь жалостную, однотонную песню…
Ветер качал деревья, шипел в тоненьких ветках; сухой и тяжелый снег налетал на ярангу и дробно стучал по ней; за пологом охал, а иногда скрипел зубами Чайгуургин, и оттого, что Чайгуургин был крупным, упитанным мужиком, его страдания Пураме казались особенно тяжкими. Ни бедное стойбище на Соколиной едоме, в тордохах которого за многие годы не прибавилось никаких дорогих предметов, ни богатое стойбище этой вот ярмарки, где у многих людей мешки трещат от добра, – ничего не притягивало его мыслей. Пураме было грустно не так, как раньше, среди лютых зим, когда и делать нельзя ничего и не делать тоже нельзя. Как будто заболела самая сердцевина души и боль расползлась по все тундрам, холмам, рекам, лесам…
Так он лежал очень долго, не открывая глаз, и чувствовал, что если даже заснет, то сон оборвут пьяные богачи. Богачи погалдят, потом захрапят, и он опять не сможет забыться, и ночь для него будет тяжелой, может, невыносимо тяжелой. А дальше – серое утро, безрадостная дорога, пьянство у Тинелькута, опять дорога с ночевками в тундре, наконец, стойбище… Мысли Пурамы то и дело доходили до стойбища. И он пытался продолжить их, уцепиться за что-то определенное. И хоть это определенное проступало в ужасных картинках нищенства и убожества, в горьких случаях изломанной голодом или шаманами жизни, – он был рад ухватиться и за такой поводок. Потому что надеялся испытать злость, боль или другое сильное чувство. Но все получалось не так.
Только начинала вертеть своей длинной уродливой головой Тачана, как в лицо ей вдруг почему-то летели белые шкурки песцов – точь-в-точь так, как летели в лицо Томпсону. Только появлялась в кособоком тордохе худенькая Пайпэткэ, только начинала она смотреть пустыми глазами в мордочку сосунка, изъеденную комарами, как над ее тордохом сыпался дождь иголок. И вот тут-то Пураму покидали силы. Все его тело заполняла боль и тоска – боль терпимая, но нудная и бесконечная, как шипение ветра в макушках лиственниц, а тоска черная, как беззвездная зимняя ночь над Улуро…
Придут пьяные богачи… Куриль сказал шаману Каке: "Пайпэткэ не трожьте: будете со мной иметь дело". А живот Куриля полон американской водки и американской еды… Ниникай на четвереньках вползет в тордох. Он переживает – нарушил обычай, не знает, что делать, а часть табуна брата получить хочется – чтобы через три года отдельно приехать на ярмарку…
Кымыыргин заночует у старых дружков. Лямки на состязаниях он резал затем, чтобы заиметь побольше оленей и сегодня ночью уверенно дуться в карты…
Стойбище – ярмарка… Пайпэткэ вышивает Потонче кисет бисером, а Потонча может до плеча засунуть руку в мешок с бисером…
…Почему и зачем Пурама поднялся, какая сила его подняла, он не знал.
Он только почувствовал, что до возвращения богачей надо уйти из яранги. Куда уйти – это не важно.
Было темно. Сухой снег шуршал, засыпая следы толкучки. Кругом шумел лес. Из забытья Пураму вывели непонятные крики, сбивчивый говор, топот ног о дощатые приступки заезжего дома. "А… пьянка идет", – догадался он и вдруг ощутил под мышкой какой-то сверток. Он выхватил его и удивился: откуда у него камусы, закрученные в пыжик? У него не осталось никаких шкур, все променяно. "Не украл же я!.. А может, пошел и украл? У Петрдэ? Или у Чайгуургина?.. Что такое – не помню… – Он оглянулся по сторонам, но ничего, кроме белой ряби летящего снега, не обнаружил. И зубы его почему-то сами собой стиснулись, губы нехорошо поджались, а глаза остро прицелились в темноту, в то место, откуда доносились говор, крики и топот ног. – Украл… А кто разберется тут, чей товар свой, чей царя или бога?"
И он зашагал к заезжему дому.
А там, в деревянном доме и возле него, творилось что-то невообразимое.
Если бы Пурама, решив удавиться, обвязал кочку арканом, а петлю надел бы на шею и уже разбежался бы, то он непременно остановился бы, увидев то, что увидел сейчас: разве согласился бы он умереть, не узнав, как кончаются ярмарки на Анюе! Но настроение у Пурамы было куда хуже, чем перед самоубийством. И поэтому он без всяких страстей принялся наблюдать за происходящим.
В темноте то расширялась, то сужалась желтая светящаяся полоска – это раскрывалась и не до конца притворялась дверь. А в двери то и дело мелькали тени. Но до дома еще шагов тридцать, а тут, рядом, кто-то храпит. Пурама шагнул в сторону и увидел мужика, растянувшегося на снегу. Нагнулся. Кухлянка у мужика задрана, штаны – ниже пупка, и твердый снег колотит по голому дышащему животу. "Ничего, отлежишься; не холодно – не замерзнешь", – подумал Пурама и пошел дальше. А навстречу ему два мужика волокут третьего.
Тот, которого волокут, плачет тоненько, по-бабьи, а его не до конца спившиеся дружки, оступаясь, припадая на колени, по-детски, заливисто хохочут. Они проковыляли мимо, а Пурама, заметив на снегу унт, поднял его и швырнул вслед дружкам: может, поднимут… У входа в заезжий дом – суета, толкотня, споры, плач, смех, голоса женщин. Кто-то выворачивает наизнанку переполненную утробу, оглашая поляну страшными криками, кто-то барахтается в высоком сугробе, стараясь непременно забраться наверх, кто-то, расставив руки, медленно движется вдоль стены, не то пытаясь обнять дом, не то отыскивая дверь. Одни стоят плотными кучками – что-то делят и ссорятся, другие, обнявшись и еле держась на ногах, разом подаются то в одну сторону, то в противоположную. А вот двое вцепились друг другу в горло и замерли на месте, будто оледенели; не поймешь, что происходит между ними, – то ли они боятся опустить руки и разом свалиться под ноги толпы, то ли медленно душат один другого…
Это и есть окончательное прощание с ярмаркой.
Но главное происходит не здесь, не на улице. Только Пурама протиснулся в дверь, как мимо него спиной вперед пролетел чукча, а возле самых глаз мелькнула растопыренная пятерня Алитета. Чукча грохнулся возле стены и скорей схватился за нос, утерся, размазав по губам и подбородку кровь.








