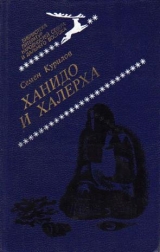
Текст книги "Ханидо и Халерха"
Автор книги: Семен Курилов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 48 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]
Поднявшись и еще раз взглянув на икону, Куриль отвел занавеску – и вдруг увидел попа, будто по божьему велению появившегося за спиной. Это новое совпадение было и удивительным и приятным. Куриль всегда испытывал тревожно-радостное чувство от приобщения к божьей жизни и божьим делам, которое каждый раз происходило как-то неожиданно и со всех сторон…
Священник Попов словно был с головы до ног обросшим шерстью: мех пыжикового малахая сливался с могучей рыжеватой бородой и усами, а борода терялась на длинной, до пят, оленьей дохе, ладоней рук не было видно – поп спрятал их в широкие рукава. Глубоко посаженные голубые глаза, смотрящие прямо в душу, острый нос и ярко-красное пятно нижней губы под усами делали это обросшее волосами лицо совсем непохожим на другие лица, а огромный начищенный медный крест, висевший поверх дохи на животе, окончательно отделял этого особенного рослого человека от всех остальных. Курилю всегда было приятно видеть попа Попова в такой одежде – ему так и чудилось, что божий служитель навечно сжился с тундрой и с людьми тундры и что в этом есть добрый, обнадеживающий знак.
– О, кого нам в гости послал господь бог! – распростер руки поп, увидев голову юкагиров. – Здравствуй, дорогой сын Афанасий, здравствуй во Христе, раб божий! – Попов обхватил Куриля и поцеловал его в лоб. – Да будут благословенны все богоугодные дела твои, да пребудешь ты, и семья твоя, и народ твой во здравии и благоденствии…
Он бы и еще говорил, да вошли самые богатые люди острога – Соловьев с Бережновым.
– Здорово, брат!
– Здравствуй, брат!
Припертая к каменному очагу, жена хозяина тем временем ухитрилась подкинуть дров в огонь, а в дверях, тесня богачей, показались Пурама и Кымыыргин, притащившие в мешках оленину, юколу и другую снедь.
Богачи заполнили комнатенку, размороженное окно которой глядело во двор, на сараи. Кто разделся, кто нет, кто уселся на лавки, кто на пол.
– Ну, рассказывай, Курилов, как вы там живете в тундре по божьему велению, – спросил поп. – Все рассказывай – кто много песцов поймал, кто разбогател, у кого беды какие. Про хорошее расскажешь – меня обрадуешь, про плохое – не удивлюсь: по божьему велению все на свете бывает…
– Все по божьему велению, – ответил Куриль, зная, что нельзя перечить священнику.
– И в Халарче так все идет, – поддакнул Чайгуургин.
– Ну и слава тебе, господи, – перекрестился поп, – А как семьи ваши, как бабы, как дети?
– Хорошо, все хорошо.
Поп великолепно понимал, что Куриль так отвечает лишь ради приличия, однако смущать его он не хотел и не стал.
Но тут голос подал Соловьев:
– А у нас тут беда случилась: помер большой ученый, это вы знаете, думаю. А дальше что было? Слухи пошли, что был ученый шаманом. Слухи эти донеслись до начальства, а начальству не понравилось это. И письмо, говорят, издалека прислали – чтоб разговоры такие не мешали царю-батюшке дела свои делать. Скандал настоящий… Как там у вас – что говорят люди?
– Не был, значит, Чери шаманом? – удивленно спросил Чайгуургин.
– Какой он, к черту, шаман! – хихикнул стоявший у двери Мишка. – И не ученый человек, а божий: имя-то у него рыбье – чир…
– Простит тебе бог, – махнул на него рукой поп.
– У нас говорят, но мало, – сказал Куриль. – У нас другие беды.
– Какие же беды?
Чайгуургин не дал Курилю ответить:
– А у меня пятьсот телят погибло!
– Как! – вздрогнул ошарашенный Соловьев.
– Прикочевал на самое лучшее пастбище, а они подыхать стали. То дохлый появится, то чуть подышит – и нету… Кака шаманил и сказал, что не видать следов ни наших, ни якутских, ни всех прочих духов, а вот следы с Кулумы – есть.
– О! – шлепнул Соловьев рукой по коленке. – С Кулумы! Афоня, ты помнишь Старцева Хедьку? Помер твой Хедька. Утонул в Кулуме.
– Картежник-то? Хедька?
– Утонул. День был совсем хороший, река блестела, как шашка Филата. А Хедька с ребятами рыбу ловил… Вот слушайте – расскажу. Тихо так было – а тут как рванет низовой ветер, как поднял всю Кулуму на дыбки. Хедька давай выбирать сеть, выбрал – и, дурак, не к берегу, а к острову лодку погнал. Ребята машут ему, кричат, чтоб заворачивал, а он не послушался – и у всех на глазах пропал. Лодку нашли аж в Керетовой… Два дня бурлила река. И только стихла – плывут карбасы Черского. Мавра – жена его, Сашка – сын, Степан Расторгуев и еще служивые мужики. И тут мы узнали, что самого-то Черского нет. Гурка Котельников стал шаманить – и говорит, что это духи его отомстили Хедьке, сгубили его. И не одного Хедьку. Немного спустя медведь Хому Бибикова задрал.
– Хому? – вытаращился Куриль. – Моего друга Хому?
– Нет. Умереть-то не умер он. А без глаза остался, и правая рука вся поломанная теперь… У вас, говорят, тише, а у нас, видишь, дело какое…
– Тише… – повторил Куриль. – Если уж говорить, то у нас еще хуже.
И он стал рассказывать всю запутанную историю вражды шаманов, которая обернулась бедами и которой не видно конца.
– …У нас прямо мученье людям. Боятся всего, житья никакого нет… Я не пойму этих шаманов. Да если б они все настоящие были, а то ведь подозренья всякие есть…
– Ну, а теперь и мне сказать надо, – перебил его поп, поправляя крест, съехавший набок. – Про Черского скажу одно: богом вас уверяю – не был шаманом он, все это ложь. Может, это от темноты, от привычки. Такой раб сатаны, как Иван Рупачев с Омолона, всякие слухи может пустить. От безбожия, от темноты. Ну, а кто иной способен дурные слухи пускать и со зла на русских людей… Черской раб бога, ученый. На пользу царя и на пользу всем вашим людям работа… Ах ты, господи-боже, – какую напраслину возвели на православного человека!.. А тебе, Куриль, я вот что скажу. Шаманы – наравне с попами. Ты это учти. Только мы рабы господа бога, а они – рабы сатаны. Ты о шаманах-то осторожно думай. Человек ты видный и умный. Я желаю тебе добра – пусть шаманы живут сами собой, не трогай, не мути народ…
– Да я вроде молчу…
– Ну и с богом. А мне на вечернюю службу пора.
И поп ушел, совсем озадачив и юкагиров, и чукчей.
ГЛАВА 11
В полдень караван тронулся через речку. За утро успели кое-что обменять. Теперь последняя нарта Куриля была нагружена не оленьими шкурами, а березовыми слегами. Чайгуургин приобрел за камусы заячье одеяло и рыбу.
Пурама сбыл три пары новеньких рукавиц, две пары обуток, а заимел две посуды пороху и старый чайник на пули. Один скупой Петрдэ не дотронулся до своих мешков.
Ярмарочный поселок располагался на левобережье Анюя, среди тайги. В этих местах тайга очень густа, и ветры не продувают ее. Снега под соснами здесь лежат ворохами, они сыпучие, мягкие, очень белые. Люди тундры больше привыкли глядеть вдаль и на землю, а тут хочешь – не хочешь, но голова сама задирается вверх: деревья, деревья, дали не видно. И хорошо, и красиво в тайге, и небо-то здесь другое – совсем синее, как глаза русских женщин.
Однако в тайге тесно, и оглядываться надо почаще – а то задерешь голову, а нарта на корягу наскочит…
Стойбище дает о себе знать издалека. Еще и просвета поляны не намекается, а все кругом оглушено гвалтом собачьего лая. Тайга так и звенит от этого дружного лая – и кажется, впереди не стойбище, не сбор торгового люда, а самый большой на земле собачатник… Впрочем, временами наступает и тишина – это значит, ярмарка поглотила еще одну упряжку или один караваи, и собаки успокоились, примирились с гостями.
А вот и поляна, и стойбище на поляне. Три деревянных рубленых дома посередине, а вокруг них в беспорядке – чукотские яранги, ламутские тордохи.
Поселок-стойбище кишит людьми – всюду шум, говор, крики. Сплошным кольцом опоясывают эту толкучку перевернутые вверх полозьями нарты собачьих упряжек.
Ближе к деревьям – оленьи упряжки, а на отшибе – лошади возле раскурошенной копны сена.
Сквозь сумасшедший лай, как сквозь пургу, прорвался караван Куриля, Чайгуургина, Петрдэ и Лелехая.
Ярмарка уже жила своей собственной жизнью, и приехавшие сразу исчезли в этом скопище людей и товаров, будто котел рыбы, выплеснутый в бурлящее озеро.
Пураме ярмарка показалась единственным местом, где можно почувствовать полнейшую волю, не стесненную ни родовыми обычаями, ни другими законами. И может быть, из-за этого чувства, среди совсем незнакомых разноязыких людей, у него нестерпимо загорелось сердце поскорей показать свою ловкость и удаль.
Как только путники из Улуро и Халарчи распрягли оленей, Пурама, едва успев оглядеться, схватил аркан и побежал туда, где над толпой взлетал деревянный шишак, привязанный к длинной веревке. На ярмарке нынче был "день аркана", и он до зуда во всех жилах обрадовался, что подоспел как раз к этому дню.
Передохнув и собрав, как надо, ременный аркан, он поскорее занял место между двумя чукчами с разрисованными татуировкой лицами. Игра в муньахат так забрала толпу, что на него никто не обратил никакого внимания: играть мог каждый кому не лень… Кто-то подкинул деревяный шарик – и тотчас вверх прянули ременные петли. Пурама тоже метнул – и через миг толпа издала громкий крик удивления: аркан Пурамы проскочил в петлю восточного чукчи – и моментально выхватил из нее деревяшку.
Все игроки так и разинули рты.
– Меченкин!
– Хорошо!
– Ловко, вот это ловко!
– Мэй, откуда приехал?
– Сверху! – пошутил Пурама, сворачивая ремень и кивая головой в небо.
Теперь Пураме надо было бросать деревяшку. Он бросил раз – и никто ее не поймал, бросил второй, третий – и опять арканы падали на истоптанный снег пустыми.
– Да ты и кидаешь как-то хитро – игру не даешь! – еще сильней удивился восточный чукча. – Где ж это ты наловчился?
– Божий я человек – бог научил…
Четвертый бросок дал победу как раз этому чукче.
– Ага, теперь будем считать – и посмотрим, кому достанется связка телячьих шкур! – дрожа от радости, похвастался он и подкинул болванку.
Арканы свистнули, метнулись за ней. И одна из петель как-то боком накрыла ее. Однако внутрь этой петли опять влетела другая петля, поменьше – и деревяшка сразу шарахнулась вниз, к Пураме.
Восточный чукча от злости весь задрожал и зубами вцепился в конец своего аркана.
– Бери шкуры! Не буду играть, – сказал он, рывками собирая аркан.
– Тьфу! – плюнул на свой аркан другой игрок. – Женщина утром перешагнула через него – не могло быть удачи…
Несколько петель схлестнулись, запутались в воздухе, хозяева стали распутывать их – и игра как-то потеряла для всех интерес.
– Мэй, мэй! – позвал Пураму старик чукча. – Взгляни вот на этот аркан. Может, сменяем? Для сына сделан, а сын запропастился. Твой счастливый. Сменяем? Но только с условием. Ты своим поймаешь верхушку дерева…
Пурама подошел к старику – и понял, что это какой-то богач. Аркан его сына был сделан на удивление: сплетен он ладно, каким-то красивым узором, конец его тяжелый, а сам он длинный, удобный.
– О, хороший аркан. Большой мастер делал его. Сменяем…
Размахнувшись, Пурама метнул свой вверх – и побежал к дереву. Он остановился в тот самый момент, когда петля обхватила макушку сосны.
Толпа заорала от удовольствия.
– Еще раз! Еще!
– Аркан мой, – сказал Пурама. – А на дерево петлю снимать пусть лезет его сын.
– Отдам, если ты и моим поймаешь макушку сосны, – заартачился старый богач.
Пурама выхватил из его рук красиво сплетенный, новенький жгут.
Разгорячившись, он отошел далеко назад, размахнулся и опять побежал вперед.
Не успели люди опомниться, как Пурама дернул аркан – и макушка сосны хряснула, обломилась и сползла вниз, осыпая снег с веток.
– Срубить сосну! – закричали в толпе. – Пусть высокий пень, пока не сгниет, прославит имя его!
Не скрывая радости, не важничая, Пурама собрал дорогой аркан, накинул его на плечо и пошел забирать приз – связку телячьих шкур.
А невдалеке шла такая же азартная игра в литэмэч. Как мог Пурама удержаться! Бросать аркан на рога – это куда проще, чем в небо, да еще такой удобный аркан…
На удивление и этой толпе он быстро расправился со своими противниками и под крики одобрения и завистливый шепот забрал еще один приз – связку листьев хорошего табака.
К вечеру, когда кончился праздник аркана, на ярмарке вдруг появилась толпа богачей и купцов. Их было много: Соловьев, Шкулев, Березкин, Третьяков, Тинелькут, Мэникан, американец Томпсон, а с ним Потонча и какой-то молодой, бойкий чукча. Их невозможно было пересчитать. Тут были и казаки, и русские, и якуты и чукчи, и ламуты, и выкресты, и люди совсем непонятного рода-племени. Все они будто договорились приехать разом. И может, в этом был какой смысл, – может, никто из них не хотел попасть на праздник аркана?
Каждым взглядом своим, каждым шагом и каждым словом американец Томпсон давал понять, что считает себя здесь первым лицом. Это был рослый детина с живыми, выпученными глазами, одетый в медвежью доху. Весело разговаривая, он размахивал и так и этак огромными, как два заступа, руками, из-за чего другие богачи и купцы шагали далеко по сторонам от него. Томпсон и все остальные шли к деревянным домам, где давно уже орудовали кабатчики.
Куриль и Чайгуургин зашли в один из этих домов, когда там уже вовсю развернулось пиршество. Столы на ножках-крестовинах были завалены всякой снедью. Богатая братия уже хватила горькой воды и теперь возбужденно шумела – хохотала, доказывала, судачила. По деревянным стенам метались огромные тени – в комнате горели два больших жирника, обмазанных глиной.
– Афоня – ты? Бра-ат!
– Дорова, Куриль!
– Здорово, Чайгуургин – бра-ат!
– А Петруска где? Лелехай где?
– О, юкагирский голова! Курилле! – воскликнул на чистом чукотском языке Томпсон. – Иди сюда, садись со мной рядом, брат, – я угощаю сегодня. Всех угощаю! О, и новый голова чукчей здесь! Не узнал – будешь богатым. Эй, еттык? Совсем хорошо… Сколько друзей у меня! Да я без вас в Америке и жить не смогу…
"Перед ярмаркой угощает? – удивился Куриль, перешагивая через скамейку и усаживаясь на нее рядом с американцем. – Что-то не так. Какой же ему расчет? Отчего добрый такой?.."
Чайгуургин уселся напротив и тоже подозрительно уставился на американца.
Забулькала в одну, а потом во вторую кружку темно-коричневая горькая вода. Американец, дружески улыбаясь, поднял обе кружки, стукнул их друг о друга и раздал новым гостям.
Как ни следили за американцем в этот вечер Куриль с Чайгуургином, как ни ломали голову, а все-таки ничего опасного для себя в таком неожиданном и недешевом гостеприимстве Томпсона не обнаружили. Другое дело, если бы он подпаивал их одних или вообще лишь богачей тундры. Тогда можно было бы думать, что он надеется на особую с ними связь, переманивает их товар. Но Томпсон угощал и купцов, задабривать которых было бы бессмысленно. Но больше всего удивляло то, что никто из купцов и богачей не затевал разговора о самой ярмарке – о спросе на товары, о мерах обмена. Ничего не пытался узнать и Томпсон… И гости наконец успокоились, разомлели. Тем более что вода оказалась не горькой, а сладкой…
Огромный, но непьющий Чайгуургин охмелел крепко, и Курилю пришлось поддерживать его, когда они пошли спать к Тинелькуту. Чукча был очень весел, душа его размякла – и он вдруг захохотал, да так громко, что с испугу забрехали собаки.
– Дядя твой… Петрдэ… дверью пальцы отбил…
– Какой дверью? Чего городишь! – спросил Куриль.
– Сунул нос, а мы пьем. И назад. А тяжелой дверью – по пальцам! Ха-ха-ха… Да, заходил! Ты к двери спиною сидел – не видел. А я видел. Узнает, что все задарма пили-ели – лопнет с досады… Прогадал и пальцы отбил. Ха-ха-ха…
Куриль захохотал тоже. Петрдэ и прямь был до глупости жаден и уж никогда не упускал случая поесть за чужой счет.
И только на другой день утром Куриль и Чайгуургин узнали, зачем американец потратился на угощение. Появился на ярмарке Потонча. Он сильно сердился на своего хозяина американца, который в эту зиму оставил его без товара. Потонча рассудил так: что ни говори, а Томпсон самый чужой в этих местах человек. Вот он и задабривает всех без разбора. А не станет задабривать – русские и местные купцы перекроют ему дороги. Это было похоже на правду.
В этот же день выяснилось, что Потонча не ошибся.
Русские и местные купцы не дали себя обмануть. Они выставили для обмена точно такой же товар, как и американец. Чай, табак, водка, сахар, мука, соль, порох, патроны, материя, веревка, бусы – все это можно было взять у кого хочешь. Немедленно стало известно, однако, что у Томпсона товаров очень и очень много. И на ярмарке на какое-то время произошла заминка: стало ясно, что меру обмена установит только один человек – американец. И вот тут-то с быстротой громкого крика распространилась радостная для купцов весть: Томпсон меняет так, как меняют все, – он не стал подводить тех, кого вчера называл друзьями.
Были, конечно, и расхождения: русский табак и русскую водку брали охотней, и Томпсону пришлось дешевиться, зато чай, материю, порох, разные безделушки старались взять у Томпсона. Но все это уже было мелочью и обычным делом.
К середине дня страсти стали стихать. Приезжие богачи понабрали всего в меру и начали прижимать купцов. Теперь уже подолгу ходили с пустыми мешками, приглядывались, убеждали не дорожиться.
Сегодня, однако, был "день борьбы", и ярмарка продолжала свою бурную жизнь.
Хорошенько упаковав на нартах товар, выменянный за камусы и оленьи шкуры, Куриль и Чайгуургин заметили, что старик Петрдэ вообще не трогал свою поклажу.
– Э, да ты ничего не выменял! – удивился Куриль, подойдя к старику дяде, караулившему свои нарты.
– Да я думаю, что, пожалуй, лучше обменять в Нижнем, – сказал Петрдэ. – Мне только ведь чай да табак нужны. А это и в Нижнем есть.
– А порох, а сахар? А песочная еда?
– Ну, это все ни к чему. Своих оленей похором убивать не буду, песочную еду – эти оладьи да лепешки – пусть купцы и попы едят. Мы на мясе и рыбе выросли. А сахар только охоту к еде отбивает: в тундре, слава богу, ягоды много.
– Да тебе выгодней здесь сплавить камусы и шкуры! В Нижнем только песца возьмут! – рассердился Куриль.
– Не возьмут камусы – и ладно. Место в тордохе найдется.
– Вот что, дядя, получится: в Нижний приедешь – разворуют твою поклажу. С ярмарки пьяный народ потечет, баловаться начнут…
– А вот это ты правильно говоришь, – наконец насторожился Петрдэ. – Молодой ум, он, конечно, резвей старого. Об этом я не подумал. Наверно, придется развязывать воз. Да я еще тут подумаю хорошенько…
– А чего ж ты, старик, вчера в заезжий дом не зашел? – спросил Чайгуургин, глядя на его скрюченную руку. – Американец-то за так всех угощал. Напоил, накормил – и ничего не взял.
– Приедешь домой, Чайгуургин, – детям будешь сказки рассказывать, – ответил Петрдэ. – А над стариками смеяться – грех.
– Нет, правда! И Куриль подтвердит. Ты разворотливей будь – времена другие настали.
– Ладно, пойдем борьбу поглядим, – сказал Куриль, напяливая рукавицы.
– …Даже на Индигирке знают о его скупости, – сказал он чукче. – И зачем ехал?.. Да тут еще дело не в скупости. Видел, сколько товара на ярмарке? А вспомни, сколько было его лет двадцать назад. Разница?.. Только люди в тундрах живут, как сто зим назад жили…
Море людей столпилось вокруг борцов. Не все, правда, стояли: рядов десять передних уселись на снег, но остальные образовали непроходимую стенку. Чайгуургин еще мог видеть происходящее в середине, а Курилю не помогла бы и нарта. Они обошли кругом всю толпу – и без толку.
– Дайте-ка мне дорогу! – сказал наконец Чайгуургин, расталкивая стоящих. – Бороться буду.
И их пропустили.
Боролись якут Третьяков Саня и тот самый восточный чукча, что служил разъездным купцом у Томпсона.
Чайгуургин и Куриль сели рядом с Пурамой, Потончей и самим Томпсоном.
Толпа гудела, как Большое Улуро во время шторма: то орали все сразу восточные чукчи, то все сразу якуты – так, волнами, и переливался крик; не молчали и остальные.
Томпсон сидел, обхватив колени ручищами, вздрагивал, качал головой и без конца повторял одно и то же:
– О-эй… О-эй!.. О-эй!
Если Чайгуургин сразу же с головой окунулся в саму борьбу, то Куриля больше привлек американец. Что озна+ чало это "о-эй", на чьей стороне был он? Ему надо было переживать за восточного чукчу, за своего помощника, но он подбадривал одинаково и того и другого. И вдруг у Куриля мелькнула мысль: да ведь Томпсон – самый чужой здесь человек, ему совсем безразлично, кто кого победит…
Но вот чукча рывком приподнял якута. В воздухе мелькнули новые обутки Сани – и борцы рухнули наземь. Якут был на лопатках. Восточные чукчи издали такой оглушительный крик, что с ближних деревьев посыпался снег.
– О-эй, – спокойно сказал американец и вставил в рот белую папироску.
А Потонча упал лицом вниз и со злости начал бить кулаками по снегу.
Видно, сильно не любил он чукчу – такого же подручного американца, каким был он сам. Пурама, переживавший за Третьякова, глянул на Потончу и вдруг закричал:
– Молодец, мэй! Молодец! Хорошо! – Он встал и ушел на другое место.
Пурама всячески избегал встреч с Потончей, но тот без конца попадался ему на глаза. И охотник знал, в чем тут дело. На днях будут оленегонные состязания, и оставшийся не у дел купчик рассчитывал погулять надармака: в победе Пурамы он не сомневался.
А восточный чукча, расправившись с Третьяковым, не ушел с середины.
Расставив ноги, он стоял, отдыхая и давая понять, что ждет нового противника.
И тут молча поднялся Чайгуургин. Он бросил Курилю рукавицы и вышел на середину.
По толпе прокатился шепот. Чайгуургина как борца хорошо знали многие.
Однако теперь он был головой западных чукчей, и никто не думал, что он решится опять помериться силой. Но Чайгуургин вышел – и толпа, пошумев, замерла. Ожидали увидеть что-то такое, что запомнится на долгие годы.
Восточный чукча сильно вздохнул, гаркнул на выдохе и неожиданно накинулся на огромного Чайгуургина.
Никто в точности не успел разглядеть, что и как произошло. Все только увидели короткую схватку, после которой Чайгуургин грохнулся навзничь, а восточный чукча вдруг начал пинками бить его в бок.
– Эй, нельзя! Стой! – закричали ближние.
Те, кто сидел, повскакивали на ноги, задние немедленно наперли на них.
Опасаясь давки, вскочили и заправилы ярмарки – богачи и купцы. Американец испуганно осмотрелся и стал нервно натягивать черные меховые перчатки и обминать кулаки.
Куриль, Лелехай, Пурама и еще какие-то люди оттолкнули восточного чукчу, быстро подняли Чайгуургина, лицо которого перекосилось от боли, и повернулись к борцу, ожидая ответа.
– В пах ударил меня, сюда ударил меня! Это – по правилам? – тяжело дыша и побледнев не то от злости, не то от страха, сказал драчун.
– Он сам налетел, – проговорил Чайгуургин. – Я не хотел… Я бы и так его положил. Нечаянно вышло…
И голову чукчей под руки повели сквозь толпу.
Поравнявшись с американцем, который снимал перчатки, Куриль опять услышал "о-эй", сказанное удивительно безразличным голосом. "Прав был Потонча, – проскользнула мысль. – Ему все равно… Сейчас белую папироску достанет". Чтобы убедиться в точности своих мыслей, он оглянулся. И верно – американец пустил над головой дым и уже повернулся к кругу, на который вышел обнаженный по пояс второй восточночукотский борец.
День был солнечный, тихий. Состязания продолжались. По примеру восточного чукчи, борцы теперь выходили на круг в одних меховых штанах и камусах.
А Чайгуургин в это время уже лежал в яранге Тинелькута и охал. Пальцами он нащупал два переломанных, хрустевших под кожей ребра.
Вяло прошел следующий день большого обмена. Соревновались в беге и прыжках мужчины, соревновались красотой наколок на лице женщины – а обмен шел спокойно, будто бы нехотя.
Но ярмарка так не могла кончиться – и все это знали. Все – и те, кто таил самое ценное – песцовые шкурки и мамонтовые клыки, и те, кто еще крепче берег равноценное – товары, которые нельзя отдать за камусы, пыжики да оленьи шкуры.
И однажды терпенье обеих сторон оборвалось.
День этот был очень бурным.
Все началось с оленегонных состязаний. Богачи выставили по одному оленю на приз, и приз получился не маленьким – в пятьдесят три оленя. Еще вечером Тинелькут пустил слух, что юкагир Пурама не только мастак арканить, но и еще большой мастак схватывать любой приз на гонках. Рассказ Тинелькута рано утром повторил Потонча, пришедший помочь Пураме, и теперь этот рассказ выглядел так. Гонщику-юкагиру будто бы помогает сам бог: олени его не бегут, а летят – люди будто бы видели, что на снегу во многих местах не остается следов от копыт, еще удивительней то, что бесполезно срезать лямки его упряжки – чукча Кымыыргин будто бы может подтвердить это, он срезал лямки у самого финиша, но Пурама забрал приз.
Впрочем, не в одном Пураме было дело. Люди хорошо знали и Кымыыргина, и других отчаянных гонщиков, и народу пришло на состязания много – считай, вся ярмарка.
Состязания, однако, прошли довольно спокойно, никакого чуда не произошло. Просто Пурама вырвался далеко вперед, ему никто не помешал – и он поддел ногой обруч, спрыгнул с нарты и шагом, вразвалочку направился к табуну.
Протаптывая широкую дорогу между деревьями, ярмарочный люд вяло потянулся обратно. Но тут всех разом охватило какое-то тревожное нетерпение.
Все будто вдруг поняли, что проспали самое важное дело, что кто-то хитро воспользовался общим увлечением игрищами. И толпа дружно устремилась вперед, многие побежали, а важно шагавшие группами богачи моментально рассыпались, перемешались с толпой.
Поначалу тревога показалась напрасной. Люди увидели женщин, столпившихся за домами, увидели куски яркой материи, развешанные на перекладине, и успокоились: кто-то из купцов заманил женщин состязаться в беге. Ну, и всем вдруг стало весело: ничего нет потешнее этого зрелища. Но успокоение длилось недолго. Люди увидели подручного американца – восточного чукчу, который шагал к перекладине, неся в руке небольшую коробку.
Иголки! Американец ставил на приз иголки!
Вот тут-то и наступило всеобщее пробуждение. Песцовые шкурки по-настоящему в ход еще не пошли – и появились иголки. Не надо было иметь большого ума, чтоб догадаться: если американец ставит иголки на приз – значит, их у него много. За десяток иголок любой чукча, любой ламут, любой юкагир не пожалеет двух шкурок. Потому что в тундре нет ничего дороже иголки – она одевает, спасает от холода, она бережет вещи, она прославляет вышивальщиц-невест; без нее невозможно жить. Но эта могучая остренькая спасительница невероятно коварная: была в руках – и пропала, выскользнула – и хоть переверни все жилье, хоть вой волком – а не найдешь…
Худой, узколицый Мика Березкин даже закрыл глаза и зашатался, словно у него в голове потемнело, когда он понял, какую совершил ошибку. У него в амбаре хранился запас иголок, предназначенный для самого верного барыша: он всегда поддерживал высокую цену на них. Теперь произойдет непоправимое. Люди нахватают вдоволь иголок, а его будут лежать и ржаветь, их придется сбывать за бесценок… И как он не догадался взять их с собой, хотя бы на всякий случай – разве тяжело их было везти!.. Он поглядел в сторону острога – и чуть не заплакал. Можно послать человека, но ведь опередить американца теперь не удастся – день на середине, а завтра будет поздно. И все-таки Мика подозвал Якова Габайдуллина – своего помощника и сказал ему, отходя в сторону:
– Скорее – в острог… Возьмешь все иголки, все до одной. Гони собак, скорее! Ни одного лишнего шага не делай…
А купец Саня Третьяков смотрел на восточного чукчу, который втыкал иголки в куски материи, с такой бессильной ненавистью, что его, наверное, пожалел бы сам американец Томпсон.
Зашевелилась ярмарка. От толпы в разные стороны – к тордохам, ярангам и нартам – бросились, сломя голову, подручные богачей. Сейчас руки их развяжут мешки с драгоценными шкурками – и уже ничто теперь не остановит горячку.
Зашушукались и купцы. Иголкам Томпсона надо противопоставить хоть что-нибудь. Людям тундры не прожить без охотничьих причиндалов – без пороха, гильз, дроби, ножей, капканов; надраенный медный чайник сведет с ума любого богача, фарфоровая кружка или тарелка – это богатство, аршин цветастой материи заслонит невесте красоту северного сияния… Есть это все у купцов, есть. Но иголки…
– Первый приз – коробка иголок, два наперстка и мах материи! – объявил по-чукотски помощник Томпсона. – Второй – полкоробки иголок, один наперсток и мах материи, третий – мах материи и пять иголок…
Это было ужасно. Сколько же у американца иголок, если он ради потехи отдает больше полутора коробок?!
А нетерпение женщин уже угрожало непоправимым скандалом. Они могли без разрешения кинуться к жерди, и состязание тогда превратилось бы в потасовку.
Вот кричат и размахивают руками три чукчанки, ссорясь из-за места возле черты, вот переступила эту черту на снегу красивая молодая девушка – и ссорщицы немедленно хватают ее, тянут назад, но сами тоже переступают черту – их тоже хватают и тянут назад. Из толпы между тем выскакивает старуха со сморщенным, как почерневшие оленьи мозги, лицом – она тянет за руку десятилетнюю внучку и оглядывается назад – в глазах у нее и бешенство, и недоумение: она определенно не понимает, почему люди ждут и не бросаются за подарками… Ближе всех к жерди кучкой стоят ламутки с Анюя и Омолона.
Побегут только чукчанки, а они – ни за что; бежать на глазах у мужчин – это для них позор. Однако лица стыдливых ламуток горят такой отчаянной завистью, что, кажется, у людей не бывает более сильной борьбы всемогущего желания со всемогущим законом. Да что ламутки! Сейчас и мужчины грубо оттеснили бы этих чукчанок, если б Томпсон разрешил. Легко сказать – коробка иголок задаром!..
Весь сияющий и в меру злой, восточный чукча заметил взмах перчатки своего хозяина – и крикнул по-американски, рубанув воздух рукой и даже присев от старания:
– Фовод!
Толпа чукчанок ринулась вперед. Сразу же эта толпа, ожесточенно заработавшая ногами, будто отбросила от себя лишний груз – старуха со сморщенным лицом упала на первых шагах, высоко задрав ноги. Громкий хохот всей ярмарки был беспощадным ответом на ее дремучую неосведомленность в жестоко-потешных законах игр. Этот хохот не пощадил и ее внучку, которая тоже упала и, быстро вскочив на ноги, залилась с испугу, а может, от досады, отчаянным плачем. Народ двинулся за бегущими женщинами, теперь уже забыв обо всем на свете.
– Ну глянь, ну ты глянь – как медведи, бегут! – тормошил ламут другого ламута. – И зады без хвостов, и ноги назад не откидывают…
– Срамота!
– Чистая срамота!
– Ги-ги-ги…
– А ноги-то вон у той кривые, как оленьи рога!..
– Ой!., споткнулась. Это самая длинная… упала! Га-га-га…
Неожиданно хохот, крики, улюлюканье стихли: путь женщинам преграждал высокий сугроб. С разгона передние сразу попадали. Чуть отставшие немедленно настигли их – и какое-то время невозможно было понять, что делается там, в сугробе. Были лишь видны барахтающиеся тела да летевшие во все стороны ошметки снега; в наступившей тишине слышались хруст ледяной корки сугроба и отчаянное пыхтение завязших женщин. Но вот из этой кучи вырвалось несколько человек – и вся ярмарка заорала сотнями глоток; одни кричали от азарта, но мужья бегущих – по-разному: одни радостно, другие зло, третьи ожесточенно, четвертые лишь мычали и охали от досады.








