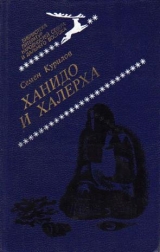
Текст книги "Ханидо и Халерха"
Автор книги: Семен Курилов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 48 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]
Самое сложное и самое важное – это подготовить могилу. Куриль и Токио выбрали для нее место на равнинном восточном берегу Малого Улуро: на холме шамана нельзя хоронить – холм одухотворится и будет приносить живущим в среднем мире беду. Два дня люди пешнями и топорами долбили яму. Грунт пробили с трудом, по дальше пошла вечная мерзлота – сплошной, крепкий, как железо, лед. Вырыть яму – это, однако, еще далеко не все. Стены ямы должны быть совершенно гладкими, как гробовые доски, – без малейшей вмятины или выступа. Но еще более тонкое дело – это дно. Гроб ставится на возвышение, а возвышение должно изображать лицо – с глазами, носом и ртом, уши изображаются не полностью, так, будто их кончики придавили стены могилы.
Высота этого выдолбленного лица – не меньше пяти пальцев.
За эту труднейшую на холоде работу взялись Пурама и Ланга. Гладкость стен они проверяли ровной доской, поворачивая ее и так и сяк. А дно отделывали ножами.
Куриль с богачами несколько раз приходил сюда. Он был суров и придирчив. Пурама принимал это с испугом – ему казалось, что мудрый шурин таким способом подсказывает, как загладить вину перед шаманом.
Ланга работал молча – и это тоже настораживало Пураму. Перед самым концом дела Пурама не выдержал молчания и сказал:
– Добрый все-таки был старичок. Человека иной раз понимаешь после его смерти… Если дух земли прибрал его в такое хорошее время, значит, добрым считает его.
– Да, конечно, – ответил Ланга. – В теплое время хоронить хуже: вода и грязь текут со стенок на дно…
Пурама навострил уши:
– Ты что-то не то говоришь…
– Почему? Разве я не согласился с тобой? – Ланга помял руками окоченевшее лицо, поглядел вверх из ямы. – Смотри-ка, звезды уже проснулись. Давай кончать. А то зазубрин наделаем…
Суетливо жило стойбище все эти дни. Не суетились одни богачи – они сидели в теплых тордохах, пили горькую воду, приговаривая, что желают покойнику доброго пути в мир божий. Подпаивали они старух – чтоб они добром вспоминали своего шамана. И мужикам подносили, но только к ночи, когда дневные заботы кончались. Каждый вечер звенел бубен. Это шаманили Тачана и Кака.
На одном камлании побывал и Куриль. Он сидел, плотно сжав губы, и насквозь прокалывал взглядом то лохматого чукчу, то уродливую Тачану. Ушел он довольным и успокоенным, даже немного веселым. Тачана объявила, что Сайрэ погиб от заклинаний Мельгайвача и что Пайпэткэ стала хозяйкой чукотских духов.
"Ума не хватило придумать что-нибудь новое, – усмехался Куриль, шагая по сильно втоптанному снегу. – А может, это я обладаю силой внушения?
Испугалась моего взгляда – и понесла чушь? Мельгайвач – не шаман, все знают.
Какие тут его смертельные заклинания! И хорошо, что Пайпэткэ примешала: юкагирка она, и что возьмешь с сумасшедшей… А, ничего, еще Токио будет камланить…"
Между тем Куриль сильно ошибся. Уже на второй день поползли дурные слухи снова о Мельгайваче и Пайпэткэ. Приезжие, а потом и люди стойбища стали коситься на тордох, в котором жила вдова покойника. Не только коситься, но и не без причины строить догадки, от которых попахивало чем-то вроде правды.
Дело в том, что распорядитель похорон шаман Токио убедил Мельгайвача следить за Пайпэткэ. В тордохе Пайпэткэ была не одна, и Мельгайвач согласился. Уже на второй день вдова шамана, как ни в чем не бывало, появилась в своем тордохе и бросилась со слезами к покойнику. Не обращая внимания на злые взгляды старух, она стала просить у Сайрэ прощения за грехи, поплакала, потерлась щекой о ледяной лоб покойника, потом села у его головы – и так, молча, просидела до глубокой ночи. Первый раз увидев близко покойника, Пайпэткэ не могла оторвать от него взгляда, но покойник был ее мужем, и она гладила его щеку, гладила, гладила…
Потом она вернулась в соседний тордох, из которого так и не ушел Мельгайвач.
В эту ночь над стойбищем бесилось в танце сияние. По небу метались сполохи – то красные, как кровь в голубой воде, то белые, как свежее сало.
Наверное, хозяин и хозяйка тордоха оказались добрыми и догадливыми – они куда-то ушли на всю ночь. И совсем зря металось по небу сияние. Простой, безрадостной и, наверно, вовсе ненужной была близость бедного, плохо одетого чукчи и холодной, как лоб мертвеца, юкагирки. Просто они глянули друг другу в потухшие глаза и молча забрались под шкуру…
По повелению Токио бубны, колотушки, амулеты и все прочие шаманские принадлежности в середине ночи сожгли на большом костре. То, что много и много лет внушало и страх, и надежды, что было окружено великими тайнами, очень быстро и просто исчезло в языках пламени. А поутру двух оленей, подаренных Курилем и Петрдэ, впрягли в нарту, на которой лежал покойник, впрягли – и запряженными закололи. Разделали обоих оленей, всем миром съели, а кости покидали в костер и сожгли дотла.
Похоронили шамана Сайрэ. Огромный деревянный крест поставил купец Мамахан у ног покойника, который при жизни так хотел вернуться на землю в третьем поколении юкагиров.
ГЛАВА 9
Несмотря на короткие дни все стойбище вскоре перекочевало на новое место: после похорон шамана полагается кочевать. Легко сказать – полагается.
А если семья безоленная? На чем повезешь скарб?.. Безоленных семей в стойбище было немало. И спасибо, что Куриль не сразу уехал, – он намекнул жадному Тинальгину – раз, мол, Сайрэ был твоим другом, то кому ж, как не тебе, помогать улуро-чи. А своему дяде Петрдэ – такому же скупцу – Куриль просто приказал: "Мое стадо далеко, а твое близко. Дашь оленей и нарты. С людьми живем – понимать надо".
И стойбище перебралось на северный берег озера. Оно расположилось на высокой и обширной Соколиной едоме, откуда в ясные дни видно далеко окрест и тундру, и противоположный берег. Сейчас солнце совсем не показывалось, но ощущение высоты радовало людей. Впрочем, на новом месте всегда радостнее, чем на старом. Это, видимо, из-за надежд: может быть, вместе с перекочевкой в жизни наступят какие-то перемены?
Ох, сколько же раз улуро-чи переживали такую радость и какие только надежды не связывали с перекочевкой! Проходили, однако, дни – и люди тихо свыкались с мыслью, что ничего не переменилось и перемениться не может.
Вместе со всеми перебралась на новое место и Пайпэткэ. Разобранный ее тордох и вещички перевезли на чужих оленях. Пурама и Ланга, тяжко вздыхая, кое-как собрали каркас, а когда начали накрывать его – ужаснулись: ровдуга оказалась совсем дырявой, да от нее еще был отрезан большой лоскут, которым прикрыли гроб. Пришлось уменьшить каркас, подлатать шкуры… Вещей Сайрэ почти никаких не оставил – как будто унес с собой в могилу все, что составляло ценность. Когда черти терзают душу – вещи с испугу исчезают бесследно… Несколько истертых шкур, обеденная доска, кое-какая посуда и два крючка-иводера – вот и все, что осталось Пайпэткэ в наследство. Да еще остался полог, который и спасал несчастную от холодов. Еду Пайпэткэ не готовила, потому что ее совсем не было и неоткуда ее было взять. А есть надо – и Пайпэткэ стала приходить к Тачане. Она брала кусок рыбы или кусок мяса и уходила, съедая его на ходу. Тачану это бесило, но закон запрещал отнимать еду, которую берет родственница. Тогда старуха решила прятать и мясо, и рыбу. А Пайпэткэ, со своей стороны, стала заходить чаще – и все-таки заставала Тачану возле наполненного мясом котла. Наконец люди узнали об этом – и в жизни Пайпэткэ произошла перемена. Несчастную стали жалеть, приглашать то в один тордох, то в другой. Молча поев у людей, Пайпэткэ пряталась за своим пологом, и никто не знал, впадает ли она в спячку, как медведица, или лежит – отдыхает и думает, думает, думает… Все чаще начал заглядывать в бывший шаманский тордох Пурама. Он молча брал крюк-иводер, уходил в тальники и приносил хворост. Приносил он и лед. В жалком жилище появились признаки жизни – огонь, тепло, дым.
Никто не знал, что Пайпэткэ стала считать себя счастливой. Дни шли, никаких бед не случалось – и люди совсем перестали коситься на нее. Но главное, – ее никто не терзал, ее оставили в покое, точно так, как много лет назад оставили в покое сестру Хулархи – Абучедэ, которая не смогла выйти замуж и так прожила всю жизнь в одиночестве.
Между тем Пайпэткэ ожидало настоящее счастье. Как-то вечером она почувствовала в животе тяжесть и какую-то тесноту. Кровь отлила от ее лица: ей показалось, что болезнь Сайрэ передалась и ей и что это плохо. Не зовет ли ее старик к себе… Ночью она увидела странный сон: ноготь на большом пальце левой руки как будто удлинился вдвое. В тревоге Пайпэткэ побежала к старой Абучедэ, но та ничего не сказала, а лишь посоветовала сходить к шаманке. Пришлось идти.
Тачана так и выронила из рук бубен, когда Пайпэткэ указала на свой живот. До смерти испугавшись, ее приемная дочь пролепетала:
– И сон я видела… страшный. Ноготь… вот на этом пальце… как будто вырос большой и кривой…
– Халагайуо! – воскликнула Тачана. – Сон… Вот это – сон! Ноготь у нее длинный вырос… А груди как? Не распирает?
И только теперь Пайпэткэ поняла, что с ней случилось. Лицо у нее загорелось огнем, глаза засветились весенним солнцем. Она бросилась прочь из тордоха.
За пологом, укрывшись старенькой шкурой, Пайпэткэ осторожно погладила свой живот и вдруг заплакала. Нет, не просто заплакала, а сразу заплакала и засмеялась. Слезы лились ей в уши, а из груди вырывались чудные звуки – птичьи – не птичьи, но и не человеческие.
Нигде в этот день Пайпэткэ не показалась. Она даже не слышала, как пришел Пурама, как он разжег костер и сказал, что дров много – можно вдоволь погреться. И лишь когда за полог пробрался дым, она, не вставая, счастливо сообщила, сдерживая дыхание:
– А у меня… Пурама… ребеночек будет! Сыночек у меня будет…
Пурамы в это время уже не было в тордохе у очага – он ушел.
Не знала многострадальная женщина, что радость ее – это только приманка проклятию, которое лишь на время спряталось у нее за спиной.
В тордохе Тачаны уже в этот день плясали черти, радуясь своим близким страстям. Амунтэгэ позеленел от злости, когда узнал, что его племянница забеременела от чукчи. А Тачана бесилась: она то колотила в бубен и разговаривала с духами, то рассказывала мужу об этих своих разговорах, то, бросив шаманить, трясла над головой кулаками, всячески проклиная неродную дочь. Рот ее переполнился пеной.
Было отчего беситься старухе. Она-то, бездетная, знала, что счастье женщины часто не в муже, а в материнстве. А тут еще проклятый Токио не выходил из головы. На последнем камлании при похоронах Сайрэ якут доказал людям, что если в Пайпэткэ и вселились чукотские духи, то духи не самого Мельгайвача, а его отца. Какая была возможность вытряхнуть из живота Пайпэткэ ребенка – отпрыска мстительного чукчи!..
Но зло находчиво. Уже на второй день по стойбищу пробежали дикие и страшные слухи. Пайпэткэ будто бы стала хозяйкой духов отца Мельгайвача, но кроме того, она общается и с духами давно умершей якутки-удаганки [62]62
Удаганка – шаманка (якут.).
[Закрыть]; кто родится на свет – мальчик или девочка, – это не важно, только ребенок будет смертельным врагом Ханидо, спасителя юкагиров.
Слухи эти сразу метнулись и в Халарчу, и на Алазею. Однако быстрее всего они отозвались в двух тордохах – в семье Нявала и в семье Хулархи.
Когда Ханидо станет богатырем – это еще не известно, да и не все и доживут до тех дней. Но вот из-за него уже чуть не зарезали Халерху, из-за него так жестоко враждовали шаманы, он стал причиной и смерти Сайрэ, посколько шаман защищал его, но не выдюжил, его именем произошла порча и Мельгайвача, и самой Пайпэткэ… На Нявала стали коситься. Духи – духами, шаманы – шаманами, а людям житья нет, и все из-за него, из-за отца мальчишки. О жене Нявала и говорить нечего. К большому несчастью, она была снова беременна, и нетерпеливая молва уже стращала людей: не на подмогу Косчэ-Ханидо родится ребенок, а на горе ему – быть мору или резне, быть невиданным бедам…
Потерял покой и старик Хуларха. Как-никак, а его дочь Халерха считалась невестой Косчэ-Ханидо.
И снова угрюмые, спящие в морозном тумане едомы Улуро становились свидетелями подозрений, вражды и обид.
Нашелся только один человек, который решился припугнуть беду в ее настоящем гнезде. Им был Пурама. Прошло много дней, прежде чем охотник понял, что смерть Сайрэ никак на его жизни не отразится – она откликнулась совсем в другой стороне. Ну, а Тачану он знал и мог без ошибки сравнить ее с шаманом Сайрэ: самозванка она, никакой силой внушения не обладающая. Да и взбеленился он, когда подумал о том, что ждет одинокую женщину, у которой нет ничего, кроме распухающего живота.
Однажды Пурама попал к Тачане на камлание. Выслушав ее длинную речь, он спросил:
– Значит, в одежде Пайпэткэ спрятался дух удаганки? И он похож на корову? Что же ты не задушишь его? Хватай вошь – и под ноготь ее.
– Га! Как это у тебя просто все! – не поняла старуха насмешки. – А ну объясни ему, Амунтэгэ, что я задушу и этого духа, и духа отца Мельгайвача в тот же день, когда Пайпэткэ выйдет замуж за шамана Ивантэгэ.
Муж Тачаны почесал лохматый затылок:
– Ты слышал?
– Нет, не слышал.
– Может, в твои уши тоже вселился дух?
– Может. Пусть бабушка вытащит оттуда его. А я ей за это оленя дам…
У Тачаны от злости перекосились глаза.
– Плюнь ему в ухо – пусть подумает, что я духа выгоняю оттуда. И скажи, что я сообщу Курилю, как он над шаманами насмехается.
Пурама вскочил на ноги.
– Я вот возьму да плюну в твое, старик, ухо – прочищу от сплетен и выдумок вот этой бабушки. Шаманы нашлись! Дух – корова у них в вошь превращается. И они берегут ее, чтобы разводить сплетни да людей пугать… Я вот поеду к Курилю и расскажу ему, как ты издеваешься над племянницей, как прячете от нее еду, когда она беременная и ей надо хорошо есть!
– Ладно, Амунтэгэ, – сказала старуха, – поезжай в Булгунях завтра, передай мое послание Курилю. А с разбойником разговаривать – все равно что воду сеткой черпать.
– Ну, а это ты слышал? – спросил Амунтэгэ.
– Нет, не слышал. Пусть бабушка вытащит духа – только теперь я ей потроха от оленя дам…
– Зачем ты пришел ко мне, Пурама? – спросила старуха, тоже поднимаясь на ноги.
– Вот теперь слышу! – воскликнул Пурама. – Когда со мной разговариваешь через старика – я не слышу. Отчего получается так? Объясни, если шаманка…
А, ладно, не объясняй. Я к тебе, бабушка, с просьбой пришел. Пошли Пайпэткэ мяса. Вон у тебя сколько его. Шаманить стала недавно, а уже не голодаешь…
– Я пошлю мяса. Могу и тебя покормить…
– Хорошо. Мясо, которое я должен съесть, тоже отдай Пайпэткэ. Ребенок хоть и в животе еще, а он тоже есть хочет…
У старухи отнялся язык. Она промычала – и быстро пошла к пуору.
– Вот это – дело другое, – сказал Пурама. – А Пайпэткэ можно спасти знаешь как? Взять – да и передушить всех духов, которые у нее прячутся. Вот я начну шаманить, поймаю эту корову за рога – и не то что молоко, всю кровь у нее выдою…
– Шути, шути, смелый охотник. – злобно проговорила старуха. – Дойдут твои слезы до чукотских и якутских шаманов, тогда забудешь о шутках.
– А это моя забота. К тебе за помощью не приду. Мясо готово? Что-то на двоих маловато. Ладно, давай.
И Пурама ушел.
Всю эту ночь Пайпэткэ плакала. Тетка затеяла что-то страшное. Опять старика подсовывает ей в мужья. "Но у меня будет ребенок – она это знает"…
А Пурама радостным ушел на охоту. Долго будет чесать свой тощий зад эта старая злюка.
Рано радовался Пурама. Ничему жизнь не научила его.
Тачана не послала, однако, мужа за Курилем – и притихла. Притихла надолго. Зима все веселей и веселей катилась к весне – а шаманка лишь упрямо повторяла свои обвинения Пайпэткэ, но ничего не делала, чтоб взбудоражить людей.
А Пайпэткэ тем временем толстела с каждым новым восходом солнца. Лицо ее покрылось бурыми пятнами, скулы чуть заострились, глаза проваливались глубже и глубже. Почувствовав первый слабый толчок ребенка, Пайпэткэ пережила и взлет к розовым облакам, и падение в бездну. У нее будет ребенок!
Как только появится он, все ее страшное прошлое канет в небытие; она сожжет счастливым взглядом ненавистницу Тачану, она вытянется в жилу, но сделает свой тордох уютным, зимой всегда теплым, а если придется жить среди добрых чукчанок, то найдет себе хороших подруг; пусть Мельгайвач останется со своими женами, но он все-таки хоть изредка будет навещать их двоих, брать на руки ребенка… Всевозможные радости и счастливые моменты перебрала в своем воображении Пайпэткэ. Перебрала и испугалась: у нее опять от красивых желаний и мыслей кружится голова, а это плохо, она знает, как это плохо, опасно… И не успела она угомонить биение сердца, как само сердце будто оборвалось. Ребенка надо кормить. Чем кормить? У одинокой, одноглазой старушки Абучедэ есть брат Хуларха, и как ни тяжело брату, а крохи ей все-таки достаются. У Пайпэткэ никого нет, дядю Амунтэгэ а забудет навечно.
Где же брать мясо, рыбу, чай, одежду? Где взять еду, когда сын или дочь вдруг скажет: "Энэ, есть хочется"?.. А Мельгайвач может вовсе ни разу не появиться – ведь не едет же он сейчас, хоть и обещал… Тачана же не сгорит от её взгляда – она станет срамить и травить ее и ребенка, она опять доведет ее до болезни, когда воздух превращается в мутную воду; Амунтэгэ заберет ребенка к себе… Положив на живот ладони, Пайпэткэ стала часто дышать, взгляд ее начал метаться по белой от изморози ровдуге. Ребенка, конечно, возьмет к себе Амунтэгэ – больше некому взять. И сядет он на чурбак у костра и примется скручивать из тальника плетку…
Резко поднявшись и откинув старую негреющую шкуру, Пайпэткэ выползла из-под полога и начала ходить по тордоху, оглядывая его так, точно он был чужой.
Но что толку метаться! И Пайпэткэ снова скрылась за пологом.
Она легла и лежа вдруг начала креститься. "Бог, светлолицый бог, ну погляди ты хоть один раз на меня! – взмолилась она. – Как ты терпишь духов и людей, владеющих духами! Хуже сатаны, хуже зверей эти духи и эти люди. Хуже, хуже, хуже!.." Пайпэткэ зарыдала. Но слезы у нее почему-то не полились, и она сразу же стихла.
Что толку рыдать! Бог не будет ей помогать, потому что она никогда не вспоминала о нем.
Она постепенно забылась, а потом задремала.
После этого наступили дни, когда уже никакие толчки ребенка не поднимали ее к розовым облакам. И об ужасах, ожидавших ее, она старалась не думать. "Пусть будет, что будет", – решила она, тая от самой себя надежду, что должны же найтись люди, которые пожалеют если не ее, то хоть ребенка.
Пайпэткэ отдала себя воле судьбы. А судьба ее по-прежнему продолжала кривляться в тордохе тетки, которая между тем вовсе не собиралась отступать от вдовы шамана.
После смерти Сайрэ шамана в стойбище не осталось. Нет, шаманили многие, бубен был не у одной Тачаны. Однако шамана, признанного людьми, не оказалось – и ближе всех к признанию была Тачана.
Жизнь и слава Сайрэ подсказывали старухе, что лишь какое-то шумное дело освободит ее от недоверия и принесет известность. И она весь остаток зимы ломала голову, готовясь прославиться. Речь, впрочем, шла о наиболее верном расчете, а главное, она определила сразу и с бешеным упрямством: Пайпэткэ и никто больше.
Как только люди почувствовали тепло солнца своими лицами, Тачана упросила двух мужиков вызвать в Улуро шаманов Каку и Токио. Причины собирать большое камлание не было, а вот небольшое она могла. Потому что улуро-чи скоро примут к себе ребенка, отец которого чукча, сын шамана, оставившего свирепых бродячих духов.
Каку Тачана вызвала неспроста. Он – чукча, и люди убедятся в уверенности и справедливости Тачаны, тем более что они совсем не знают о ее связях с ним, связях куда более важных, чем связь во имя ее шаманского будущего… Еще более неспроста вызвала она Токио. Опять же люди убедятся в уверенности и справедливости шаманки – Токио-то якут, а она будет обвинять и якутских духов. Но это – не главное. Шаман из Сен-Келя – знаменитый шаман. И уж его-то слово будет услышано. Токио жалеет Пайпэткэ – это все знают. И хорошо, что знают. Сейчас не о Пайпэткэ заботы, а о шамане, который обязательно должен быть в стойбище юкагиров. Тогда, на большом камлании, он без труда смекнул, что всех чукотских духов не нужно уничтожать. С тех пор он стал гораздо смышленей…
Приехали Кака и Токио в одно утро – и уже в середине дня началось камлание.
Оживилось стойбище на Соколиной едоме. День выдался солнечный, теплый, уже попахивало талым снегом и отсыревшей землей. В тордохе Амунтэгэ загремел бубен, взрослые собрались вместе – и детвора визжала и кричала на горке, почуяв свободу и радость прощания с холодами.
На люди Пайпэткэ вышла в одежде первой жены Сайрэ – во всем ветхом, облезлом, с погремушками на груди. Руками она стыдливо прикрывала большой живот. Сдвинув тонкие брови, ни на кого не глядя, она спокойно уселась в середине тордоха. У нее когда-то были подруги, но она не хотела найти их взглядом – они ее бросили. Ей в лицо упрямей других смотрел Пурама, она заметила это, немного повеселела, хотя никак не выдала этой маленькой радости.
Для всех было полной неожиданностью появление Куриля. Голова вошел властно – он резко протиснулся между сидящими и сразу сел в середине, никому не кивнув в знак приветствия, не обведя даже взглядом собравшихся. Он помял пальцами лоб и зажмурился. Пайпэткэ чувствовала, что Куриль сдерживает дыхание, – и догадалась, что он пришел сюда прямо с нарты. Ей стало легче, и она почему-то решила, что ей тоже лучше закрыть глаза.
"Еще Токио здесь. Может, заступится он"…
Токио и начал камланить первым. Все ожидали от него какого-нибудь чудачества. Но ошиблись. Сегодня он вдруг начал прыгать, кричать, колотить в бубен, причитать по-якутски. Это обрадовало и Тачану и Каку: видно, он понимает серьезность дела.
Вторым вышел чукотский богач и шаман Кака. В тордохе было темно, но люди все-таки различали блеск его глаз на черном лице. Всем стало немного страшно, потому что воображение дорисовывало его оскаленные зубы, светло-красные, как оленьи легкие, обнаженные десны, его торчащие во все стороны грубые волосы. Кака закричал так громко, что где-то в углу тордоха зазвенел чайник. Чукча стал прыгать, словно пойманный арканом каргин, потом донеслась его совсем непонятная речь, топот, потом опять крик. Грохот бубна был похож на удары весеннего грома.
Тонкий гагарий крик Тачаны после этого грохота заставил людей вздрогнуть. Шаманка уже поняла, что камлание будет удачным, и сразу же начала неистовствовать. Ее прыжки – прыжки женщины, старухи – были отвратительны, безобразны, однако Тачана еще нарочно крутила своей длинной, будто приделанной головой, и до крайности доведенное безобразие вдруг оборотилось каким-то отчаянием, ожесточением, попыткой из последних сил соприкоснуться с чем-то недосягаемым, потусторонним. Старуха совсем не пела, не разговаривала, а только кричала, колотила в бубен и, трясясь всем телом, рассыпала треск и звон погремушек. Она быстро взмылилась: ошметки пены с ее губ летели в стороны, попадая в лица людей… Еще не пройдя до конца свой путь, шаманка вдруг позвала на помощь Каку и Токио. Это было неслыханным, но это случилось – и вот в тордохе загремели сразу три бубна, на трех разных языках, путано, с выкриками раздались причитания и песни.
Долго прыгали и шумели в тесном людском кругу шаманы. Но наконец они устали – и тут как раз оборвался их путь. Пурама поспешил вытолкнуть палкой затычку из онидигила. В тордох ворвался свет – и уставшие люди зашевелились.
Но передышки не было. Все заметили, что Тачана и Кака в упор смотрят на Пайпэткэ.
Первым заговорил Кака. Он заговорил по-чукотски, и Тачана сразу же перевела его слова:
– Перестань думать о Мельгайваче, оборви навсегда мысли о нем – и дух его отца покинет тебя. Тогда и всем улуро-чи будет легче. Слышала?
Пайпэткэ ничего не ответила.
– Ты слышала? – грозно повторила старуха. – К-кукул. Молчишь? Мэй, она не хочет послушаться нас. Не хочет. Придется тебе самому разговаривать с Мельгайвачом…
Пайпэткэ всплеснула руками, прикрыла лицо ладонями и громко заплакала.
Пурама вскочил, оглядел людей – и шагнул к середине. Он сел рядом с плачущей женщиной и зашептал ей на ухо:
– Нет, нет, не поддавайся, Пайпэткэ, слезам. Погляди – люди тебе сочувствуют. Ты только скажи что-нибудь, заткни рот шаманам.
– Чего это ты нашептываешь, Пурама? – раздраженно спросила старуха.
– Советую послушаться тетку…
– Это не только я говорю. Кака и Токио говорят то же.
– Что? – вздрогнул Токио. – Разве я говорил? Кто слышал, что я говорил?
– Как же? Ты ведь отгонял вожака духов отца Мельгайвача. Я видела. Я в это время как раз высмотрела гнездо духа. У Пайпэткэ в сердце ножевая рана – там и гнездо. Ты отгонял духа, а я высматривала…
Токио удивленно поднял бровь, глаза его заблестели.
– Никакого духа я вовсе не отгонял, – сказал он. – Ты, наверно, меня с Какой спутала. Я только стоял в конце пути и следил, как вы вдвоем будете бороться с ним.
– Не может быть! Неужели мои глаза отупели. Значит, ты отгонял, мэй?
– Я, – ответил Кака. – Я около тебя пробегал…
– Ой, дети мои! Ой, глаза мои! – воскликнула старуха, с усилием открывая и закрывая глаза. – Могла ошибиться, могла, старая стала. Но это совсем неважно. Слушайте дальше. Вот духа удаганки я так и не нашла. Он, видно, в ее крови спрятался.
– Что от меня вам надо! – неожиданным криком заглушила ее Пайпэткэ. – Что? Крови моей хотите? Крови? Режьте меня, режьте! Напейтесь крови моей – и успокойтесь. А я не хочу жить, не хочу!
Несколько женщин бросились к ней, чтоб успокоить и не дать снова потерять ум.
Шаманы притихли.
И лишь немного спустя в тишине снова послышался голос Тачаны. Голос этот был по-прежнему твердым и беспощадным:
– Кровь ее нужна не нам. Она нужна злым духам. Может, ее ребенок как раз и нанесет ей ножевой удар. А след в ее сердце уже есть – это будущий след. Но у нее есть и спасение. Пайпэткэ надо отдать замуж на большого шамана. Мои духи давно узнали, что лучшим ее покровителем стал бы шаман Ивантэгэ. Только он поможет ей избавиться от чукотского и якутского духов. Я Пайпэткэ не чужая и потому не хочу, чтобы племянница моего мужа всю жизнь носила в своем сердце злых духов и страдала от этого… Великий шаман Токио! Ты все слышал. Надеюсь, ты подтвердишь все, что сказала я. Ты сегодня был рядом со мной…
– Я? – обернулся Токио и теперь удивленно поднял обе брови. – Я вовсе не был рядом с тобой. Я все время был рядом с Ярхаданой. – Якут протянул руку к красивой молоденькой девушке и потрепал ее по щеке. Та схватила его руку – и моментально укусила ее. – Ой! В ней тоже сидит злой дух. Это он ее зубами кусается…
Весь тордох так и грохнул дружным раскатистым смехом. А Пурама от удовольствия не захохотал, а заржал, как лошадь.
Когда люди отвели душу, якут продолжал:
– Да, ты права, старуха. Права. Есть в сердце Пайпэткэ рана. Но глаза твои отупели, совсем отупели. Была ты рядом с сердцем – а не разглядела, какая это рана. Каку ты со мной спутала? Спутала. Так же и насчет раны. Это совсем не будущая рана от ножа. Это рана от твоих слов, от твоих ругательств и оскорблений. Я был далеко – а все разглядел. А ты…
Тачана перебила его:
– Значит, ты камлал затем, чтоб меня преследовать? Чтобы мною рассмешить Ярхадану? А судьба улуро-чи не беспокоит тебя?
Это уже был серьезный упрек и серьезный разговор. Куриль, до сих пор сидевший без движения, как мертвый, зашевелился и кашлянул в кулак.
"Ты, шаманчик, может, и умеешь таращить глаза и притягивать к себе взглядом. А на язык ты еще зелен", – торжествовала Тачана, качая перед лицом якута своей лошадиной головой.
Токио поднял глаза к онидигилу и, не опуская их, спокойно ответил:
– Одну юкагирку спасу – и то хорошо. Куда ж мне болеть за весь юкагирский род!
Эти слова будто стегнули шаманку по лицу – голова ее вздрогнула и перестала качаться.
– Но ребенок-то – от Мельгайвача! – бешено выкрикнула старуха. – Ты что, саха [63]63
Саха – самоназвание якутов.
[Закрыть], одну защищаешь против всех нас?
Теперь вздрогнул Токио. Это уже был вызов, страшное обвинение. У Куриля вздрогнули ноздри, губы его зло сомкнулись – и это означало, что сейчас он что-то скажет. Однако Токио приподнял руку, как бы окорачивая его.
– Значит, ты предлагаешь убить ребенка? – спросил он и так сощурил глаза, что люди совершенно замерли, испугавшись и этих слов, и этого взгляда.
– Что? Почему убить? Ты не слишком распускай свой язык! Прибереги для другого камлания. Я говорю, что надо заранее что-то сделать…
– Ага. Заставить скинуть ребенка? Это одно и то же. И ты, старуха, считаешь, что настоящий шаман должен так избавлять людей от страданий и бед? Не со злыми духами бороться, а людей терзать? Удивляюсь, какие стали появляться шаманы. Мне отец не о таких рассказывал… Ну, вот что. Я заберу Пайпэткэ к себе. Если у вас в стойбище не находится места для одной беременной женщины, если вы, люди, позволяете столько лет глумиться над сиротой, то пусть она уйдет от вас навсегда…
От полного поражения глаза у Тачаны разъехались в разные стороны. Она тяжело, напряженно дышала, но сказать уже ничего не могла.
Амуптэгэ для успокоения протянул ей чашку с чаем. Она взяла, заглянула в нее.
– Что это? Чай? Это моча!.. Уйди от меня. А племянницу свою убери куда хочешь. Я не только двумя, но и одним глазом не могу ее видеть.
– Вот так сразу бы и сказала, старуха! – воскликнул Токио. – А зачем надо было камлание собирать?
– Я брошу шаманство, если ты так говоришь. Пусть люди без шамана живут. Пусть каждый раз тебя вызывают из Сен-Келя…
– Ладно, не будем ругаться. Дети мы, что ль! Шамань на здоровье. А Пайпэткэ не трогай. Согласишься не трогать – я буду рад. Ты старше меня, и ты должна учить меня справедливости, а не я тебя.
– Ну и хватит! – зашевелился Куриль. – Впервые вижу ругающихся вслух шаманов. – Он встал, затянул на дохе ремень и вышел.
А Кака продолжал молча сидеть. Он делал вид, что дремлет и во сне разговаривает со своими келе.
Весь вечер и, наверное, половину ночи Пайпэткэ проплакала за своим пологом. Она плакала от счастья, от облегчения, от страха перед родами, от дум о больших заботах, от неизвестности.
Утром она увидела на доске большой кусок мяса, две юколы и плитку чая, на обертке которой стояла печать головы юкагиров.
Приближалась весна. Солнце уже хорошо пригревало землю. Снега осели.
Олени обленились – днем стали вылеживаться на солнце, а пастись – но ночам.
Важенки еле передвигали ноги – скоро начнется отел.
Жизнь стойбища на Соколиной едоме бурлила заботами и хлопотами.
Как-то среди ясного дня люди заметили старуху Абучедэ, бегущую со свертком шкурок.








