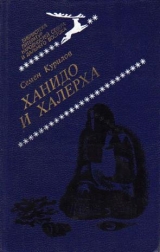
Текст книги "Ханидо и Халерха"
Автор книги: Семен Курилов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 48 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]
– Так его!
– Молодец, что не бьешь кулаком!
Ух, каким окаянным был пьяный народец: сорвалось – получай, мы тоже можем сорваться…
А сорваться было нетрудно. Дело в том, что Томпсон разрешил любому и каждому выпить за так одну кружечку горькой воды, за другую же и за все прочие надо платить – шкуркой теленка или камусами. Ну, понятное дело: простой народ давно обменял шкурки на порох, чай и табак – а выпить хочется, а одной кружечки мало. К тому же хватившего горькой воды легко подмывает надежда: разве каждого Алитет запомнит?.. Но Алитет и его остроносый друг хорошо помнили каждого – Томпсон знал, кого брать в помощники. Да и определить ловкача было не трудно: раз масленые глаза – значит, уже подходил. Тут, правда, могла случиться ошибка. Горькой водой торговал не один Томпсон. Но и в этом случае обижаться было не на кого: шкурки отдал другим, а здесь хочешь выпить задаром?
Ничего этого Пурама не знал. Верней, знал, но забыл. Его, однако, ничуть не задело бешенство Алитета: бьют – значит, надо, совсем не виноватого не ударят… Войдя во вторую настежь открытую дверь, он увидел компанию богачей и купцов, плотно сидевших вокруг столов, заставленных бутылками и едой. Кого-нибудь разглядеть он не мог, потому что в доме висела настоящая туча синего дыма, в котором резко мигало слабое пламя жирника.
Впрочем, он разглядывать и не хотел. Ему достаточно было увидеть в углу ворох шкур, бочку, а на высоком ящике – жестяной жбан, чтобы понять, что здесь к чему и что ни к чему. Он бросил сверток в общую кучу и взялся было за кружку, но остроносый чукча положил руку на жбан.
– Что бросил? – спросил он и приподнял бровь. – Залинялые бросил? А ну обратно возьми.
– У твоего отца залиняла голова, – спокойно сказал Пурама. – Погляди.
Сердце у Пурамы, однако, заколотилось: если шкурки он взял у Петрдэ, то они могли быть и старыми. И тогда ему влепят не пятерней, а кулаком. К счастью, все обошлось хорошо, да тут еще подскочил Алитет, который сказал:
– Он первый раз – две ему. У нас все по совести.
– Наливай сам, – зло приказал остроносый чукча. – Тут нету работников.
Пурама выпил одну кружечку, выпил другую и собрался было идти, но заметил склонившегося над уголком стола Ниникая. И ему вдруг захотелось непременно остаться.
Ниникай был пьян, однако не сильно. Это Пурама определил сразу. Длинные черные волосы Ниникая свалились вниз и закрывали половину его лица. Он смотрел одним глазом. На Алитета смотрел. Хороший охотник в момент понимает взгляд зверя, а человеческий еще быстрей. Ниникай уже давно следил за помощниками Томпсона, но особенно за Алитетом – и все полней и полней наливался кровавой злобой. Из-под его кухлянки выглядывала круглая костяная ножна… А рядом с ним вертелся на скамейке бледный не то от нетерпения, не то от бессилия Лелехай.
– Ты, крючок! Я здесь остаюсь, – грубо сказал Пурама. – Я богач, я близкий родственник головы юкагиров. Вон сидит он с Томпсоном.
– Ну и шагай! – так же грубо ответил чукча, но оправдался: – Шкурки мы должны проверять, чтобы нас в Америке не осмеяли… Что ты даешь! – набросился он на следующего мужика, уже схватившего кружку. – Какие это камусы? Кто их выделывать будет – я? Жесть принес, а не камусы, меркешкин.
Иди отсюда. Добротой американца пользуются… Ну, а ты, красавица, что принесла? – обратился он к пьяненькой чукчанке с лицом, густо разрисованным наколками. – Вышитые рукавицы? Пойдут… Любишь водицу-то горькую пить?
– А кто же не любит ее?
– Ну, тогда пей да иди скажи подружкам своим, что я приму и красивые новые вещи. Только новые и только красивые.
А в это время мужик, у которого не прошли плохо выделанные камусы, убеждал Алитета:
– Ну, возьми эти вот за полкружки!.. За четверть кружки…
– Принеси хорошие – за все полторы и выпьешь. А так не возьму.
– А где же хорошие взять?
– Попроси взаймы. После отдашь… Уходи, не мешай!
– У-у, – завыл со злости мужик. – Раз в жизни хотел… до конца хотел повеселиться…
– Алитет, Алитет. Мэй, догор… Хочешь?.. На смех… им… всем вам… на смех… в бочку залезу… А что выпью – мое.
Алитет, не размахиваясь, двинул ему ладонью в рожу и остался стоять, будто ничего и не сделал. А мужик упал и скорей-скорей пополз на четвереньках к двери, оставляя на грязном полу черно-красные капли крови.
Пурама делал вид, что отыскивает местечко за столом богачей. Но богачи его не интересовали. Он не спускал глаз с Ниникая, хоть и приходилось их сильно косить в сторону. Ниникай не пошевелился, когда Алитет ударил пьяного мужика. Это еще, однако, ничего не значило: северный человек терпелив и умеет хитро скрывать намерения. Пурама чувствовал, что Алитет давно заметил пристальный взгляд из-под чуба. Но ведь скрыть намерение можно по-разному: расчет Ниникая, наверно, был прост – все вытерпеть, обмануть спокойствием.
Пурама напряженно старался предугадать, как это произойдет. Алитет обязательно увлечется – это он врет, что сохраняет спокойствие, видя кровь и чувствуя безнаказанность. Кровь – она бесит… И тогда Лелехай повалит жбан с водкой, отвлечет внимание остроносого чукчи. А Ниникай встанет, быстро пройдет в дверь, оставив Алитета корчиться. Если же он так не сделает, испугается, то уж наверняка толкнет его через порожек и начнет бить ногой по лицу…
Прижимаясь к стенке, Пурама за спинами богачей пробрался в глубину комнаты, глянул на играющих в карты и нетерпеливо пошел назад. Он вдруг начал метаться. Горькая вода как-то сразу ударила ему в голову – пришел-то сюда, ничего не поев, и здесь не закусывал. Надо было найти местечко: пусть вертятся глаза и мысли, а он вертеться не должен… Пурама опустился на корточки возле самой стены, быстро достал кисет и трубку, рукой побеспокоил незнакомого богача, взял у него дымящую трубку, прикурил и огляделся, не поворачивая головы. Четыре шага до Ниникая, до Алитета – два…
Лелехай заметил его и, кажется, повеселел.
И сразу же мысли точно кто-то хлестнул вожжами, хлестнул еще и еще. А те самые ноги – толстые и проворные ноги в унтах, которые искалечили Чайгуургина, были совсем рядом. Под гулкий стук сердца и шум сплошного пьяного говора, упрямо помня, что все происходящее здесь и еще не происшедшее – это прощание с ярмаркой, хмельной Пурама напряженно соображал, как повести себя напоследок: "Алитет сирайкан, его надо бить, бить в кровь, чем попало и по чем придется, может, до смерти бить"… Но удивительно – бить его собирается Ниникай. "За что собирается бить? За Чайгуургина мстить хочет? Подговорил его Лелехай? Пусть бьет. Все равно получится, что не за одного Чайгуургииа"… А может, Пурама просто Ниникая не знает?.. "Разве при людях мстят, зачем при людях?.." Да он и в самом деле Ниникая не знает. "И о Пайпэткэ Ниникай нынче подумал и сейчас бесится потому, что простых людей тундры бьют. Нет, Ниникай парень хороший, наверно, хороший"…
И Пураме нестерпимо захотелось получить подтверждение своим новым горячим мыслям о Ниникае. Пусть бы он только встал, пусть бы совсем незаметно потрогал нож… Тогда бы?.. Что было б тогда? "За ноги Алитета дерну, – решил Пурама. – Он кувыркнется. И пусть Ниникай месит его. А с остроносым чукчей я как-нибудь справлюсь…" Сердце его еще сильней заколотилось, а зрачки нетерпеливо скользнули вниз – за правым голенищем он носил охотничий нож. И только поднял он глаза, как Лелехай согласно скривил губы и осторожно кивнул.
Мысли пьянеют быстрей и сильней человека. И нет внутри самого человека силы, которая отрезвила бы их. Но У Пурамы сегодня такая сила была.
"Так. Случится все это, быстро случится. А что будет дальше? – подумал он. – Ниникай прыгнет на нарту и улетит в тундру, а может, в тайгу. А как быть ему, семейному человеку? У Пурамы тордох, жена, ребенок, охотничьи снасти, хозяйский скарб и еще тут пятьдесят три оленя… Рискнул бы Ниникай на его месте? Даже пьяный? Э, наверняка не рискнул бы"… – Пурама задрал голову и уставился глазами в мутное облако табачного дыма.
Взгляд его надолго завяз в этом облаке, угрюмо клубившемся над черным, как попало набранным из горбыля потолком. К Пураме пришло пьяное успокоение, и все только что сгоряча пережитое поплыло в разные стороны. Он и сам будто поплыл вверх, оставляя где-то внизу говор, шум, крики картежников и то, что не позволяло ему вертеть головой, – упрямый, заледеневший взгляд Ниникая из-под чуба и порывистые движения толстых ног Алитета.
Наконец он увидел себя на нарте, пробивающимся сквозь густой туман к далекой Соколиной едоме. Он будто бы дремлет и вспоминает последнюю ночь шумной ярмарки… Была вроде бы какая-то суматошная, кровавая драка, в которой погибли и Алитет, и остроносый чукча… Он дремлет, смутно припоминает и слышит разговор Куриля с Тинелькутом: "Томпсон обиделся, навсегда уехал…" – "А мне он сказал, что через три года на ярмарке будет Свенсон. С десятью Алитетами будет…" – "А я слышал – исправник приедет. С казаками. Он ведь с ярмарки тоже барыш имеет…"
Неожиданно для себя Пурама встал. Он покачнулся, мутными глазами осмотрел все кругом, ни на ком и ни на чем не остановив взгляда.
"Спать пойду, – решил он. – Ничего не хочу. Спать хочу… А это – пустое все. Кто я им – ниникай?" [73]73
Ниникай – парень (чукот.).
[Закрыть]
Он пальцем примял табак в погасщей трубке – чтобы не высыпался – и шагнул было в двери, но вместе с ветром в лицо ему ударило еще что-то более холодное, сразу проникшее в грудь, в сердце, в голову. Лучше бы ударил его Алитет – просто так, ни за что. Но на него налетела тоска – черная, ледяная, без проблеска. Он понял, что уходит не из заезжего дома, а из заезжего мира, уходит навсегда в свой привычный печальный мир. И пьяная обида на весь божий свет железным капканом перехватила ему горло. В том привычном печальном мире теперь ему будет совсем плохо, совсем безнадежно…
Алитет лениво повернул к нему голову. Чего, мол, остановился? Трезвое безошибочное чувство вдруг подсказало Пураме, что Ниникай и Лелехай встали, неправильно поняв его появление у двери. Он круто повернулся и шагнул к краю стола, из-за которого действительно осторожно выходили брат Тинелькута и племянник Чайгуургина. Головы оба дружка опустили, скрывая внутреннее напряжение. Пурама заставил их одновременно вздрогнуть. Лелехая будто дернули арканом сзади, а Ниникай откинул длинную густую челку – и все красивое лицо его перекосилось от злобного удивления и ненависти.
– Хочу в карты с тобой… играть, – сказал Пурама. – Пойдешь?
Ниникай глянул на Лелехая, нехорошо хохотнул и, раздувая ноздри, высоко подняв тонкую бровь, сквозь зубы презрительно проговорил:
– Отойди.
Лелехай тронул его за рукав:
– Сядь.
Все сорвалось. Теперь было поздно и не умно бросаться на крепкого, верткого, настороженного Алитета. Ниникай опустил глаза и обмяк.
– Ну, что? Старших родственников боитесь? – спросил Пурама. – Или жалко оленей? На оленей хочу играть.
Ниникай сел и презрительно отвернулся. Но он тут же уронил голову, с силой помял лицо ладонями, потом загреб наверх волосы, вздохнул и остановил взгляд на бутылке с горькой водой. Пураме показалось, что ему стало легче, а себя он почувствовал мудрым старшим, сломившим волю неразумного младшего.
Однако с ним разговаривать не хотели.
Пурама переминался с ноги на ногу, не зная, что делать.
И как раз в это время Алитет сбил с ног пьяного якута. Якут упал не в сенцы, а в комнату, и Алитет взялся лупить его ногами под зад, стараясь заставить его на карачках убраться из комнаты. От первого удара меховые штаны у якута лопнули по шву, а потом полукругом лопнула и сама шкура.
– Э, Алитет, – нехорошим ты человеком будешь! – крикнули из двери.
– Совсем пьяного бить – это последнее дело…
– Больше нет бесплатной горькой воды! Нет! Нет! Только за плату, за плату! – рычал Алитет, провожая пинками уползающего якута.
Ниникай весь дрожал от бессильной злобы. Но он уже понимал, что ничего сделать нельзя: Тинелькут сидел рядом с Томпсоном, и оба они глядели на дверь, где орудовал Алитет.
– Хей, Алитет, хей! – крикнул Томпсон. – Дверь надо закрыть, дверь! Нам оставь что-нибудь. Ночь большая – мы много пить будем… – Он облапил бутылку, потряс ее над головой и начал быстро наливать горькой воды богачам.
Упершись плечом в стену, Пурама принялся бессмысленно разглядывать свои растоптанные унты. Помятая жестяная кружка с трепыхающейся горькой водой, которую он неожиданно увидел возле своей груди, удивила и обрадовала его.
Ниникай одумался и теперь предлагал мировую.
– Пошли отсюда, – предложил Пурама, осушив кружку и нетерпеливо взяв со стола большой кусок оленины и американский калачик, посыпанный сахаром.
Но перед тем как уйти, они молча выпили еще.
Помощники Томпсона дружно рылись в куче шкур, наводя порядок; когда Ниникай резко отодвинул щеколду и ударом ноги отворил дверь.
Перед заезжим домом все еще колготился пьяный люд, а небольшая толпа продолжала тискаться к входной двери, надеясь выкликать Алитета. Дул сильный и холодный морской ветер; он уже не гнал снега, но стал резким, порывистым, злым. Налетая на пьяных, он валил их с ног, заставлял шарахаться, пятиться или сбиваться в кучки. Ветер будто выметал поляну, будто требовал оставить ее поскорей.
Молча, один за другим Ниникай, Лелехай и Пурама добрались до второго заезжего дома, где продолжали торговать горькой водой русские купцы и где в холодной полутьме, прямо на земляном полу, резались в карты десятки самых жуликоватых людей.
Оказавшись здесь, пьяненькие новички сперва разбрелись, чтобы отыскать подходящую компанию, а потом Пурама и Ниникай случайно столкнулись в свободном углу.
– Ты? Ага, это ты… – схватил Ниникай Пураму за вырез воротника. – Хочешь, охотник, правду узнать? Обо мне… правду…
– Все знаю… Начисто все.
– Врешь. Лелехай даже не знает… Лелехай мне не друг, и нет у меня ни одного друга…
– Порезать хотел?.. Алитета. Голова горячая… а пустая. Эх, парень ты, парень!.. И звать тебя Парнем… А плакать тебе хотелось хоть раз? Не хотелось – значит, еще не дошел…
Ниникай легонько потряс кухлянку на Пураме, но бессильно опустил руку.
– А-а… не в этом дело. Не в этом… Порезал бы Алитета – ушел бы в тайгу. Не порезал – ты поперек встал… Зачем встал?
– А невесту бросил бы с пузом? Да? Бросил бы? Ух вы, рыбья мелочь!..
– Нет, – тихо сказал Ниникай. – Мою бросить нельзя. Хотел увезти в тайгу… Да ты что знаешь? Ты – чукча? Ты – шаман, чтоб знать мою душу? Один Куриль мою душу знает…
– Га! Куриль! – Пурама покачнулся и обнял Ниникая. – Да Куриль и свою не знает! Хочешь, перекрещусь – не знает… Ты только тихо: он даже бога обманывает… Понял? Но ты тихо об этом… Я тебе все расскажу…
– Куриль? Бога?.. Так говоришь? Да? Так говоришь? – Ниникай отстранился от Пурамы, скинул его руку со своего плеча. – А ты все знаешь? Да? Все?..
Вон ты какой… Плохие – все, дураки – все? А сам лезешь в душу?.. Ты – хороший? Уйди. Уйди – ненавижу таких…
Он повернулся и сам ушел от Пурамы.
Оставшись один в темном углу, охотник долго и ошарашенно моргал глазами. Потом он тихо зарычал и завертел головой так, что светлые пятна жирников побежали вкось и вкривь полосами.
Ему бы уйти, запеть бы на ветру самую грустную песню, поплакать бы, как плачут пьяные, или свернуться в комочек в этом уголке и потихоньку заснуть.
Куда там! Не понятому Ниникаем, Пураме вдруг показалось, что он один постиг всю правду жизни, что с этой правдой ему будет не тяжелей, а легче. Из этого он сделал простой вывод: зачем ему метаться, как в прошлом, как сейчас мечется Ниникай, зачем ломать голову, если все ясно, – а не лучше ли ему жить так, как живется?
И, посчитав, что к нему наконец пришла высшая мудрость, Пурама сел в круг картежников. Да не простых выбрал картежников, а тех, которые решились играть с самим Потончей. Мудрецу ли играть со слабаками.
– Мне, – потребовал он карты. – На оленей играю.
– Эй, мэй, Пурама! – повернулся к нему Потонча. – Садись, хорошо садись. Мы тут балуемся: весь вечер играем, а проигрыш пять оленей и песцовая шкурка. Ей-богу!.. Да вы знаете, это кто? – спросил он дружков. – Это же юкагир Пурама! Он на состязаниях по тысяче оленей выигрывает!
– Помолчи, Потонча. А то он подумает, что мы не знаем его, – сказал редкозубый, широколицый якут со шрамом поперек брови. – Лучше скажи ему, как мы играем, как пьем…
– Ке-ке-ке, – неловко захохотал купчик. – Это он насчет тебя говорит…
Мы тут одинаково пьем… понемногу, мерочкой из-под пороха…
– Ага, я, значит, пьяный? Да? А если я скажу, что ни в одном вашем слове нет правды, – тогда как?
– Тогда тебе придется две мерки выпить! Ке-ке-ке…
– Вот это… другой разговор… Пурама первый раз в жизни такой трезвый – все насквозь видит…
ГЛАВА 13
В то время как Пурама проигрывал третий десяток оленей и, трезвея от нестерпимой головной боли, начинал понимать, что вся жизнь – против него, – голова юкагиров Куриль, наоборот, чувствовал все большую и большую крепость в ногах и плечах.
Никто из богатых и знатных людей никогда не обнимал Куриля. Одни считали его слишком умным и важным, другие важничали сами, третьи брезговали даже руку подать немытому тундровику. А вот американец Томпсон был совсем иным человеком. Огромная ладонь его сильно согрела плечо Куриля за прощальный вечер.
В первый день ярмарки ни сам Куриль, ни другие богачи не придавали значения особому к нему отношению американца. О голове юкагиров ходили слухи, которые были известны всем этим людям и которые, конечно, докатились и до Томпсона. Однако никто и не думал, что заморский купец-богач, заслонивший собой всех прочих купцов, начнет выпячивать свое особое отношение к юкагиру. Никто не мог понять этого: юкагирская тундра не богаче других, есть в ней, правда, озера со знаменитой породой рыбы, но Томпсона рыба начисто не интересовала. Тогда богачи стали рассуждать так: если исправник и все русское начальство считается с Курилем, то чужому купцу, конечно же, следует угождать ему. Точно так рассудил и сам Афанасий Куриль, когда американец попросту подарил ему коробку иголок. Но потом американец при людях пригласил голову юкагиров к себе в палатку, и хоть Куриль без Чайгуургина не появился там, слух о его приглашении вырос в событие. И вот наконец на прощальном вечере Томпсон посадил Куриля рядом с собой, обнял его левой рукой и редко ее убирал – наливал правой, ел правой, а левой гладил мех новой кухлянки юкагирского головы. Полысевшему, суровому и неразговорчивому Курилю была сперва неприятна такая мужская нежность. Но потом он выпил, свыкся с этой рукой и уже не хотел, чтобы Томпсон встал и переменил за столом место. Однако Томпсон так и не оставил его.
До полуночи Куриль очень жалел, что из-за Чайгуургина не пошел к американцу в палатку: там, наедине, Томпсон говорил бы прямо и что-то объяснил бы ему, а тут, при других богачах и купцах, он только шутил, поддерживал разговор – и совсем молчал о себе, о жизни в Америке, о торговых делах, о своих связях.
Так бы и уехал Куриль с ярмарки, радуясь лишь тому, что с Томпсоном у него установились хорошие отношения, но не понимая, в чем же тут дело. Но вот когда Алитет закрыл дверь за Пурамой, Ниникаем и Лелехаем, когда все почему-то стали дружней пить и есть, Томпсон незаметно налил себе и Курилю горькой воды и, приподняв тонкий стеклянный стаканчик, тихо сказал:
– Пью за умный взгляд моего нового друга господина Курилова…
Но не сразу он выпил. Держа огромными толстыми пальцами тонкий стаканчик, Томпсон сильно прищурил выпученные глаза – и так долго смотрел в лицо Куриля, стараясь убедиться, что слова его поняты.
Куриль этих слов не понял, но догадался, что переспросить надо попозже, когда Тинелькут и другие соседи забудут об этом случае.
Потом он взялся резать сваренную целиком оленью ляжку и тихо сказал:
– В тундре темный народ – не все понимает сразу…
Томпсон улыбнулся:
– Когда мистер Курилов вспомнит дерущихся женщин, он все поймет… Я вот говорю господину Курилову, – повернулся он к Тинелькуту, – что мне нравится его неразговорчивость. Он отвечает, что это от темноты. Я не согласен: задумчивость – признак ума. Это уже нам, купцам, некогда думать, мы должны уметь говорить…
Он пускал в глаза Тинелькута дым. И это придавало его главным словам особенное значение.
Куриль все вспомнил. Да, когда женщины поскандалили из-за иголок и когда простые люди увидели, что они не люди, он не вытерпел и поглядел Томпсону в глаза. Этот взгляд сейчас американец и назвал умным. Смысл во всем этом был очень большой, как теперь понял Куриль. Томпсон дорого заплатил за один его взгляд – отдал две коробки иголок, или, по крайней мере, двадцать песцовых шкур, а если бы иголки менял Потонча, то и все пятьдесят. Это – не шутки, для любого купца потеря такая чувствительна. Но американец пошел на нее, да еще обнимает, благодарит за подсказку…
Куриль – не Сайрэ и не Пурама. Он не привык, не умел мучить себя долгими размышлениями. Однако то, что принесла ему ярмарка и эта неожиданная связь с Томпсоном, меняло многое в его жизни. У него никогда не было никакой опоры – теперь она появилась, и он уже знал, что обо всем придется думать и думать. Но быстрый хмельной ум и сейчас подсказывал кое-что. Томпсон видит в нем сильного человека. Если б это было не так, он выбрал бы кого-то другого.
Томпсон же и сам человек сильный, потому знакомство с ним сделает Куриля еще более сильным, и все другие богачи и купцы будут считаться с головой юкагиров… Томпсон человек приезжий, чужой, и, может, это заставляет его быть добрее всех прочих купцов. Может, он просто богаче других, может, лучше знает настоящую цену товару, который имеет тундра. Как бы то ни было, но с ним куда выгоднее иметь дело, чем с любыми другими купцами, которые просто шкуру сдирают с людей. Станет Томпсон надолго вне конкуренции – другие хвосты подожмут и подобреют сами. А простым людям тундры надо хоть маленькое, хоть самое маленькое облегчение сделать: стонет ведь тундра…
Томпсон все это видит – иначе он просто бы не запомнил осуждающего и просящего взгляда, не благодарил бы за этот взгляд…
Пьяная радость – как снежный ком: ядрышко маленькое, а накрутиться на него может снег со всей тундры. Курилю пришла в голову и такая мысль.
Томпсон и его дела могут не понравиться местным и русским купцам; он это предвидит и ищет опору. В нем ищет опору…
Эта последняя мысль сильнее всего взбудоражила Куриля. И он, перестав жевать, не удержавшись, спросил русского купца – богача Соловьева:
– Василь, к Тинелькуту не хотел бы поехать? Мы собираемся погулять у него в стойбище.
– К Тинелькуту? – насторожился тот, поспешно вынимая огромный платок и вытирая им усы и губы. – Да я полагаю так: если к Тинелькуту, то он и приглашать должен… А впрочем – премного благодарен, благодарствую, но поехать не могу: семья у меня, дела…
"Ага, принижает меня, – подумал Куриль. – Не по нраву ему это все. Так и есть. Но ничего: на иголках нарвались – нарветесь на порохе и табаке или на чае. Поглядим, что покажет ярмарка через три года…"
– Ну, братья! Пора и богу молиться, – сказал, вставая, Томпсон. – Поздравляю всех с хорошей торговлей. Надеюсь, что на следующую ярмарку каждый из нас привезет еще больше товаров… Тундре много нужно вещей, всяких вещей, всяких продуктов…
Американец устало закрыл глаза. Казалось, что он хочет открыть их тогда, когда останется один посреди задымленной замусоренной комнаты.
Поднялся, надел малахай и Куриль.
Не открывая глаз, Томпсон тихо сказал:
– Моего человека не обижайте. Мамахану Тарабукину передайте привет.
Он говорил о Потонче. Никакого привета Мамахану передавать не следует: Мамахан и Потонча – конкуренты. Надо лишь открыть пошире дверь Потонче, а значит, Томпсону – за счет Мамахана. Мамахан же – давний друг Куриля…
Томпсон ждал ответа.
Куриль сдвинул брови, подумал.
– Нашим людям табак и чай нужны. Весна – тяжелое время, – сказал он и вздохнул.
– О-эй. – Американец открыл глаза, но остался стоять неподвижно, не желая больше ни с кем разговаривать.
На следующий день с утра ярмарочное стойбище начало быстро таять: одна за другой исчезали яранги, и длинные караваны упряжек пропадали в лесу, будто их и не было вовсе.
Раньше всех поляну покинули три упряжки Томпсона, груженные одними песцовыми и лисьими шкурками. Золотой караван повел Алитет, перепоясанный патронташами.
К середине дня от стойбища остались одни воспоминания – кружки снега от яранг, кучи оленьих костей да следы от полозьев, ног, копыт и собачьих лап.
День был сумрачным и сырым. Ветер как будто не мог выбрать определенного направления. Когда караван богачей во главе с упряжками Тинелькута вилял между холмами, ветер просто бесился и вроде бы дул со всех четырех сторон, на равнине же он то налетал спереди, то сбоку, то сзади.
Весна наступала на зиму, и теплый ветер боролся с холодным.
В пути главный груз – в голове. У Куриля голова была набита мыслями круто и до отказа. У Тинелькута – свободней, там еще находилось место мыслям о Ниникае, которого нужно срочно женить. У Потончи в голове было так же, как в его новом кисете, подаренном никому не известной девушкой, – в крепко перевязанном кисете болтались камешки золота, а в голове болтались золотые мысли о лучших днях. Голова Пурамы больше всего походила на пустой, со всех сторон зашитый мешок; он мог бы наполнить его очень быстро, но для этого следовало распороть шов. А пороть не хотелось, особенно после того, как к нему подошел Кымыыргин и сказал:
– Там у тебя – девятнадцать оленей. Пастухи говорят. Девять – мои. Ты не забыл?
Пурама не только забыл, сколько осталось от призовых оленей, но он ни за что не сумел бы вспомнить, играл ли он вообще с Кымыыргином. Однако ему сейчас было решительно все безразлично, и он ответил:
– Помню.
До Сохатиной речки доехали к вечеру. Тут и было весеннее стойбище Тинелькута.
Никто не лег отдыхать. Лишь Чайгуургина положили поближе к костру и тут же налили водки.
Пир начался с ходу, будто не было никакой дороги. Сразу же выпили, загалдели.
– Будем играть и водку пить! – сказал Тинелькут, стукнув опустошенной кружкой о доску. – Эй, жена! Положь на стол вареное мясо, мозги, жилы. Все подавай – не жалей! На иголки… – Он стукнул о доску одной коробкой, потом второй.
Жена Тинелькута зажмурилась и покачнулась.
– Бери! Прячь. А вот еще две бумаги русских трехгранных.
Мужчины не умеют сразу смеяться и плакать. Женщины это умеют. В руках больше сотни иголок – тут счастье покажется сном… В такое время, однако, женщины забывают о себе и мечутся, как птичий пух от дуновения, – куда дунешь, туда летит… Мясо жена Тинелькута не варила, но мясо тут же задымило паром – наверное, выхватила его из котла в соседней яранге.
– Теперь мы веселей будем жить! – храбро воскликнул Куриль. – По-новому будем жить!
Эти его слова по-разному были поняты. Одним показалось, что речь идет о богатых запасах, приобретенных на ярмарке, которые позволят жить посвободней, другие сразу вспомнили о завязавшейся дружбе юкагирского головы с американским купцом. И лишь один Пурама тяжело вздохнул:
– Эхе-хе, хе-хе…
– Чего это мой шурин вздыхает? – спросил Куриль, готовый взять верх в разговорах.
– Так… – сказал Пурама, собираясь выйти и заняться делами работника. – Приедет Афанасий Куриль в наше стойбище, а там уже голова не он, а Тачана-шаманка…
– Вот, верно он говорит, – согласился Куриль. – И это может случиться.
Только царицей ей быть не долго: я быстро прижму ей лапы. С шаманами я буду теперь разговаривать по-другому…
– Это как же? – спросил Ниникай.
– Ой-ой-ой, ой-ой-ой, – запричитала жена Тинелькута, суетясь между мужчинами. – Грех, грех, грех…
– Грех? Перед кем грех? Перед богом? – спросил, ни к кому не обращаясь, Куриль. – А что божий человек в Нижнем сказал? Шаманы – рабы сатаны. Так сказал? Чайгуургин слышал, Петрдэ слышал, Лелехай слышал. А я давно знал. Да я и другое знаю. С сатаной бороться никто не будет. А вот его рабов тальником сечь надо… Без них и сатана будет не страшен!
– Ох, Апанаа, оглядывайся, – закряхтел Чайгуургин. – Положишь сечь Токио, а он поглядит на тебя – ты про тальник забудешь и начнешь снимать штаны сам…
Многие захохотали. Но Куриль все обдумал очень давно.
– А Токио не за что сечь, – сказал он. – В том-то и дело, что Токио настоящий шаман. Да он всего один и шаман. Остальные, которых я знаю, обманом живут. Звоном бубна забивают нам уши, пугают всякими криками. Это игра детская, обман без стыда.
– Ой-ой, ой-ой! – снова заныла жена Тинелькута.
– Куриль! – сказал Тинелькут. – О шаманах говорить будем потом. А сейчас давай пить, в карты играть. Да песни еще попоем. Чего это ты?
– Чего? А вот так: кто над чукчами власть имеет? Чайгуургин? Я думаю, что Кака.
– Ниникай! – сказал Тинелькут. – Чего ты ушами двигаешь, как олень! Иди к невесте своей.
– А у него есть невеста? – зашевелились гости.
– Что ж ты молчишь, Тинелькут!
– Свадьбу играть!
– Сюда невесту! Горькой воды много, гости какие! Самый хороший случай.
– Подарки невесте привез? – спросил Ниникая старый Тинелькут. – Иди подари.
– Я еще хочу отдохнуть, – упрямо проговорил жених.
– Хорош! Ну, хорош жених! Я бы к такой красавице вперед каравана бежал…
– Перед свадьбой жених отдохнуть должен, – нахмурился Ниникай.
Тинелькут зло отвернулся. А Пурама с шумом выбрался из яранги.
Старший брат мог бы настоять на своем. Ему не хотелось, чтоб Ниникай слушал пьяные и опасные речи головы юкагиров. Но невеста его младшего брата была в положении, и Тинелькут сообразил, что ей и в самом деле лучше бы появиться перед богачами попозже – когда все опьянеют.
– Потонча, у тебя есть карты? – спросил он. – Только не меченые…
– Хе-хе-хе… – не обиделся чуть сгорбленный мужичок. – У нас всякие есть… – И он извлек из кармана тонкими девичьими пальцами новенькую колоду, завернутую в тряпку. – Мне только и осталось, что в карты играть. Из-за Мамахана торговля стала невыгодной. Наверно, пастухом к Курилю придется идти.
– Мамахан сам просчитался, – сказал Куриль. – Не поехал на ярмарку, значит, не обернется. А сейчас людям совсем тяжко: всю зиму, считай, купцов не было. Думаю, из-за одного человека люди страдать не должны. Потонче надо послабление сделать. А мой друг Мамахан пусть поворачивается, – это ему самому на пользу.
– Правильно, – согласился Чайгуургин. – Ко мне приезжай, Потонча.
– Нет уж, сначала ко мне…
– Хе-хе-хе – смотрите: карты сдавал Лелехай, а мне достались все козыри. – Потонча бросил карты. – Перемешай получше. Как будем играть? По олешку поставим?
– Конечно. Ты, Чайгуургин, хочешь играть? – спросил Тинелькут. – Тебе полегчало?
– Как выпью, так легче.
– Видишь – легче! – сказал Куриль. – А если б русский ученый дал своей горькой воды, совсем полегчало бы. А то на Каку надеешься. Кака – пустой шаман. Я лет десять за каждым шаманом слежу – знаю.








