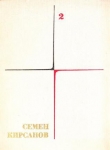Текст книги "Собрание сочинений. Том 1. Лирические произведения"
Автор книги: Семен Кирсанов
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 9 страниц)
И несмотря на все тревоги,
я телескоп люблю треногий,
а он за несколько копеек
покажет мне Кассиопею.
И на Луне пустынный кратер,
и пик Надежды на закате,
и море высохших Желаний,
и что-то новое в тумане.
И никакой загадки сфинкса, —
я с этим небом сжился, свыкся,
и среди звезд живу как дома,
где все знакомо, все знакомо.
И так привычно, рядом, вместе
встречаются глаза созвездий,
как через коридор соседи,
как всё на свете, всё на свете…
Циклоп
Горе одинокому,
горе одноокому
злому великану.
Что ему осталось?
Колотить под старость
кулаком по камню.
Катится с утесов
каменная осыпь,
завывает ветер.
Камни осыпаются,
в страхе просыпаются
маленькие дети.
Страшно, будто режет он
мальчиков со скрежетом.
Режет и хоронит.
А циклон всю ночь
(чем ему помочь?)
охает и стонет.
Никого не режет он,
не хоронит.
Охает и стонет.
Три вариации
Земля
Земля вращается. Земля
вращается. Вращается
Земля. И вновь к себе Земля,
вращаясь, возвращается.
С платками мокрыми в руках
прощают и прощаются,
и возвращают праху прах,
и с кладбищ возвращаются.
На холмик брошена земля.
Что было – то прощается.
За стол садятся. А Земля
тем временем вращается.
Метель
Метет метелица. Метет
метелица, метелица.
Мутит, мятется, метит лед,
и мечется, и стелется.
И шали стаскивает с плеч.
Кто возразить осмелится?
В трубу влетает, гасит печь,
и это ей – безделица.
Пустует мятая постель —
и тут мела метелица.
О, не безделица – метель,
когда в душе поселится!
Терпение
Еще – терпение! Еще
терпение, терпение.
И трепетание не в счет,
и трение о тернии.
И римское копье не в счет.
Скрипят креста крепления.
И губы уксусом печет.
Еще, еще терпение.
Зато в столетиях расчет
за всё! Молитвы, пение —
«Воскрес воистину»… Еще
терпение, терпение!
Иллюзии
Увлеченный похожестью слов
на журчания и шелестенья,
думал я, будто могут из них
создаваться ручьи и растенья…
Вот слова, словно горы песка,
я бреду среди них и поныне,
умирая от жажды в пустыне,
где ни капли воды, ни ростка!
Увлеченный похожестью снов
на явленья, поступки, событья,
думал я, что когда-нибудь их
в полный полдень смогу пережить я…
О, фантастика, о, пестрота,
сохраню ли я вас, просыпаясь?
Но сквозь пальцы, как пыль, просыпаясь,
остается в руках пустота.
Увлеченный похожестью глаз
на любви и надежды светила,
я хотел, чтобы в них наконец
ты тревогу мою приютила…
Мнимый свет! И во лжи этих глаз
я блуждаю, как нищий, по свету…
О, вкушая, вкусих мало меду,
и се аз умираю, се аз!..
«Жизнь моя, ты прошла, ты прошла…»
Жизнь моя, ты прошла, ты прошла,
ты была не пуста, не пошла.
И сейчас еще ты, точно след,
след ракетно светящихся лет.
Но сейчас ты не путь, а пунктир
по дуге скоростного пути.
Самолет улетел, но светла
в синеве меловая петля.
Но она расплылась и плывет…
Вот и все, что оставил полет.
ОДНАЖДЫ ЗАВТРА
Поэма (1964)
Однажды завтра со мной случилось удивительное явление. У букиниста попалась мне книжка – один переплет, без заглавия, без автора. Из нее были вырваны все страницы, и осталось только одно оглавление.
Вот оно:

Вот и все: одно оглавление, и после названий – цифры страниц. А страниц – ни листка.
Сколько я ни искал, как ни рылся в читальных каталогах, как ни шарил в экслибрисах – нет такой на всем земном шаре! Кто-то выбросил, умерла никому не известная книга. Вникни: книга ж была! Загляни-ка поглубже в туманную память, вытащи, выложи – было же имя на титульном, первом листе. Был же он, этот «вроде меня», среди ночи вставал и во тьме одиночества зажигал над страницей свечу. Что же я шепчу, в неизвестности плавая?
Разве я слышал такие заглавия: Нечто вроде меня? Нет так нет? Бесконечно? Чтобы яблоки были? В одном из снов? Нашелся? Однажды завтра?
Ничего моя память не помнит – о ком это? Весь день я ходил по комнатам, разговаривал сам с собой, читал их, как шифр, – шиворот-навыворот, стирал, ретушировал, опускал в серебряный бром. Нет их, не появляются, не проявляются даже бромистым серебром. Исчезли бесследные…
А может быть, это первые строки? А может, последние? А может, слова между строк? И надо взять листок и проставить слова в многоточиях? Ну конечно! Загадка проста ведь. Надо просто представить его самого, комнату, стол, одинокость, тоску. Заложить в кибернетику воображения, оживить и пустить, в обращение… Так пятнадцать дней я вкладывал в себя по пустому листку с последней строкою.
И получилось такое.
«Нечто вроде меня»
Ты надо мной (не смей!) не смейся,
если странных слов
несуразную смесь
я приношу тебе вместо
печенья «Смесь»
из слоеного теста.
Эти горстки печатного теста
высыпал я из себя,
как печальные крошки
из пустых бакалейных мешков.
Но не надо смешков
и даже усмешки.
Без особой спешки,
но скоро
я превращусь
в никому не нужный куст у забора
или в несколько букв
с оторванным паспортным фото,
и хотя неохота —
скоро я отлучусь
в тот район, где недавние жители
пребывают без чувств
и в метрических книгах записаны
«выбывшими».
Видишь ли,
настал наконец-то момент,
когда надо оставить взамен
нечто вроде меня.
Пусть, пружиной звеня,
эти буквы подцепит безмен
вопросительным знаком:
зачем?
Ни цены в них, ни веса…
Неизвестно —
зачем
это «нечто вроде меня».
«Никто сказать не может»
Напилено досок,
наковано гвоздей,
наделано столов и полок,
нарыто грядок для семян,
ям для яблонь,
налажен на столе порядок,
накошено травы,
насажено цветов
и сорвано.
И выполото уйма сорного.
Обстругано карандашей семи цветов,
исписано тетрадей без числа,
исхожено полмира мостовых
вдвоем и в одиночестве,
а среди ночи встав,
истоптано паркета, половиц,
пропущено сквозь легкие мильоны кубометров
кислорода,
отведано вина и губ,
наобнято горячих плеч,
увидено такое диво,
как яркий крон восходов, умбра глины,
сажа неба, киноварь цветов,
парижская зелень, берлинская лазурь
и подмосковная сирень.
А сколько выслушано визга пил,
и воздыханья труб,
и сотрясения земли от бомб,
и всякого другого звука, оханья и эха,
и пенья – эх,
разлука ты, разлука!..
А сколько стерто подошв,
а сколько раз шел дождь,
а сколько скомкано снежков
и влеплено в тебя
великолепно,
и найдено на улице подков
(но это в детстве),
а сколько черных кошек перебежало путь,
с последствиями и без последствий,
а сколько было пожато разных рук,
и мягкость их и жесткость,
и пульсацию их жил
забыть моя ладонь не может!
Никто сказать не сможет,
что я не жил.
«Я жив»
Я жив.
Живы ужи.
Южный жук свою воспевает жужжжизнь.
Счастливы молча ежи.
Жизнь,
а ты?
Любишь меня,
страшишься расстаться
с этим цветом волос,
с этим тембром голоса,
с этим типом лица?
Или ты что нашла,
туда и вошла
особо злая,
злая особа,
триста пятьдесят раз в году
тиранящая меня,
угрожая:
– Вот возьму и уйду,
другого найду.
Мало ли вас производят, рожая! —
Или ты вовсе не злая,
а просто не можешь на солнце
смотреть сквозь один и те же глаза,
как крепостная за прялкой
в два близоруких оконца.
Правда же,
однообразно
выходить только ночью во сне!
Кто же высидит в доме
во мне?
Поди удержись,
когда вокруг столько кроме —
ждут тебя, жизнь.
«Нет так нет»
Быть на свете не обязательно.
В сущности, смерть —
возвращение в то,
чем я не был,
то есть ни во что:
ни в землю, ни в небо,
ни в травы, ни в грозы,
ни в березку,
ни в мебель из карельской березы.
Уж это мне переселение душ!
Но я ж не страдал
ни в пещерное время,
ни в эру хождения римских монет,
что меня нет,
я ж не терзался!
Все на земле остается чин чином.
Нет так нет.
Беспокоиться нет ни малейшей причины.
«Бесконечно»
Мирозданье:
конечно,
приятно считать,
что оно не конечно,
и звезды считать и считать…
А если оно и конечно,
и, может быть, цилиндрично
или даже конично —
можно втиснуться
в щель нуклеарных мирков,
там найти себе место
вместо
ящичка на восьмом этаже.
Но это уже
то слепое и вечное нечто,
где одно лишь ничто
бесконечно.
«Только не смейся»
Ты надо мной (не смей!)
не смейся,
если я скажу, что люблю
картину «Святое семейство»,
где собралась простая семья.
Это самое важное в мире открытие,
потому что на ней нарисован и я,
там лежу в деревянном корыте я.
И задумались мудро волхвы.
Я один из них.
Но и плотник Иосиф похож на меня,
я, наверное, им был.
Разве мы не носили такие же нимбы?
Разве мы не имели таких матерей,
равных этой Мадонне?
Кто из нас не был побит
камнями обид?
А укусы псов?
А губка с уксусом?
А гвоздь в ладони?
А солнце разве от боли не меркло,
когда камень бросали, зажав,
в это зеркало мира —
в простое семейство?
Ты только не смейся,
я никакой не ханжа.
«Богатейшая в мире»
Ты, вышедшая,
и ты, вошедшая.
Одна, как будущее,
одна, как прошедшее.
Ты, будничная,
с авоськой из булочной
или держа с картошкой безмен,—
не смейтесь,
я не страдал от ваших измен,
не от них я глотал повторные
снотворные таблетки!
Я страдал от фальшивых зрачков,
превращавшихся в злые планетки,
в голубые и карие,
что лежат в магазинах очков.
Да, в глаза кабинетов учебных пособий,
в плексиглас и фаянс…
Но теперь эта боль улеглась.
В общем, случай особый.
Но смеяться не надо,
что есть у меня только несколько
подлинных взглядов
и богатейшая в мире коллекция
искусственных глаз.
«Давно не дитя»
С любовью не шутят.
А если…
шутят с любовью,
красуясь
пестрой юбкой в кресле?
Не шути,
ощути хоть чуть-чуть,
перед тем как усесться,
что пустячная шутка,
как ускоренная частица, пущенная в путь,
приблизясь к критической массе сердца,
разражается в хохот, и в грохот, и в кризис,
и в гогочущий атомный ад!
Думай —
жизнь не так велика,
ее так легко разбомбить наобум.
Раз – и готово!
(Как и земной шар,
показавшийся таким неогромным
космонавту Титову.)
Это все такое непрочное и небольшое.
Не шути
ни с Землей, ни с душою.
К этим опасным кнопкам
нельзя прикасаться шутя.
Ни с места!
Не смейся!
Ты давно не дитя.
«Делать нечего»
Вчера пчела
прилетела к сосне у дачи,
потом к хвощу.
А у меня все неудачи:
я тащу
и крышу,
которую мучительно крашу,
паутинные снасти со стен,
ремонтирую
отопительную систему.
Я живу в борьбе с одуванчиком,
который сильнее меня и мотыги,
исписываю тетради,
издаю книги.
И все это ради великих праздничных свеч
цветущей сосны,
ради встреч
с вами —
сны, грозы, молнии, лунный диск,
писк комаров, звон пчел, стук кузнечиков.
А без этого мне
в этом лучшем, как пишется, из миров
делать нечего.
«Будущему „я“»
И зубохвостый ящер
мне родня,
и ежевика-ягода
того же поля ягода,
что я.
Мы все из круга жизни,
друг друга эхо:
ягненок,
ядрышко ореховое,
памирский як,
ягель и колос ячменя, —
нас много,
мы все на «я».
И одинокий в небе ястреб,
он тоже кто-то для меня.
Лишь атомные ядра мне чужие, —
они
не умирали и не жили.
Я сам себе не ясен.
Но я,
и язь,
и ясень, —
мы чем-то братья,
есть дальняя, но связь.
И яблоня лепечет:
«Я твоя», —
раскрыв ветвей объятья
и бывшему
и будущему «я».
«Чтобы яблоки были»
У меня нет денег,
и я не хочу их иметь,
не хочу просовывать руку в кассу,
откуда высунут бумажку и медь
на глоток кваса,
на кусок мяса, масла и хлеба,
на право смотреть в небо
еще один день.
Я б предпочел
быть на службе у яблони
ростом с камень,
получать с нее лепестками,
жужжанием свадебных пчел;
я бы почел за счастье
ее белизной освещаться
и рассказывать всем,
что на свадьбе меня не забыли.
Что касается яблок —
я их не ем,
я только люблю,
чтобы яблоки были.
«В одном из снов»
До свиданья, мой лес —
зеленый колонный зал
сосновых и еловых люстр,
что никогда не пуст,
где постоянный бал
ландышей-выпускников,
дубов-подростков
и с гордостью на них глядящих
старых пней.
Мой лес,
с подросшею березкой
и вылезшим на белый свет
грибом под ней,
тебя по плану вырубят
и свалят,
пять мраморных колонн
поставят на асфальт,
повесят десять люстр а-ля метро,
разложат бутерброды и ситро,
начнут торжественное заседание.
Но я сказал нарочно:
«До свиданья», —
мой лес, мой смешанный, сосновый,
распиленный, наколотый,
с тобой я встречусь снова
в одном из снов.
«Нашелся!»
Я не о смерти,
я про жизнь.
Я излагаю се некоторые признаки.
И вы не смейтесь,
как
сотрудники Института атомной физики,
так и астрономы,
сидящие у космических линз.
Чудо – не то, что есть
Южный Крест, Вега,
Альфа звезд и Омега,
и за
Галактикой – Мегамир.
Чудо – просто глаза
с морщинками вокруг них.
Чудо – не то, что есть
мельчайший мирок вращений и превращений,
чудо – только мысль,
лезущая в уже непролазные щели,
которые все уже и уже.
Чудо – не вечность,
чудо – век,
чудо – утром проснуться
и коснуться заспанных век.
Чудо – в гортани дрожание голоса.
Чудо – кто первый —
сердце на стол?
Чудо – Эврика!
Чудо – Нашел!
Чудо – что сам на свете нашелся.
«При всех»
И вы не смейтесь,
что я не Торквато Тассо
и не Джон Мильтон;
я исполнитель кувырканий и выкрутасов,
пока не прогнали метлой
с окурками и обертками.
Жил,
как бедный циркач,
всю жизнь качавшийся в попугайском кольце;
у меня был нарисован смех на плач
синими треугольниками на лице
и панталоны с оборками.
С рук – на ноги,
с ног – на руки,
а вокруг —
сколько помню себя —
заколдованный бархатный крут
горизонта;
ливень льют на меня,
аплодисменты и смех,
я без зонта,
продрогший и мокрый
при всех.
«Прощайте»
Есть будничное слово
вокзальное «прощайте».
Есть проповеди крик:
«Прощайте ближнему его грехи!»
Бывают о прощении
прошенья.
И есть стихи, где пишется «прощайте»
для украшенья.
Но я прошу вас, вы не упрощайте
слова прощанья
и прощенья.
Прощаясь, искренне прощайте.
Пока нет средств для возвращенья —
прощайте!
«Однажды завтра»
Ультрасинее утро.
Мир продолжает вести свой дневник.
А мы —
как страницы, что вырваны
из зеленых и солнечных книг
и остались одни
оглавления
в домоуправлениях
вместо них.
Но там,
где мы числимся «выбывшими»,
вписаны
вы – бывшие мы.
Вы (как некогда мы)
про себя говорящие:
«Мы».
Ты усмешкою сердце мне
не щеми.
Там имеются также и я
(как некогда я)
говорящие:
«Я» —
про себя.
Оглянись,
там
один из будущих я,
роясь по букинистам,
обнаружил пустой переплет
затесавшийся между томами
Дюма или Сартра,
без страниц, без заглавья, без автора…
Прыгает с восьмого этажа,
бежит по проспекту, размахивая бумагою,
кричит:
– Товарищи, это ж я!
Я нашелся
однажды завтра!
***
Вот и все.
А теперь, когда книга закончена и автор ее восстановлен, я могу заняться чем-нибудь новым, другим. Может быть, под заглавиями раньше стояли другие слова и кое-что из нюансов неясно. Но я ничего не солгал. Это главное. Главное – создано нечто потерянное. А теперь оно есть. И можно прочесть, и как будто все так и было. И так он и выглядит – этот. Вот что я предлагаю как метод возобновления людей, которых давно уже нет. Так может сделать каждый поэт – вернуть ушедших любимых, забытых, зарытых в зеленых просторах. Теперь это проще простого. Нужно только помнить, что мы не одни, что были они. Что в одних мы кончаемся, а в других начинаемся снова. И последнее слово: нельзя, чтобы кто нибудь умер совсем.
Теперь я покончил со всем, и не требуется добавления. Осталось одно: написать оглавление.
Вот оно…
БОЛЬНИЧНАЯ ТЕТРАДЬ (1964–1972)
Больничный сон
Сп —
ичка,
спи —
ртовка,
шприц
с па —
нтапоном…
Спи, усни,
плыви через песчано-пустынные Спи
в спокойную теплую Сплю.
И пусть за спи —
нкой кровати
стоит полнейшая Спишь.
Бессонница заперта на крючок
в бессонно урчащей уборной.
Сплю —
щив подушку, сплю
спущенною рукою
в Снись.
Сон – слон, десять слонов, сто слонов, сон – складчатокожее, огромнокаменное многослоновье, сон – огромноокое глазоухощеконосодышащее
сплю
на подушечной отмели снов,
и глаза мои сонные спящерицы.
Сплю без просьбы, сплю без просыпа,
сплю, как спит, вздыхая, госпиталь
и – кто доктора, кто господа…
Сплю, как чумные селения
спят и видят исцеление.
Сплю, как спят дубы столетние
перед рубкой. Как, по-заячьи,
никаких забот не знающие,
спят в сугробах замерзающие.
«Привет!»
Человек
ест чебурек.
Ножа вонзает лезвиеце.
Чебурек разрезывается,
и чебурека нет.
«Привет!»
Человек
кричит о помощи!
Карета Скорой помощи.
Раз!
В живот вонзают лезвиеце,
и человек раз —
резывается.
Два!
И человека нет.
«Привет!»
В разрезе
Разрез по животу – живой разрез.
Рез – раз!
Раз! – улей, топором разрубленный,
судороги
обезглавленных и обескрыленных пчел.
Раз —
рушенный бомбардировкой дом,
где изразцы висят в разрезе.
Рез —
екция живого и дышащего мяса,
резинки мышц и нервов,
разгромленные витражи соборов,
разрезанные автогеном рельсы,
разбитые шпалы,
резкие визги разодранного железа,
развод, разрыв, разлад,
разрез.
Соседняя койка
Забывается все,
забывается…
Мозг шумит
о пропаже и краже,
забывается,
даже
как гвоздь забивается.
Забывается
где и когда?
И как мышь от кота
в уголок забивается,
и как пылью
часов механизм забивается,
забывается с кем и при ком?
И как стонущий вол
мясником забивается
для жарких и приправ…
Забывается все —
и, к подушке припав,
умирающий
сном забывается.
Окно
Окно.
Оно мое единственное око.
Окружность неба.
Окаймленность мира.
Оконной рамы окающий рот.
Околыш крыши над палатой.
Окраска охрой.
Оконченность всего.
Окно!
Открытое
на оконечности материков!
На окороченности времени-пространства!
На окружную шоссейную дорогу,
где около околиц
катятся на буквах О —
колонны грузовиков!
Окидывать их взором.
Окрашиваться цветом зарев,
Окапывать далекие деревья.
Окольцовывать летящих горлиц.
Падая лицом на подоконник.
околевать
на пустырях окраин.
Окно!
О, как величественно чудо
единственного для меня пейзажа!
Окраины окроплены туманом!
Об окна трутся клены!
О кроны их,
о корни!
Облака окатывает океан небес.
О, окно!
Пока ты около —
мне
не
одиноко.
Боль болей
Боль больше, чем бог,
бог – не любовь, а боль.
Боль, созидающая боль
и воздвигающая боль на боль.
Боль болей – бог богов.
(Боль простит.)
(Боль подаст.)
(Боль – судья.)
Боль – божество божеств.
Ему, качаясь, болишься,
держась за болову,
шепча болитвы:
– Боже боли!
Или или лама савахфани?
(На кого ты оставил мя, Госпиталь?)
Да свершится боля Твоя.
Никударики
Время тянется и тянется,
люди смерти не хотят,
с тихим смехом: «Навсегданьица!»
никударики летят.
Не висят на ветке яблоки,
яблонь нет, и веток нет,
нет ни Азии, ни Африки,
ни молекул, ни планет.
Нет ни солнышка, ни облака,
ни снежинок, ни травы,
ни холодного, ни теплого,
ни измены, ни любви.
Ни прямого, ни треуглого,
ни дыханья, ни лица,
ни квадратного, ни круглого
ни начала, ни конца.
Никударики, куда же вы?
Мне за вами? В облака?
Усмехаются: – Пока живи,
пока есть еще «пока».
«Опять пуста скамья…»
Опять пуста скамья,
опять закат лиловат,
и перед всеми я
кругом-кругом виноват.
Опять пустует сад,
где осень ждет конца,
лишь два листка висят,
как высушенные сердца.
Одних – не так любил
и разобидел их,
одними – не понят был,
не понял сам – других.
А если – подход не тот?
И не велика вина?
Но жизнь – как этот вот
пустой стакан вина.
Отец
Мне снилось, что я – мой отец,
что я вошел ко мне в палату,
принес судок домашних щец,
лимон и плитку шоколаду.
Жалел меня и круглый час
внушал мне мужество и бодрость,
и оказалось, что у нас
теперь один и тот же возраст.
Он – я в моих ногах стоял,
ворча о методах леченья,
хотя уже – что он, что я
утратило свое значенье.
«Хоть бы эту зиму выжить…»
Хоть бы эту зиму выжить,
пережить хоть бы год,
под наркозом, что ли, выждать
свист и вой непогод,
а очнуться в первых грозах,
в первых яблонь дыму,
в первых присланных мимозах
из совхоза в Крыму.
И в саду, который за год
выше вырос опять,
у куста, еще без ягод,
постоять, подышать.
А когда замрут навеки
оба бьющихся виска,
пусть положат мне на веки
два смородинных листка.
Строки в скобках («Жил-был я…»)
Жил-был – я.
(Стоит ли об этом?)
Шторм бил в мол,
(Молод был и мил…)
В порт плыл флот.
(С выигрышным билетом
жил-был я.)
Помнится, что жил.
Зной, дождь, гром.
(Мокрые бульвары…)
Ночь. Свет глаз.
(Локон у плеча…)
Шли всю ночь.
(Листья обрывали…)
«Мы», «ты», «я»
нежно лепеча.
Знал соль слез.
(Пустоту постели…)
Ночь без сна
Сердце без тепла —
гас как газ
город опустелый.
(Взгляд без глаз,
окна без стекла.)
Где ж тот снег?
(Как скользили лыжи!)
Где ж тот пляж?
(С золотым песком!)
Где тот лес?
(С шепотом – «поближе».)
Где тот дождь?
(«Вместе, босиком!»)
Встань. Сбрось сон.
(Не смотри, не надо…)
Сон не жизнь.
(Снилось и забыл.)
Сон как мох
в древних колоннадах.
(Жил-был я…)
Вспомнилось, что жил.
«Уже светает поздно…»
Уже светает поздно,
холодноват рассвет.
Уже сентябрь опознан
в желтеющей листве.
Не молят о пощаде,
дрожа перед судьбой,
а шепчутся «прощайте»
цветы между собой.
Ответ
Хотя финал не за вершиною —
да будет жизнь незавершенною,
поконченной, несовершенною,
задачей, в целом не решённою.
Пусть, как ковер из маргариток,
без сорняков и верняков —
ждет на столе неразбериха
разрозненных черновиков.
И стол мой письменный – не дот,
и кто захочет – пусть берет.
Он календарь на нем найдет
с делами на сто лет вперед.
Жить мне хотелось на пределе —
с отчаяньем в конце недели,
что вновь чего-то недоделал,
что воскресенье день без дела.
И не спешил сдавать в печать,
а снова – новое начать.
Поэтому между поэтами
заметят: «Был богат проектами»
В числе лужаек не докошенных,
в числе дорожек незахоженных —
пусть я считаюсь незаконченным
и в том не вижу незаконщины!
Я не желаю жить задами
воспоминаний дорогих,
но кучу планов и задании
хочу оставить для других.
Беритесь – не страшась потерь.
А я – вне времени – теперь.
Возвращение
Я год простоял в грозе
расшатанный, но не сломленный.
Рубанок, сверло, резец —
поэзия, ремесло мое!
Пила! На твоей струне
заржавели все зазубрины,
бездействовал инструмент
без мастера, в ящик убранный.
Слова, вы ушли в словарь,
на вас уже пыль трехслойная.
Рука еще так слаба —
поэзия, ремесло мое!
Невыстроенный чертог
как лес, разреженный рубкою,
желтеющий твой чертеж
забытою свернут трубкою.
Как гвозди размеров всех
рассыпаны краесловия.
Но как же ты тянешь в цех —
поэзия, ремесло мое!
К усталым тебя причли,
на койках бока отлежаны,
но мысли уже пришли
с заказами неотложными.
Хоть пенсию пенсий дай —
какая судьба тебе с ней?
Нет, алчет душа труда
над будущей Песнью Песней!
Не так уже ночь мутна.
Как было всю жизнь условлено —
буди меня в шесть утра, —
поэзия, ремесло мое!