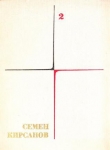Собрание сочинений. Том 1. Лирические произведения

Текст книги "Собрание сочинений. Том 1. Лирические произведения"
Автор книги: Семен Кирсанов
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 9 страниц)
СТОН ВО СНЕ (1937–1939)
«Сказали мне…»
Сказали мне, что я стонал
во сне.
Но я не слышал, я не знал,
что я стонал во сне.
Я не видал ни снов, ни слов
я не слыхал – я спал, —
без сновидений сон.
Товарищ утром мне сказал,
что слышал долгий стон,
как будто больно было мне —
так я стонал во сне.
Да, все, что сдерживалось днем
затихшее в быту дневном,
уже давно не боль,
не рана, а спокойный шрам,
рубец, стянувшийся по швам, —
а что для шрама соль?
Да! Я забыл луга в цвету
и не стонал о ней, —
я стал считать ту,
что любил,
почти любовью детских дней.
Но если б знали вы —
как это все взошло со дна,
очнулось смутной раной сна
и разошлось, как швы.
Но я не видел ничего
во сне. Я спал без снов.
Товарищ в доме ночевал,
и это я узнал со слов…
Как мог таким я скрытным стать
и спрятать от себя
боль и бездумно спать?
Но боль живет, и как ни спишь,
и как ни крепок сон,
какую б ночь ни стлала тишь —
все слышит, знает стон,
все помнит стон, он не забыл
ту, что бессонно я любил
в дали ушедших дней,
стон мне напоминал о ней,
чтоб днем не больно было мне,
чтоб я стонал во сне.
Случай с телефоном
Жил да был Телефон
Телефонович.
Черномаз целиком,
вроде полночи.
От него провода
телефонные,
голосами всегда
переполненные.
То гудки, то слова
в проволоке узкой,
как моя голова —
то слова, то музыка.
Раз читал сам себе
новые стихи я
(у поэта в судьбе
есть дела такие).
Это лирика была,
мне скрывать нечего —
трубка вдруг подняла
ухо гуттаперчевое.
То ли ловкая трель
(это, впрочем, все равно), —
Телефон посмотрел
заинтересованно.
Если слово поет,
если рифмы лучшие,
трубка выше встает —
внимательней слушает.
А потом уж – дела,
разговоры длинные…
А не ты ли была
в те часы на линии?..
Нет Золушки
Я дома не был год. Я не был там сто лет.
Когда ж меня вернул железный круг колес —
записку от судьбы нашел я на столе,
что Золушку мою убил туберкулез.
Где волк? Пропал. Где принц? Исчез. Где бал? Затих.
Кто к Сказке звал врача? Где Андерсен и Гримм?
Как было? Кто довел? Хочу спросить у них.
Боятся мне сказать. А все известно им.
Я ж написал ее. Свидетель есть – перо.
С ней знался до меня во Франции Перро!
И Золушкина жизнь, ее «жила-была» —
теперь не жизнь, а сон, рассказа фабула.
А я ребенком был, поверившим всерьез
в раскрашенный рассказ для маленьких детей.
Все выдумано мной: и волк, и дед-мороз…
Но туфелька-то вот и по размеру ей!
Я тоже в сказке жил. И мне встречался маг.
Я любоваться мог хрустального горой.
И Золушку нашел… Ищу среди бумаг,
ищу, не разыщу, не напишу второй.
Четыре сонета
1
Сад, где б я шил, – я б расцветил тобой,
дом, где б я спал, – тобою бы обставил,
созвездия б сиять тобой заставил
и листьям дал бы дальний голос твой.
Твою походку вделал бы в прибой
и в крылья птиц твои б ладони вправил,
и в небо я б лицо твое оправил,
когда бы правил звездною судьбой.
И жил бы тут, где всюду ты и ты:
ты – дом, ты – сад, ты – море, ты – кусты,
прибой и с неба машущая птица,
где слова нет, чтоб молвить: «Тебя нет», —
сомненья нет, что это может сбыться,
и все-таки – моей мечты сонет
2
не сбудется. Осенний, голый сад
с ней очень мало общего имеет,
и воздух голосом ее не веет,
и звезды неба ею не блестят,
и листья ее слов не шелестят,
и море шагу сделать не посмеет,
крыло воронье у трубы чернеет,
и с неба клочья тусклые висят.
Тут осень мне пустынная дана,
где дом, и куст, и море – не она,
где сделалось утратой расставанье,
где даже нет следа от слова «ты»,
царапинки ее существованья,
и все-таки – сонет моей мечты
3
опять звенит. Возможно, что не тут,
а где-нибудь – она в спокойной дреме,
ее слова, ее дыханье в доме,
и к ней руками – фикусы растут.
Она живет. Ее с обедом ждут.
Приходит в дом. И нет лица знакомей.
Рука лежит на лермонтовском томе,
глаза, как прежде карие, живут.
Тут знает тишь о голосе твоем,
и всякий день тебя встречает дом,
не дом – так лес, не лес – так вроде луга.
С тобою часто ходит вдоль полей —
не я – так он, не он – твоя подруга,
и все-таки – сонет мечты моей
4
лишь вымысел. Найди я правду в нем,
я б кинул все – и жизнь и славу эту,
и странником я б зашагал по свету,
обшарить каждый луг, и лес, и дом.
Прошел бы я по снегу босиком,
без шапки по тропическому лету,
у окон ждать от сумерек к рассвету,
под солнцем, градом, снегом и дождем.
И если есть похожий дом такой,
я к старости б достал его рукой:
«Узнай меня, любимая, по стуку!..»
Пусть мне ответят: «В доме ее нет!»
К дверям прижму иссеченную руку
и допишу моей мечты сонет.
Письмо без адреса
Первое
Я всю ночь писал письмо,
все сказал в письме.
Не писать его не смог,
а послать – не смел.
Я писал письмо всю ночь,
в строки всматривался,
только нет на свете почт
для такого адреса.
Если б я письмо послал —
что слова на ветер.
Той, которой я писал,
нет на свете.
Второе
А я кораблик сделал
из письма,
листок бумаги белой
сложил, не смял.
И в уйму светлых капелек
пустил по реке:
«Плыви, плыви, кораблик,
к ее руке».
А вдруг она на пристани,
спеша домой,
заметит издали
бумажный мой…
Но я боюсь – бумажный
потонет, протечет,
и строки очень важные
она не прочтет.
Третье
А я письмо переписал,
и все сказал в письме я,
и сделал – бросил в небеса
воздушного змея.
«Лети, лети, почтовый змей,
пусть туча не догонит,
но где-то в мире встреться с ней
и дайся ей в ладони».
Но я боюсь – сверкнет гроза
зарницами и зорями, —
и где лежит, и что сказал
мой бедный змей изорванный?
Четвертое
А я, не смыкая глаз,
до рассвета сизого,
буду много, много раз
письмо переписывать.
По улицам, по шоссе,
у вокзальной башенки —
буду класть его во все
почтовые ящики,
вешать его на дубы,
клеить его на клены,
на стены и на столбы,
на окна и колонны.
Последнее
Я пришел, и знать не знал,
ведать не ведал,
и во сне не видел сна,
и не ждал ответа.
А пришел, подумал только:
«Вот пришел бы ответ»,—
лишь подумал и со столика
поднял конверт.
Я узнал любимый почерк,
ее руку около,
завитки знакомых строчек,
волосики с локона.
А написано в письме
голосом в тиши:
«Ты искать меня не смей,
писем не пиши.
Я ушла навеки – надолго
и не в близкий путь,
не пиши и не надо,
лучше забудь.
И не надо змеев по небу
и листков на столбы, —
я прошу тебя: кого-нибудь
найди, полюби…»
А страницы в пальцах тают,
не дочитан ответ,
я еще письмо читаю,
а письма уже нет.
Завитки любимых строчек
ищут глаза еще,
но меж пальцев только почерк,
и то – исчезающий.
Воспоминание
Тихое облако в комнате ожило,
тенью стены свет заслоня.
Голос из дальнего, голос из прошлого
из-за спины обнял меня.
Веки закрыл мне ладонями свежими,
розовым югом дышат цветы…
Пальцы знакомые веками взвешены,
я узнаю: да, это ты!
Горькая, краткая радость свидания;
наедине и не вдвоем…
Начал расспрашивать голос из дальнего:
– Помнишь меня в доме своем?
С кем ты встречаешься? Как тебе дышится?
Куришь помногу? Рано встаешь?
Чем увлекаешься? Как тебе пишется?
Кто тебя любит? Как ты живешь?
Я бы ответил запрятанной правдою:
мысль о тебе смыть не могу…
Но – не встревожу, лучше – обрадую.
– Мне хорошо, – лучше солгу.
Все как по-старому – чисто и вымыто,
вовремя завтрак, в окнах зима.
Видишь – и сердце из траура вынуто,
я же веселый, знаешь сама.
Руки сказали: – Поздно, прощаемся.
Пальцы от глаз надо отнять.
Если мы любим – мы возвращаемся,
вспомнят о нас – любят опять.
ПОСЛЕДНЕЕ МАЯ
Поэма (1939)
Еще рано
Коврик игрушек у белой стены,
деревянная лошадь
и сын,
где прозрачная память мерещит
стол
безнадежных стаканов и склянок.
А ему еще утро,
ему еще рано.
Раскладные деревни.
Составные зверьки.
Смотрит сын,
где туманная память ставит кровать
и из воздуха лепит
ее успокоенное лицо.
А ему еще рано,
ему еще не устроен
в комнате угол для горя.
Кустарную сказку про деда и бабу
слушает сын
в том углу, где, в марлевой маске, руками,
омытыми спиртом (маленького не заразить!),
волосики трогала, закрытая марлей до глаз.
А ему еще рано,
ему еще детство —
писать и читать.
Еще слишком хорошее рано —
перелистывает эту тетрадь.
Ты еще дома
У меня есть ты,
у тебя есть всё.
И руки, которыми я столько наобнят,
глаза, в которых
дважды я.
Боль в горле есть.
Есть русые смешным пучком.
Ну, в общем
всё…
Да, у тебя есть целый стол
лекарств.
Ты
есть
у комнаты.
Есть сын,
и есть у маленького
на постели мама.
Есть между нами разговор,
что в коммунизме
любимые болеть не будут.
Вот я и говорю:
– Лежи спокойно,
у тебя есть все, чтоб вылечиться
(все, кроме легких),
все!
Она и карта
Она смотрела
на карту Испании,
потом на меня,
потом на Испанию.
Там был черным и красным вычерчен
фронт
рваной дугой, с ужасною раной
университетского городка.
– Знаешь, – посмотрела она, —
это так похоже на мое горло.
(Измученный бомбежкой Мадрид,
где беженцы спят в сводчатой
глотке подвала.)
Вот уже четверо суток
ничего не глотает,
ее оцепили молодчики Тбц.
Четверо суток
она не смотрит
ни на карту, ни на меня:
– Мне сегодня
очень плохо,
очень больно
(показывая на горло)
в Испании.
Я стою у кровати
Уже температура
не в силах
подняться до нормы:
потянется лестничкой – упадет,
потянется —
упадет,
потянется…
А сердце
все еще трудится
сторожем забытого беженцами дома.
Окна разбиты,
нет никого!
А оно (сердце)
стучит по опустелому телу:
Тут пульс,
тут
виски,
тук,
тук, —
старается – служба.
А в доме нет никого.
Ее
дома нет.
Ее неузнанные мысли
Последние ночи
перед концом
она говорила:
– Пойди
пройдись, проветрись, пройдись.
Итожа жизнь,
я недосчитываюсь тех минут,
прикидываю в уме:
как много
минут, уйму минут
растратил я, плача по улицам.
Я уходил в свою комнату
что-то писать,
я смел спать, – а ты ожидала без сна,
с неузнанными мыслями,
с не сказанными
мне
словами!
Если подсчитать,
получится столько минут —
на целые сутки жизни с тобой!
Минуты! Минуты!
С ее покорным и нежным
лицом,
с неузнанными мыслями,
с глазами,
где тоже остались только минуты.
А в комнате рядом
ты
неузнанно думала:
«Он пошел, он пройдется,
на несколько пустяковых минут отдохнет,
по воздуху, бедный,
немного минуток походит,
пусть хотя бы
полночки поспит,
я еще за эти сутки не умру».
Возвращения
Я уношу из дому
то шкаф,
то платье,
то синие флаконы
твоих духов,
то голос: «Здравствуй, родненький!» —
все уношу из дому.
Приходит ночь, и память
все расставляет на прежние места.
Я уношу из памяти:
забыть!
Забыть глядящие в меня глаза,
гладящие меня ладони
и голос: «Здравствуй, родненький!»
Приходит ночь,
и сон
все расставляет на прежние места.
Я уношу себя из дому
на улицу,
но думаю:
«Ты там,
пришла
и удивилась:
Где шкаф?
Где платье?
Где синие флаконы
моих духов?
Где голос: „Здравствуй, родненький?“ —
и все расставляешь на прежние места».
Это пройдет
Умерла бы ты
позже лет на сто,
я б знал кропотливые возможности науки.
Я б знал,
что будущего фантастический хирург
из первой желающей девушки
сделал бы вновь тебя.
По точным приборам
высчитав
кожу и голос —
из института похожих
вышла бы
абсолютная ты.
Сначала не совпадут воспоминания —
и это исправит
будущего фантастический хирург.
Детство умершей
ей внушено,
а в легких сделай для полного сходства
небольшой, безопасный
туберкулез.
Уверен,
при таком состоянии
желающая девушка бы нашлась,
вошла бы чужая,
а вышла бы абсолютно ты.
И, может быть, вправду
в фантастическом будущем
не за меня – за другого
выйдет
абсолютная ты.
Я не такой себялюбец —
лишь бы ты.
Наш сын
Медсестра говорит:
– Ваш сын похож
на вас,
вылитый вы.
Медсестра не знает,
что ею заколеблен мостик надежды
через десять лет
узнавать
в мальчишеских бровях, усмешке,
в чем-то еще – во всем! —
ее,
ее,
потерянную ее;
мостик надежды,
на котором готов простоять десять лет
вылитый я.
Сын со мной
Папироса бяка,
не бери!
Спичка бяка, ножницы бяка,
это еще не очень страшные бяки,
но не бери.
Я еще живу
среди жадных и себялюбивых бяк.
Пока ты вырастешь,
самые страшные бяки вымрут
и, кроме папирос и спичек,
останется очень мало бяк.
Сын и вокруг
Ты племянник всего.
Вчера я гордился,
что ты меня
назвал
«дядя».
Сегодня ты дядей назвал карандаш.
Сказал очкам
«дядя».
У тебя оказалось множество дядь:
дядя Лампа,
дядя Лошадь,
дядя Няня,
дядя Каша
и даже дядя Музыка Граммофона.
Ничего, ничего,
это неплохой мир,
где окружают тебя многойчисленные
и разнообразные дяди.
Без нее
Когда ребенок
умеет
сделать «ма»
и потом еще одно «ма» —
это не значит,
что он обращается к матери.
Просто так сложилось губам,
просто из внезапно открытых губ у детей
получается
«ма!»
И это не требование,
не вопрос,
не укор
мне,
не умеющему привести к нему «ма»
и второе «ма»,
обнимающее его,
как мама.
Это останется
Но ведь та вода,
что она подымала в ладонях умыться, —
сейчас
или в круглом облако,
или в подпочвенных каплях,
или в травниках.
И ведь та земля,
где она ступала,
и любила
первомайскую площадь,
та земля
или сверкает в росе,
или подернута
смолистым гудроном,
или у тети Мани в цветочном окне,
где герань и алоэ.
Но ведь и воздух,
надышанный ею,
тоже где-нибудь служит
нуждающимся травинкам!
Я точно знаю —
ее
нет.
Но мир-то как-то ею затронут?
Я целую твой розовый пропуск
с гербом
на трибуну
нашего
1-го,
твоего последнего
Мая.
СОРОКОВЫЕ ГОДЫ (1940–1945)
Предчувствие
К Земле подходит Марс,
планета красноватая.
Бубнит военный марш,
трезвонит медь набатная.
В узле золотой самовар
с хозяйкой бежит от войны;
на нем отражается Марс
и первые вспышки видны.
Обвалилась вторая стена,
от огня облака порыжели.
– Неужели это война?
– Прекрати повторять «неужели»!
Неопытны первые беженцы,
далекие гулы зловещи,
а им по дороге мерещатся
забытые нужные вещи.
Мать перепутала детей,
цепляются за юбку двое;
они пристали в темноте,
когда случилось роковое.
А может быть, надо проснуться?
Уходит на сбор человек,
он думает вскоре вернуться,
но знает жена, что навек.
На стыке государств
стоит дитя без мамы;
к нему подходит Марс
железными шагами.
Волна войны
Включаю на волне войны
приемник свой…
И мне слышны, и мне видны
бои у Западной Двины,
гул над Москвой…
Войной изрытые поля
обожжены,
орудья тянутся, пыля,
и вся контужена земля
волной войны.
В моей душе – разряд, разряд!
Гром батарей…
Как поезд, близится снаряд,
гудит обвалом Сталинград
в душе моей…
Трясется в пальцах пулемет…
Разряд… разряд…
Гастелло огненный полет,
и крик Матросова: «Вперед!»,
и Зои взгляд.
Волна контузит, накренит,
отбросит в рок,
а если встанешь – распрямит,
в воронку боя, как магнит,
потянет вновь.
Не выключай! Все улови!
Сумей вместить
и губы раненых в крови,
и шепот медсестры: – Живи! —
и просьбу: – Пить!
Но я тревожусь: слышу все ль
в разрядах гроз,
персты свои влагая в боль,
губами осязая соль
прощальных слез?
В печах Майданека, в золе
тел и берез,
в могилах с братьями в земле,
на хирургическом столе,
ловя наркоз?
И не приемник – вся душа
сама собой,
дыханием бойцов дыша,
волнуясь, падая, спеша, —
уходит в бой.
В селе за Западной Двиной,
в углу страны,
в воронке, от золы седой,
не молкнет принятая мной
волна войны…
Ополченец
Жил Рыцарь Печального Образа,
рассеянный, в полусне.
Он щурился, кашлял и горбился
в толстовке своей и пенсне.
Он Даму любил по-рыцарски
и ей посвятил всю жизнь;
звалась она – исторический
научный материализм.
Дети кричали: «Папочка!» —
его провожая в путь;
в толстовке и стоптанных тапочках
пришел он на сборный пункт.
С винтовкой шел, прихрамывая,
и тихо шептал под нос
цитаты из Плеханова
и Аксельрод-Ортодокс.
Он ввек ни в кого не целился,
ведя лишь идейный бой,
и томик Фридриха Энгельса
на фронт захватил с собой.
Навстречу железному топоту
молодчиков из «СС»
в толстовке и тапочках стоптанных
вошел он в горящий лес.
Он знал, что воюет за истину
чистейших идей своих;
имея патрон единственный,
он выстрелил и затих.
И принял кончину скорую.
И отдал жизнь за свою
Прекрасную Даму Истории
в неравном, но честном бою.
Боец
Жил да был боец один
в чине рядового,
нешутлив и нелюдим,
роста небольшого.
Очи серой синевы,
аккуратный, дельный.
А с бойцами был на «вы»,
ночевал отдельно.
Автомат тяжелый нес,
две гранаты, скатку,
светлый крендель желтых кос
убирал под каску.
А бойцы вослед глядят
и гадают в грусти:
скоро ль девушка-солдат
волосы распустит?
Но ни скатки, ни гранат
за нее не носят
и, пока идет война,
полюбить не просят.
Но бывает – вскинет бровь,
всех людей взволнует,
и ни слова про любовь, —
здесь Любовь воюет!
Творчество
Принесли к врачу солдата
только что из боя,
но уже в груди не бьется
сердце молодое.
В нем застрял стальной осколок,
обожженный, грубый.
И глаза бойца мутнеют,
и синеют губы.
Врач разрезал гимнастерку,
разорвал рубашку,
врач увидел злую рану —
сердце нараспашку!
Сердце скользкое, живое,
сине-кровяное,
а ему мешает биться
острие стальное…
Вынул врач живое сердце
из груди солдатской,
и глаза устлали слезы
от печали братской.
Это было не поз можно,
было – безнадежно…
Врач держать его старался
бесконечно нежно.
Вынул он стальной осколок
нежною рукою
и зашил иглою рану,
тонкою такою…
И в ответ на нежность эту
под рукой забилось,
заходило в ребрах сердце,
оказало милость.
Посвежели губы брата,
очи пояснели,
и задвигались живые
руки на шинели.
Но когда товарищ лекарь
кончил это дело,
у него глаза закрылись,
сердце онемело.
И врача не оказалось
рядом, по соседству,
чтоб вернуть сердцебиенье
и второму сердцу.
И когда рассказ об этом
я услышал позже,
и мое в груди забилось
от великой дрожи.
Понял я, что нет на свете
выше, чем такое,
чем держать другое сердце
нежною рукою.
И пускай мое от боли
сердце разорвется —
это в жизни, это в песне
творчеством зовется.
Фронтовой вальс
Долго не спит фронтовое село,
небо черно, и тропу замело,
зарево запада,
школа не заперта,
в валенках вальс танцевать тяжело.
На топчане замечтал баянист
о перезвоне девичьих монист,
водочка выпита,
стеклышко выбито,
ветер сорвал маскировочный лист.
Кружится девушка – старший сержант
трудно на холоде руки держать,
«юнкерсы» в туче
воют тягуче,
за горизонтом пожары лежат.
Битые окна лицо леденят,
девушку в танце ведет лейтенант,
истосковался,
хочется вальса
в мраморном глянце лепных колоннад.
(В мраморном зале, у белых колонн,
в звоне хрустальном за белым столом,
в шелесте кружев
кружит и кружит,
голову кружит у школьницы он.
Десять учительниц смотрят на них,
розовый бант, кружевной воротник…)
Вдруг – не бывало
школьного бала —
парень с баяном замолк и поник.
Крепкие стены из крупных тесин,
за маскировкой – рассветная синь,
школа не топлена,
пили не допьяна,
в гильзе снарядной погас керосин.
Вот и расходимся темной тропой,
дым фиолетовый встал над трубой;
может, не сбудется
то, что почудится, —
но не забудется вальс фронтовой.
ЭДЕМ
Поэма (1945)
Предисловие
Ты, если болен, положись на бред.
Не охлаждай свой жар литературой.
Горишь? – гори и, если лоб нагрет,
живи с высокою температурой.
Уверен будь, что бред не подведет,
ни слова лжи горячка не прибавит,
и здравый смысл в палату не войдет
и не поправит сбившийся алфавит.
Болел одной горячкою души
с Землею, воспаленной и недужной?
Так не спеши с упреком, а реши:
переболеть, чтоб выздороветь, нужно.
Ты, плача, расстаешься, но идешь,
познав, что несть из мертвых воскресенья;
ты чувствуешь не собственную дрожь,
а зыбь всемирного землетрясенья.
Все кратеры растрескались, дымя,
дома стоят с контуженными лбами,
когда вулкан поблизости – земля
и та не может жить без колебаний!
Ты врезывался словом и мечом
в стальные груди панцирного Ада?
Ты ощущал болезненным плечом
удары в сердце, как толчки приклада?
Ты на передней линии полей,
твоя душа изрыта и кровава?
Так погружайся в обморок, болей!
Боец на боль приобретает право.
Не охлаждай свой жар, горишь – три!
Вот так оставь нетронутыми строки,
а если есть табак – перекури
рецензии, намеки и упреки.
Поберегись резинкою стирать
и подчищать своей души тетрадь.
1
И губ мы еще не успели, не отняли,
и будущность не загадали свою,
и мы еще не были вместе на отмели,
где место себе присмотрели в Раю.
Еще я смотрелся в два утренних глаза,
семь дней от Начала еще не прошли,
еще мы не слышали Трубного Гласа
и первую сводку еще на прочли.
Еще не по карточкам куплено яблоко,
еще мы острим о библейском Уже,
еще продолжается райская ярмарка —
мгновение между «еще» и «уже».
Газеты еще довоенные изданы,
мы в поезде знать не могли ни о чем —
что мир раздвоился, что мы уже изгнаны,
что нас уже огненным гонят мечом.
Мы точно к бомбежке в гостиницу прибыли,
в начищенный бархатный Бронзовый Век,
и стены задвигались, окна запрыгали,
увидя Железного Века набег.
Без отдыха в небе, на бреющем бешенстве,
до Вязьмы нас гнал ополчившийся Ад.
Так мир, начинавшийся мифом о беженцах,
за темой изгнанья вернулся назад.
Взвывая, носился бензиновый двигатель
за локомотивом на полных парах, —
по изгнанных – Еву с Адамом – при выходе,
как нас, не бомбил Человеческий Враг.
2
Все на белом свете разъезжаться стало.
Поднялись и едут. Встали и идут.
Пастухи уводят золотое стадо,
потому что надо воевать и тут.
Мы еще не видим ни крестов, ни свастик,
духотой вокзалов задышал июль.
Темнотой летит фугасный головастик
в розовый фонтан трассирующих пуль.
Племя пулеметов странно и треного.
Небо тяжко дышит голосом чужим.
Говорит домам воздушная тревога,
что не мы на тучах дышим и жужжим.
К зареву состав подвозит новобранцев.
Появились ночи из других планет.
По краям Москвы стоят протуберанцы.
Погреб ждет рассвета, а рассвета нет.
Крыша бьет багром термических тритонов,
с чувством отвращенья отшвырнув в ведро.
Сына в одеяле понесла Мадонна
в первый Дантов круг по лестнице метро.
Я записан тоже в легион защитных.
Наискось по сердцу боевой ремень.
И в кармане слева в ладанку зашитый
лепесток на память и про черный день.
Спрятан и засушен лепесток Эдема.
Говорят, спасает от немецких пуль.
Но в теплушке, здесь, любовь уже не тема,
как уже не лето – фронтовой июль.
3
Этот страшный август – отче наш, прости! —
я сравню с началом светопреставленья.
В небе появились желтые кресты
с черными крестами – в лето отступленья.
Только мы входили в незнакомый лес,
в затемненье сосен, жаром обагренных,
сразу рыли щели, чтобы гнев небес
не настиг бы смертью нас, непогребенных.
Август, я поверил в воплощенный Ад,
в свист нечистой силы, медленный и тонкий,
и в геенне взрыва умирал снаряд,
нам высвобождая логово воронки.
Я узнал за август зыблемость земли,
и во время этой восьмибалльной тряски —
среднеевропейские медные шмели —
сплющивались пули, ударяясь в каски.
Но когда взрывчаткой в воющей трубе
вероятность смерти в нашу щель летела, —
я узнал, что можно – к мысли о тебе
в миг землетрясенья прижиматься телом.
И когда, казалось, смерть уже велит
минному огню распорядиться мною, —
я решил взмолиться, но из всех молитв
имя вспоминал не божье, а земное.
И поверил я: на просьбу «отзовись» —
издали еще – при имени любимой
от меня мгновенно отклонялся свист,
повинуясь слепо приказанью: – Мимо!
4
Войска Геены и Эдема на середину мира прибыли.
Уже страдания и раны в обоймах выгнутых готовы.
Подвозят ящики с пожарами, землетрясения и гибели,
вдали столбами соляными стоят заплаканные вдовы.
По пояс в глине первозданной, стальные, серые и серные,
возникли рати за плечами других, форсирующих Неман,
отрезывают отступающим моря спасительные Чермные,
по сто вулканов ставя рядом, теснят геенияне эдемян.
Штыком проткнуто милосердие, в своей крови лежит добро,
любовь в разорванной рубахе ведут к пылающему кратеру,
на дыбе нежность, жизнь на плахе, подвешен разум за ребро,
на колесо четвертованья дитя привязывают с матерью.
Дрожит Вселенная от топота, народы на полях распяты,
лежат с разрезанными выями и обожженными глазами,
сын Человеческий растоптан, кровоточат его стигматы,
бегут Иосифы с Мариями, Петры уходят в партизаны.
Чтоб лучше видеть схватку эту, я встал за северным сиянием,
где низкорослые березы и марсианский красный мох,
оттуда открывалась сфера и простирались расстояния,
каких в скитаньях неоконченных и Агасфер обнять не мог.
Я видел, как в Тавриду тычется таран неистовый осадный,
к источникам огнепоклонников, к запасам адского огня,
я видел дальше – ты в опасности, вот-вот и новые десанты
отрежут часть Земного Шара, с тобой, навеки, от меня!
5
Испуганный ангел бежал по изрытой дороге.
Под топот погони он сбрасывал рваные перья.
В глазах его были – драконы и единороги,
фугасные птицы и кинжалозубые звери.
Он мне рассказал, задыхаясь, о жерлах железных,
о палицах с шипами, о непробиваемых масках,
о тщетных винтовках, о саблях уже бесполезных,
о дотах разбитых и о продырявленных касках.
Он видел врага, что явился из Дантова цикла,
Ассурбанапал, или нет, возрожденный Аттила,
за ним – на летучих мышах, или нет, мотоциклах, —
бензином дымя, проносилась нечистая сила.
И он побежал, обдирая кровавые ноги,
по ржавым колючкам, по брошенным каскам, по ямам,
а рядом за лесом, по параллельной дороге,
навстречу врагу – шли с винтовками дети Адама.
Обрубками рук встречали столбы верстовые
людей, что не видели даже окраины Рая,
имевших не крылья – а только мешки вещевые,
винтовку и мысль: врага задержать, умирая.
6
На снежную землю меня опустило создание
с ревущей утробой и вдаль покатило по тропам.
Когда я увидел ночные погасшие здания,
я понял, что прибыл к началу второго Потопа.
Тяжелые взрывы до сорванных крыш закоптили их.
Ночная тревога взывала от залпа до залпа.
Одни лишь машины светились еще – как рептилии,
они проползали, мигая глазами, к вокзалам.
Леса под Москвой закишели уже бронтозаврами,
убит у заставы один бронированный ящер,
не все еще дети в теплушки скрипучие забраны,
не все еще знают о бедствии, им предстоящем.
Но семьи толпились, с пожитками двигались новые,
одни – относились к своим очагам, как утратам…
По рельсам тянулись ковчеги резервные Ноевы
с дымками печурок, кто знает, к каким Араратам?
И я заблудился в путях между Адом и Муромом,
меня две недели водил и запутывал демон,
локтями толкаемый, раненный взглядами хмурыми,
в лесу, на разъезде я встретил стоянку Эдема.
Мой бедный Эдем! Бесплацкартный, холодный, неубранный,
с водою в жестянках, с лиловым огнем керосинки…
Но радуга встречи! Какой семицветностью утренней
из неба в ресницы, блестя, проступают росинки!
И мы оторвали еще трое суток у вечности
на полках с тюками, на жалких лежанках ночлега.
Сирена кричит. Уже сдвинулось все человечество.
У пристани волжской качается чрево ковчега.
7
Я встретился с чудом, с могучей, сплошной белизной,
лепные снега возлежат, тяжелы и пологи.
Стучит телеграф, что, дойдя до опушки лесной,
потоки потопа замерзли еще по дороге.
Угрюмые ящеры вязнут в снегу, говорят,
воители Ада торчат сапогами из снега.
Россия стоит, как надежный седой Арарат,
с вершиной Кремля, с защитной звездою ковчега.
Космический пух накопился в осях колесниц,
застыла вода в небесах кристаллической пылью.
И хлопьями сбилась, и медленно падала вниз,
и все тяжелели слепых птеродактилей крылья.
И снова остался в живых человеческий род,
вступивший в союз с величавой морозною твердью.
Закат и Восход превратились в Охват и Обход,
и жизнь осмелела и стала командовать смертью.
И выпустил голубя утром бумажного я,
связного любви с треугольной печатью на бланке,
но он не вернулся, письма не принес от тебя:
лежат океаны снегов от Земли до землянки.
8
В оранжевом воздухе зимних и мраморных зарев,
где в мир изваяний себя поместила природа,
я мог под Москвою увидеть своими глазами
убитого нами Врага Человечьего Рода.
Валялись отдельно угрюмые зубья и клещи,
тела самоходов в неизлечимых увечьях,
и, вынутый взрывом из бронедоспехов зловещих,
лежит человек из династии бесчеловечных.
Так вот нашу землю дрожать заставлявшая сила,
и сила ли это – в руках безбородого гнома,
которая руки любимых разъединила,
которая вырвала окна из нашего дома?
Чего не хватает в лице для обычного трупа?
И в смерти, как перед начальством, он вытянут в струнку.
А может, не труп, а, рожденный ретортами Круппа,
по детям стрелял не имеющий сердца гомункул?
У танка еще выдувало огонь из отдушин,
спокойно за лесом стояла заря золотая,
а розовый снег остался к нему равнодушен
и холодно около тела его не оттаял.
Торжественный вечер уже перекрашивал воздух,
развешивал звезды и развозил сновиденья.
Впервые в войну я увидел на нескольких звездах
сиянье, какое бывало до грехопаденья.
9
Передней линии окопов, о Елисейские поля!
Мы как на облаке блаженном живем и ходим только в белом
Скрипят сугробы кучевые, недосягаема земля,
а наши кельи дровяные закрыты в небе огрубелом…
Барашек белых полушубков, святой апостольский кожух,
рязанский отрок с автоматом на маскировочном хитоне.
Я с ним по грядам снежно-белым на послушанье прихожу
меж пулеметных курьих ножек мы по колена в тучах тонем
Отсюда в розовом сиянье из-за кустов по Аду бьют
в сетях и мантиях из снега машины молнии и грома.
Во время утренних налетов, как звуки благовеста, тут
стоит святая канонада на небесах аэродрома.
Иным кладут на лоб кровавый благословение бинта,
несут на белый стол хирурга, покрыв забвением и болью.
На полпути Земли и Неба лежит запретная черта —
контрольный пункт между Войною и человеческой Любовью.
А нас на полупоцелуе разъединил мечами бой,
мы сна вдвоем недосмотрели, когда ворвался грохот грубый.
Следи за картой, слушай сводку – мой крик далекий: «Я с тобой».
И пусть твой шепот телефонный примчат архангеловы трубы.
Со всеми, кто живет и любит в бою, у Ада на краю,
я буду ждать, и буду верить, я вымолю тебя у неба…
Я предъявлю дежурным стражам свое, с печатями, «люблю»
с котомкой веры за плечами, с буханкой фронтового хлеба.
10
Не за жизнь цепляюсь – за тебя.
Я вернусь через неделю к бою.
Ждет меня старинная изба,
синие наличники с резьбою.
Солью слез не растравляй рубец,
грустным взором не встречай, не надо.
В двери приоткрытые небес
вижу свет потерянного сада.
Я иду в мерцающую мглу,
светом озаренную поясным.
Золотой иконостас в углу,
полотенце, вышитое красным.
Боже, ты ворот не отворяй.
Я не верю в твой престол небесный,
в облачный, с угодниками, рай,
с титлами славянскими над бездной.
Встреча там? Но я уже познал
силы атома и тайны клетки,
я отведал плод добра и зла
человеком выращенной ветки.
Почему же я к тебе пришел?
Что мне твои лики, твои свечи?
Я не верю, боже, в твой престол!
Но молюсь, как набожный, о встрече.
11
Так я выпросил встречу, молясь и кощунствуя,
и меня в грузовик подсадила мольба,
ангел холода пел надо мной до бесчувствия,
опахалом касаясь усталого лба.
И когда я совсем потерял осязание
у знакомых дверей, у земного огня, —
чьи-то пальцы, как пальмы, расцветшие заново,
прикоснулись и к жизни вернули меня.
И три ночи мы видели сон одинаковый,
и три дня мы делили вино и еду,
и не ведали неба, покрытого знаками,
по ночам предвещавшего людям беду.
Мы ходили во сне только вместе и об руку,
как корабль сновидений стояла кровать.
Было дело – высокому темному облаку
от воздушных налетов наш дом прикрывать.
Там борьба продолжалась – огромная, трудная,
поединок не кончился, бой не затих,
но ворочались в просинях панцири трубные,
легионы выстраивал Архистратиг.
И когда я вернулся, неся твою заповедь,
в наши темные щели, лишенные дня, —
Человеческий Враг, показавшись на западе,
бесполезную молнию бросил в меня.
12
Как в книге Бытия, все есть: и гром и трубы.
Есть первая строка: «В начале слово бе».
Тем словом я дышу и, отдаляя губы,
библейское «люблю» я приношу тебе.
Груба скрижаль судьбы: «Даем и отбираем».
Так сказано и встарь: «Я создал – я изгнал».
Но без изгнанья Рай нам не казался б раем,
но без потопа мир о радуге б не знал.
Недаром из ребра творилась Ева богом,
а не из дерева познания добра, —
так пусто ощущать отсутствие под боком
моей ее руки, как моего ребра.
Не я один, а все не могут жить отдельно,
и каждая душа тоскует о своем.
Как ни жесток был тот, кто нас лишил Эдема,
но, изгоняя двух, он изгонял вдвоем.
Не для того ли, чтоб под топот волн потопа
переплывать с тобой, вдвоем, совместный путь,
или, на сушу став, с тобой ступать по тропам,
или в твоих руках навеки утонуть?
Не я один, а все – и на земле и в небе,
воюя, молят жизнь о самом дорогом,
и целый фронт стоит в мечтаниях о Еве,
и думая: «Люблю», – командует: «Огонь!»
13
Уже привыкли руки срастаться с пулеметом,
уже лицо притерлось к поле шинели рваной.
Мы дорожим в апреле – не молоком и медом,
а мерзлотой и мраком земли обетованной.
Уже переменился цвет глаз детей Адама,
они – сердцебиенья перестают стыдиться,
и научились жизни с промокшими ногами
они, что в годы мира боялись простудиться.
И нас не укоряют обидой отступленья,
к таким тяжелым ношам привыкли наши плечи,
любовь нашла такое огромное терпенье,
что научилась мысли о невозможной встрече.
Солдатскою лопатой мы столько ям нарыли
и столько черных взрывов спокойно отмечали,
что, может, в самом деле у нас хранятся крылья
для будущего рая – в котомках за плечами.
Когда подрос подснежник под серою шинелью,
когда запахли паром окопы на рассвете,
когда ручей апрельский пополз траншейной щелью,
большие перемены произошли на свете.
14
А теперь уже это типичного Ада окраина.
Мы спокойно живем на цветном от ракет рубеже,
где дивизия Авелей бьется с дивизией Каинов
и Адам наклонился над картой в своем блиндаже.
Белый шар опускался на землю затмением солнечным,
как, наверное, было за час до рожденья Земли.
Хаос был, вероятно, таким же фугасным, осколочным,
и бризантные брызги, такие же, землю мели.
Я попал в катастрофы, имевшие место до Библии,
в суету элементов, в распад, в огневую метель,
в битву Альфы с Омегой, в ритмичное уханье гибели
гордых твердых металлов и редкостных редких земель.
У начальника штаба имелись железные данные,
чтобы адскую бездну сводить методично на нет,
и опять начиналось вторичной Земли созидание,
с непрерывной подачей снарядов, ракет и комет.
Я, когда подо мною дрожала болотная почва,
сейсмографией сердца вычерчивал эти бои,
а хотел одного: чтоб исправно работала почта,
чтобы шли аккуратно короткие письма твои.
15
На адрес боя, наугад
пришло письмо из Рая в Ад.
Исписанный клочок лазури,
святая весть – что небо есть.
И можно в свете амбразуры
«Люблю» неясное прочесть.
Пусть возвращению не срок
и слышен близко вой снаряда —
целую свежий лепесток
нам возвращаемого сада.
А пулемет стучится в ночь,
мелькающую блеском смерти.
Ракета хочет мне помочь
найти твой адрес на конверте…
Твой адрес? Это целый свет!
Все руки, ждущие свиданья!
И все глаза, где столько лет
сияют слезы ожиданья.
16
О, большак наступления – долгий и пыльный!
Все несется на запад, как сплав по реке,
небо ночью гудит, как завод лесопильный,
от тяжелых машин, в облаках, вдалеке.
Колеями изрыты стопные просторы,
пятитонки торопятся холм обогнуть,
за бугры переваливают транспортеры,
пехотинцы проходят в колосьях по грудь.
На плечах перетащены тонны железа,
перехожены вброд океаны огня,
на землянки нарублено до неба леса —
ради чистого неба и мирного дня.
Ураганами пороха, бурей тротила
перебиты уже легионы Аттил,
и смешались понятия фронта и тыла,
когда ветер на запад поворотил.
Я воды пограничной сегодня напился,
сросся взорванный мост, и опять я иду,
а за нами, как голуби, гонятся письма,
мы теперь их читаем спеша, на ходу.
И солдат не успеет в пути пообедать,
только б свежей воды зачерпнуть впопыхах!
Так негаданно быстро несется победа
ради детского смеха и жатвы в полях.
Чтобы впредь, как сейчас, в голубые просветы
не швырялись куски чугуна и свинца,
чтоб краснели закаты, синели рассветы
и вставали колосья по плечи жнецам!
17
Мы теперь еще не вместе спим.
Это временно, моя подруга.
Ты не видишь серогорбых спин,
подползающих к отрогам юга.
Но у нас одни и те же сны:
мир настал, и мы остались в мире,
окна дома не затемнены,
семьи возвратились из Сибири.
Белый свет горит на площадях,
ночи – с удивительными снами,
и судьба, бессмертие щадя,
дорожит оставшимися нами.
Стол накрыт, и белоснежна соль,
все забыто – взрывы и ознобы,
медленная ноющая боль,
скоростные воющие бомбы.
Женщина не хочет жить вдовой,
зарастает поле боевое,
у окопов с новою травой
обнимаются и бродят двое.
Пишет Данте, ищет Эдисон,
любит Вертер и тоскует Лиза,
новый Кампанелла потрясен
красотой порталов коммунизма.
В это завтра хочется смотреть
нам, забывшим жалость и усталость,
и уже не страшно умереть,
чтоб оно кому-нибудь досталось.
Так и будет, мы придем в Эдем,
обожженный до небес Геенной!
В ночь войны я вижу новый день
радужный; земной, послевоенный.
Послесловие
Война не вмещалась в оду,
и многое в ней не для книг.
Я верю, что нужен народу
души откровенный дневник.
Но это дается не сразу,
душа ли еще не строга?
Но часто в газетную фразу
уходит живая строка.
Куда ты уходишь? Куда ты?
Тебя я с дороги верну!
Строка отвечает: «В солдаты!»
Душа говорит: «На войну».
Писать – или с полною дрожью,
какую ты вытерпел сам,
когда ты бродил бездорожьем
по белорусским лесам,
О Рае потерянном. Или —
писать, чтоб, как огненный штык,
бойцы твою строчку всадили
в бою под фашистский кадык.
В дыму обожженного мира
я честно смотрю в облака.
Со мной и походная лира,
и твердая рифма штыка.