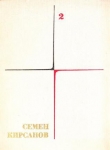Собрание сочинений. Том 1. Лирические произведения

Текст книги "Собрание сочинений. Том 1. Лирические произведения"
Автор книги: Семен Кирсанов
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 9 страниц)
Мне на свете нужна
только в гору тропа!
Даль чиста и нежна.
Лоз венгерских толпа.
Пусть она и крута,
вьется к небу, кружа, —
здесь не норка крота,
не пещерка ужа.
Здесь найдется и стол,
грубо сложенный дом,
виноградарь простой
с опаленным лицом.
Без ухода – цветы,
без наклейки – вино.
Вот такой высоты
я заждался давно.
Взоры сельских невест
отражать суждено, —
в доме зеркало есть,
в форме сердца оно.
Видно, правда одна
в этом доме в цене,
что как сердце она
здесь, на белой стене.
Я смотрю на оклад
в голубых васильках;
долго ищет мой взгляд
седины на висках.
Нет, воронье крыло
мне на брови легло,
и два карих огня
вместо глаз у меня!
Чем-то детским мои
обновились черты,
словно стерты слои
всей былой суеты.
В душу смотрит светло
свет прозрачных глубин,
будто знает стекло,
что любил, кем любим;
будто знает, что есть
что-то в сердце моем;
будто добрая весть
отражается в нем.
Много видел я гор,
где бродил, где искал,
но таких до сих пор
не встречалось зеркал!
В форме сердца оно,
в душу смотрит оно!
Наливай же в стакан,
виноградарь, вино!
Режь садовым ножом
лук, пахучий до слез.
Здесь нашелся и дом,
здесь и сердце нашлось.
Даль чиста и нежна.
Лоз венгерских толпа.
Мне на свете нужна
только в гору тропа!
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ТЕТРАДЬ (1957–1960)
Этот город
Как Петербург глубок!
Он Пушкин, он Жуковский.
Он Лермонтов, он Блок,
он ранний Маяковский.
Он Врубель. Холст его
павлинами заляпан.
Он Горький. У него
в гостях сидит Шаляпин.
И он же – чуть заря —
задумчив и нахмурен.
А мысль – «убить царя»
сверлит, – и он Халтурин.
Не статуи в садах,
не пики, не гробницы.
Он человек всегда —
он Пирогов в больнице.
Он Алексеев Петр.
Его хватают, судят.
Он на суде встает
с пророчеством – что будет!
Он – отдаленный гул
толп с Выборгской и Охты.
Он – прачка на снегу,
кровь льется из-под кофты.
И с прищуром на свет
уже как Ленин глянув,
он молодой студент
за книгою – Ульянов.
Он трудится на весь
рабочий мир огромный —
в Большом Казачьем, здесь,
в музейном этом доме,
где черновик борьбы,
где корректуры правка,
где Петербург – и был
как в будущее явка.
А в будущем – не сон,
а штурмом взятый Зимний.
Красногвардеец он,
бессмертный и без имени.
Седой от всех потерь
он человек, но вечен.
Он Ленинград теперь —
строг, прост и человечен.
Ночные улицы
Когда перед звездой,
мерцающею скупо,
чернеет золотой
Исаакиевский купол
и властвуют одни
кронштейны с фонарями, —
я выхожу к Неве,
к дворцовой панораме…
Но пушкинской строфой
тут все уже воспето:
громады темные
вдоль Невского проспекта,
тень золотой иглы,
секиры на ограде…
И что сказать еще
о спящем Ленинграде?
На Троицком мосту
он виден в небе мглистом,
как прошлого корабль,
как будущего пристань…
Что город думает?
О чем его забота?
Как сон? Как дышит грудь
Балтийского завода?
О чем задумались
четыре исполина,
что держат Эрмитаж
на онемевших спинах?
О белой женщине
на набережной сонной,
сидящей под ночной
ростральною колонной?
Что Невский говорит,
кварталы удлиняя?
Не снится ли ему
Дорога Ледяная?
Растаяла?.. Но сон
тревожит мостовую —
проспекту не забыть
подругу фронтовую…
А не болят ли в ночь
под вывеской нарядов
заделанные швы
пробоин от снарядов?
Три раза бьют часы
на каланче старинной.
Что чувствуют сейчас
зеркальные витрины?
Опять мешки с песком
блокадные им снятся,
хотя у кренделей
пирожные теснятся…
А булки думают
о том, что были б рады
испечься не теперь,
а в голый год блокады.
На набережной – тишь…
Не отрывая взора,
как набожный, стою
у крейсера «Аврора».
Что снится кораблю?
Да тема сна все та же —
скучает о своем
октябрьском экипаже.
Пороховым нутром,
сердцами пушек старых
грустит о моряках,
о красных комиссарах…
А как мои шаги?
Вокруг домов и мимо?
И рядом снова нет
шагов моей любимой?
Но город будто мне:
«Отчаиваться рано.
И у меня была
здесь на асфальте рана…»
Светлеешь, Ленинград?
Цветы росой намокли.
Я здесь не делегат,
и не турист с биноклем,
и не знаток стекла,
картин или жемчужин.
Я просто человек,
которому ты нужен.
И ты – как человек,
готовым и за полночь
всей красотой своей
прийти ко мне на помощь,
великой красотой
хлебнувших горя улиц,
светлеющих от крыш,
где статуи проснулись.
Кариатиды
Есть статуи среди
стоящих в Ленинграде:
извилистых бород
мифические пряди,
русалочьи тела
скульптурных полуженщин.
За них отдать бы жизнь! —
так облик их божествен.
Но это не Петры,
не Павлы и не Анны.
Рабы дворцовых стен
безвластны, безымянны.
Они стоят не в честь
заслуг или талантов —
тут труд кариатид,
тут каторга атлантов.
Незрячи их глаза,
опущенные книзу.
Их служба – подпирать
столичные карнизы.
Не смотрят на ступни
сих статуй старожилы.
Но как напряжены
их мраморные жилы!
Как давят этажи!
Как пот течет по скулам!
В поэмах им бы жить —
Гераклам и Микулам.
Но тут они – ничто.
Никто о них не скажет.
На них – искусствовед
и взглядом не покажет.
А что сказать? Рабы,
чьи головы наклонны —
чтобы нести столбы,
чтобы держать балконы;
держать, держать, держать
колонны, стены, своды, —
без прав, без слов, без слез,
без будущей свободы;
поддерживать дворцы
при бронзовой ограде,
любовников держать
на белой балюстраде;
паркетные полы
терпеть с толпой придворной,
удары каблуков
переносить покорно;
бессильные – хоть раз
пошевельнув плечами,
заколебать дворцы
с их белыми ночами!
Вот Памятник Труду,
который создал скульптор
так истинно, и так
безжалостно, так скупо! —
труду всех крепостных,
всех каторжников мира,
и только как деталь
модерна и ампира!
Сюда пригнали их
со всех каменоломен.
Как тяжко им стоять,
как груз домов огромен!
От муки вековой
обшелушились лица,
и дождь, как скользкий пот,
по животам струится.
Но так как не нужны
для этой службы ноги —
их скульптор завершил
витком па полдороге.
Кто милосердным был
к страдалице распятой?
Кто понял боль фигур?
Кто слышал стоны статуй?
Кто понял? А живой
услышан был и понят?
Молчит Санкт-Петербургъ,
когда Россия стонет.
Но разве по ночам
не изменялись позы
и в пасмурные дни
не слышались угрозы?
И каменный атлант
не нарушал наклона,
чтоб хоть лепной акант
упал с угла балкона?
Да, страшно было вам
в метели и в туманы —
о, медные Петры,
о, мраморные Анны!
Решетки
Решетки! Я о вас
хочу сказать хоть раз
всю правду! Право есть —
ваш формуляр прочесть.
Вы – сотни тысяч пик
без воинов. Вы – крик:
«Не подходить!» Вы – мир
пищалей и секир
без ратников. Вы – смотр
полков, какие Петр
на иностранный лад
построил – без солдат.
Вы – Петербурга лик,
стоящий штык о штык
патруль без часовых.
Вы стрелок часовых
остроконечный строй.
Вы декабристам: «Стой!»
Решетки! Вы – печаль
закрывшихся ворот,
тюремного ключа
железный поворот.
Вы – на окне, где взгляд
Желябова на ряд оград.
Вы – мир цепей из бронзы.
Вы – репей из чугуна.
Цветки из стали.
Лепестки, раскрывшиеся там,
где гибель лепесткам.
И нет – вы не родня
наивного плетня
в ромашках и траве
с горшком на голове.
Вам – тын ни сват, ни брат,
о, легион оград!
Нет, вы – конвой тропы
для каторжной толпы
вплоть до острогов, где
на хлебе и воде
лежали по углам
прикованные к вам!..
Рудой еще когда
вы были – и тогда,
о, сколько бедняков
несли из рудников
и каторжной киркой
рубили им покой!..
Так – вы из мертвецов
росли вокруг дворцов.
И крицами когда
вы были – и тогда,
О, сколько клейм на лбу
поставлено рабу,
да, божьему рабу
из беглых крепостных,
который вас ковал
и в стенах крепостных
о воле тосковал,
о ковыле в степях…
Вы в пушкинских стихах
о молодом орле,
о машущем крыле…
На вас самих орлы
распяты, кандалы
к ногах у вас висят,
и обнесли фасад
империи. И шпик
все видит из-за пик…
Но вспомните и час,
когда заставил вас
вдруг сделать шаг назад
красногвардейский штык,
Октябрьский Петроград!
Вас к стенам придавил
плетень крестьянских вил…
И – как ни угрожал
Таврический дворец —
трагический конец
владельцев ваших ждал!
Вы – шаг вперед опять,
но вас погнала вспять
под цоканье подков
Конармия клинков.
И миллион штыков
(на каждом красный бант)
вас усмирил. И вот
вы – только ржавый сброд
мечей, и алебард,
и копий. Но – вперед
вершка вам не ступить!
Но как же с вами быть,
чугунные цветы,
секиры и щиты?
Вас ради красоты
оставить, может быть?
Оставим. Так и быть.
А если вы – посты
минувшего? И стяг
с орлом о трех цветах
пас тайно осенял?
Тогда вы – арсенал!
Ни цепи, ни цветки,
ни медные витки
тогда вас не спасут.
Решетки, вас снесут!
Летний сад
О, зимний Летний сад,
заснеженный, не летний,
где высоко висят
серебряные ветви;
где погребен песок
с замерзшими следами,
где все еще не срок
свиданий и досвиданий;
где так печален вид
пустующих скамеек,
где даже тень любви
усесться не посмеет.
Сад, где газон зимы
забыл о незабудках,
где весь античный мир
живет в дощатых будках;
где в мраморной мечте
вновь окунуться в мифы —
в купальной наготе
стоят в кабинах нимфы;
где лишь Крылов свое
не покидает кресло, —
и сторожит зверье,
столпившееся тесно;
где в инее с утра
Персей и Андромеда,
где во дворце Петра
все говорит про шведа;
где воздух в блестках от
туманов и морозов,
где ночью у ворот
таится Каракозов;
где с флагами толпа,
в воззваньях динамитных,
где сквозь морозный пар
мелькнул февральский митинг;
где царские орлы
забились под короны,
где подняли стволы
безлиственные кроны;
где помнят о руках,
что их сажали, корни,
а ветви в облаках
парят, нерукотворны,
но – дерева где нет,
какое за два века
увидело бы свет
само, без человека;
где человек не взял
в блокадный год ни чурки,
а грустно замерзал
у гаснущей печурки…
Сад, где так дорог луч
и каждый теплый градус,
пришедший из-за туч
на ленинградский адрес;
где, на руки дыша,
кусты, скамейки просек,
как сердце, как душа,
о потепленье просят;
где в сумерках на льду,
у снежной филиграни,
я безответно жду
далекой телеграммы;
где требуют весны,
детей хотя бы ради,
и барельеф стены,
и кольца на ограде;
где подается весть
всем веткам по цепочке,
что потепленье есть —
пусть набухают почки;
где птицы голосят
и занимают ветви,
где солнце снежный сад
вновь превращает в Летний;
где новый оборот
находит стих звенящий:
«Надежду – у ворот
не забывай, входящий!»
Русский музей
Сегодня я хожу
по Русскому музею,
там на полотнах Ге
видения сизеют;
желтеет Левитан
и зеленеет Шишкин, —
вот-вот и упадут
с мохнатых елей шишки.
Пройдешь Рублевский зал,
побудешь при Петре ты,
потом тебя пленят
Тропинина портреты,
где с лентой и звездой
сидит вельможа старый,
девица со свечой
и юноша с гитарой.
Нас в Царское Село
Боровиковский вводит;
прозрачно и светло
он тонкой кистью водит…
Как дверь из зала в сад,
распахнута картина:
в салопе и чепце —
сама Екатерина.
И чуть зеленый фон
с дубравами в тумане,
и жемчуга в ушах
у госпожи в тюрбане.
И показалось мне
при этих важных дамах,
что галерея – мы,
а зрители-то в рамах!
Брезгливые на нас
из рам глядят вельможи,
статс-дама щурит глаз
из золоченой ложи,
графини и князья
лорнетами нас мерят,
но, видимо, они
своим глазам не верят!
И как понять сии
ковбойки, куртки, блузки —
столь вольный разговор,
и – фи! – не по-французски?..
Что смыслят в нас цари?
Как разберутся графы
в глубинах наших глаз
и наших биографий?
Попробуй в те года
портреты наши выставь, —
для них мы – что для нас
холсты абстракционистов.
И ржевского купца
побагровели веки —
не может он понять,
что мы за человеки!
Я к девушке иду,
не жемчугом венчанной,
ее среди снопов
писал Венецианов.
На жатве, посреди
прокошенных дорожек,
в венце из русых кос,
босая, без сережек.
Он написал глаза
большие, голубые,
чтобы она могла
понять глаза любые.
Знакома и мила
мне черточкою каждой.
А рядом – узкий серп
(без молота пока что).
И правда – смотрит так
крестьянка крепостная,
как будто видя нас,
как будто вспоминая…
Она в нас признает
своих парней и девок,
гадавших столько с ней
на лавках посиделок,
кудрявых женихов,
затерянных в солдатах,
и братьев, и зятьев,
в ту пору бородатых…
Сама еще – дитя,
а трудовые руки.
Но знает, что придут
к ней любоваться внуки.
В Петергофе
Забил Петродворец
из всех своих фонтанов.
Воды хоть отбавляй
у золотых титанов.
Им заменяют мысль,
слова и поцелуи —
летящие из уст
сверкающие струи.
Когда дерет Самсон
скульптуру львиной пасти,
ревет водопровод,
как публика от страсти.
Вот золотой атлет,
он импозантен очень!
Что ж, лучше человек,
когда он позолочен?
Я думаю, что нет.
Не мучься, не досадуй.
Завидовать грешно
фонтанной жизни статуй.
Золотой корабль
На золотой игле —
кораблик золотой.
Лет двести пятьдесят
стоит он над водой.
На полных парусах
уходит в море флот.
Лишь этот никуда
кораблик не плывет.
Открыли острова
и Берингов пролив,
других на берега
выбрасывал прилив,
другие подошли
и к Северной Земле,
и только он один
ни с места – на игле.
И столько лет стоять,
и видеть чей-то путь,
и по такой реке
не плыть и не тонуть…
Но это ничего.
Кораблик терпелив.
Смирился он, что жил,
морей не переплыв.
А я вот за него
испытываю грусть,
корабликом таким
я сам себе кажусь —
без рейсов и морей,
поставленным на шпиль,
но позолотой всей
осыпавшимся в пыль…
Бывает, что и грусть…
Но ты не прав, поэт,
кораблик-то пришел
к нам из Петровых лет
и Новую Страну
открыл у невских вод,
и дальше – в добрый путь
кораблик поплывет.
По компасу звезды
плыви в вечерней мгле,
кораблик золотой
на золотой игле!
Львы и сфинксы
Пишу тебе одной,
одной во всей стране,
какой мне снится сон,
что думается мне.
Два сфинкса над рекой.
Я не скажу, что груб
гранит их нежных глаз,
их миловидных губ.
На цоколе слова:
«Привезены из Фив».
А кто-то проходил,
хвосты им поотбив.
Обиделись бы! Нет.
Сфинкс, видно, не гордец.
Загадка на губах,
и никаких сердец.
Перед подъездом спят
два равнодушных льва,
у каждого – в кудрях
в судейских голова.
Когда другим дано
метаться и рычать,
готовы эти львы
обид не замечать.
И разве в этом нет
особенной судьбы, —
о, статуи Любви,
о, каменные львы!
О, кони, коих Клодт
поставил на дыбы,
балконы на плечах
держащие рабы!
О, божества без рук,
положенных плечу, —
в одном я только вам
завидовать хочу.
Обидные пинки,
насмешливую брань,
железным молотком
отколотую грань —
вы сносите! Пускай
и жалят вас и злят —
не дрогнет ваша грудь,
не повлажнеет взгляд.
А я – ни лев, ни сфинкс,
и от твоих обид
во мне все говорит,
все стонет, все болит…
Из Фауста
«Мне скучно, бес». Себя
запродал черту Фауст!
Мне скучно. Без тебя
я по земле скитаюсь.
И не рассеет бес
ту скуку ни чумою,
ни молнией с небес,
ни тонущей кормою.
«Ты» мне нужна. Кто «ты»,
бог видит, я не знаю.
Я осмотрел мосты,
я трясся на трамвае;
смотрел на груды льдин —
и никого не встретил.
Но человек один
не может жить на свете;
не может у стены
блуждать пустынным взглядом,
где даже сатаны —
вот черт! – не видно рядом,
Вот небо с уймой звезд,
их больше, чем у Гете.
Все до одной бы свез
тебе одной. Но где ты?
Приблизься хоть на шаг.
Душа тебя устроит?
Готов отдать. Душа
хоть сколько-нибудь стоит?
Загробного судьбой
я с чертом расквитаюсь.
Но с будущей тобой
не поступлю, как Фауст.
Купола
Есть купола. Их лик
зрит россиянин всякий.
Се – мощен и велик —
сияет Исаакий.
Когда и солнца нет,
и небо как болото —
все ж излучает свет
святая позолота.
Другой трехглавый храм
крыт крашеным железом,
а купол пополам
таинственно разрезан.
Он в Пулкове стоит,
храм чисел и приборов.
Вот каковы сии
великих два собора.
И разные у двух
и боги и святые,
к которым ввысь ведут
ступеньки винтовые.
И мученики есть
у каждого. Зверея,
вели Христа на крест.
И к пытке – Галилея.
Вот, христианский мир,
какой шедевр ты создал!
Вот мрамор, вот порфир,
вот путь, ведущий к звездам.
Вверх, по виткам, себя
я ввертывал шурупом,
и довинтился я
в Исаакиевский купол.
И – небесам конец,
ни звезд, ни туч! К чему же
нам – золотой венец,
сияющий снаружи?
И ангелам сюда
сквозь плиты не пробиться!
Нет, эта красота —
не солнце, а гробница.
Ослепший и без чувств,
и вниз верчусь, и вскоре я
шоссейной лентой мчусь
к; тебе, Обсерватория!
В пожарных касках крыш
среди Земного Шара
ты словно сторожишь
планету от пожара.
И лестничкой витой
вхожу я в купол дивный,
не золотой – простой,
с трубой посередине.
И он раскрылся вдруг,
как подымают веко,
и стал ходить вокруг
светила – человека,
как ходит наш Земшар,
кружа меридианы,
как ходят не спеша
планеты мирозданья.
И царствуй и смотри
на солнце в полном блеске!
Здесь, в куполе, внутри —
смерчи, пожары, всплески.
Следи глазами линз
за солнечной короной!
И я смотрю на жизнь,
сияньем покоренный.
Хочу я жить не час,
а без конца, сверхсметно,
как человек, как часть
материи бессмертной,
часть звезд и часть людей
или хотя бы часть я —
травы, цветов, лучей
какого-нибудь счастья.
Нет, я не раб, не червь!
А мысль моя несется,
не ведая ночей,
ракетой вокруг солнца.
Как к хочется мне здесь,
где ширь так осиянна,
вскричать: «В сей мир чудес
я верую! Осанна!»
Мосты
Прочь, мелочи, прочь, рой
обид! Тоска, долой!
Забыть заботы! Прочь,
бессонных мыслей ночь.
Любовь и ревность, прочь!
И – снова на простор
гранита и мостов
через Неву. Мосты
надежны и просты.
И как ни широка
гигантская река,
просторы не пусты.
Сроднились берега,
как в браке, на века.
Так сделали мосты.
пускай одни – горбом
прошли из дома в дом.
Их жизнь – канала муть,
и в пять ступенек путь.
Другим – взамен любви
двухсводчатый уют.
Сторожевые львы
расстаться не дают…
Зато у самых звезд
Канавки Зимней мост.
И преданно-верны
живут две стороны
двух зданий, две стены
так близко, тесно так
и так вдвоем всегда,
что только кое-как
под мост течет вода…
Но, берега Невы,
вам трудно. С детства вы,
с пустынных лет реки,
так страшно далеки!
И ледовитый лед
вот – между вами лег,
и только иглы ввысь…
И все же вы сошлись.
И, дружески легка,
легла издалека
Литейного рука
проспекту на плечо.
«Чего ж тебе еще?
Я рядом. Я с тобой…»
Но как мне быть с собой?
Я понял жизнь мостов,
пролетов и основ.
Соединять – их суть.
Но и оставить путь
судам, идущим в верфь
или от устья вверх.
Покинувший залив
корабль так горделив —
сияющая медь
и мачты в полный рост…
Но больно мне смотреть
на разведенный мост.
О, горестный разлад!
Мост, как любовь, разъят,
и входит в наш разрыв,
спокойный ход развив,
громада корабля,
два берега деля
на разных две судьбы…
И я стою, моля
ростральные столбы
помочь и сблизить вновь
двух берегов любовь!
Но я же начал – «прочь,
бессонных мыслей ночь»,
я же сказал – «прочь, рой
обид, тоска, долой,
любовь и ревность, прочь»,
к Неве я вышел… Ты,
река, и вы, мосты,
не в силах мне помочь.
В огнях, гудках, парах
и флагах пароход
торопится. Пора
открыть ему проход!
Прожектора
Моя тетрадь, не трать
страниц на пустяки.
Реши: пусть из души
к тебе идут стихи.
Не скрой, с какой тоской
я здесь бродил без сна.
Конец – у двух колец
нет общего звена.
А в городе весна.
Иллюминован сад,
и улица тесна,
и лица не грустят.
Прожектора в саду
лучи возносят вверх.
Фонтаном на звезду
несется фейерверк.
Есть отраженный свет,
и есть зажженный свет,
а между ними нет
ни солнца, ни планет.
О, нелюбовь, – ты ад,
где пустотой казнят,
где ни ночей, ни дней,
ни света, ни теней!
А ведь любовь была!
И, как кометный хвост,
она меня влекла
сквозь миллиарды звезд.
О, фейерверк в саду,
о, озаренье туч!..
Прожектора! Я жду.
Мне тоже нужен луч.
Глухие стены
Фасады! Вы честны.
Вы смотрите правдиво
лепным лицом стены,
задуманной, как диво!
Собор – он как собор,
на то и колоннада.
Вам никого собой
обманывать не надо.
Когда расстрелян царь
Растрелли не всесилен,
стиль Зимнего дворца
не стал грядущим стиле
Фасады не таят
своих примет, как ребус;
не скажет: «Я театр» —
Петра и Павла крепость.
Ваш вид, и цвет, и рост
для сути вашей создан,
раз Пулково для звезд,
и купола – по звездам!
Змеевиками труб,
призывами у входа
всем говорит: «Здесь труд!» —
простой фасад завода.
Но среди честных стен
имеются глухие;
на них косая тень,
их умыслы плохие.
Безлицым кирпичом
покрытые, без окон —
они, мол, ни при чем
в политике высокой.
Но это ложь! На них
и имена стояли,
вокруг орлов двойных
аршинные медали.
И знает та дыра,
закрашенная буро,
кто Поставщик Двора
и чья Мануфактура…
И есть под краской перст,
торчащий из манжета, —
еще Брокар, мол, есть
под вывеской Ленжета.
Закрашен твердый знак,
но лезет из-под пятен
то – с ером «Русскiй банкъ»,
то «Рѣчь» с кадетским ятем.
Лишь маляры затрут
тень шоколада «Сiу»,
а тени – тут как тут
зовут «спасать Россiю»…
Но ты смешна, стона!
От «Речи» и банкиров
Россия спасена, в ней
бьется сердце мира.
Я друг правдивых стен,
стен с окнами и дверью,
я друг… Но вместе с тем
брандмауэрам не верю.
Так и с людьми – нельзя
в их правде убедиться,
не заглянув в глаза
и не поняв их лица.
Эй, маляры! Прочней
глухие стены красьте.
Приметам прошлых дней
не возвратиться к власти!
В Пушкине
Подумать, сколько дел
у метел и лопат!
Лицейский старый сад
засыпал листопад,
и Царское Село,
как лето, отцвело.
Но все летят с ветвей
обрывки летних дней.
К скамье из чугуна
спустился желтый лист;
над ним литой рукой
подперся лицеист.
Он думает, пока
сад, осыпаясь, вянет:
«Унылая пора, очей очарованье,
приятна мне твоя прощальная краса…»
Засыпана скамья.
Осыпались леса.
И листья все желтей,
и ветер вертит их.
А лицеист уснул
среди стихов своих.
Моряки
О русских моряках
преданье берегущий —
на островке в саду
поставлен «Стерегущий».
Он потерял своих
и вышел в тыл к японцам,
к нему – наперерез
шли флаги с желтым солнцем.
На шлюпки! Двадцать рук
оторвались от троса,
но в корабле, внизу,
остались два матроса.
Зальются очи вдов
горючими слезами…
– Микаде, что ли, сдать
Андреевское знамя?
Помилуй нас господь!..
Задраить горловины… —
И клепаный кингстон
как зев открылся львиный.
И родился фонтан.
Предание хранит он.
И Тихий океан
волнуется гранитом.
Не устает вода
в кингстон открытый литься.
И живы имена
на бронзовой таблице…
Сиять шапки! Слава им.
На рукотворной глыбе
живут два моряка.
Не умерла их гибель.
Но есть и Красный флаг!
На пристани у пирса
другой судьбы корабль
к граниту прикрепился.
Он дремлет. Тишина.
Лишь пушки да приборы…
Но как мне увидать
вас, моряки «Авроры»?
Где первый комиссар?
Где бомбардир-наводчик?
И делегаты где
от питерских рабочих?
Ваш крейсер в три трубы
пол – от кормы до носа!
Но как вам доложить,
куда ваш залп донесся
и как на кумаче
призыв «За власть Советов»
стал утренней зарей
двух полушарий света?
Где ваши имена?
Куда вы делись, братцы?
Нам надо ж постоять,
подумать, разобраться,
кто жив, а кто погиб
с заветными словами…
И шапки снять с голов,
склоненных перед вами.
Весь Ленинград вас ждет.
Пора и в бронзу влиться,
чтоб были всем видны
живые ваши лица.
Ни взгляда. Ничего
не говорит искусство.
Товарищи! Без вас
на набережной пусто.