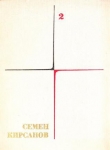Собрание сочинений. Том 1. Лирические произведения

Текст книги "Собрание сочинений. Том 1. Лирические произведения"
Автор книги: Семен Кирсанов
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 9 страниц)
Один я иду
горами
по влажному льду
и снегу.
Повыше есть
на граните
повисшие
водопады
и маленький дом,
где можно
прижаться вдвоем
друг к другу.
Пойду я к нему
тропинкой,
но что одному
там делать?
Задуматься лишь
над тишью
заснеженных крыш
Доббиако.
А двое —
в долине нижней, —
там рядом легли
две лыжни.
Рассвет
Еще закрыт горой рассвет,
закрашен черным белый свет.
Но виден среди Альп в просвет
дневного спектра слабый свет.
Все словно сдвинуто на цвет,
и резкого раздела нет, —
где сизый снег, где синий свет
зари, пробившейся чуть свет.
Но вот заре прибавлен свет,
и небо смотрится на свет,
а краем гор ползет рассвет,
неся, как флаг, свой красный цвет.
Танцуют лыжники
Танцуют лыжники, танцуют странно,
танцуют в узком холле ресторана,
сосредоточенно, с серьезным видом
перед окном с высокогорным видом,
танцуют, выворачивая ноги,
как ходят вверх, взбираясь на отроги,
и ставят грузно лыжные ботинки
под резкую мелодию пластинки.
Их девушки, качаемые румбой,
прижались к свитерам из шерсти грубой.
Они на мощных шеях повисают,
закрыв глаза, как будто их спасают,
как будто в лапах медленного танца
им на всю жизнь хотелось бы остаться,
но все ж на шаг отходят, недотроги,
с лицом остерегающим и строгим.
В обтяжку брюки на прямых фигурках,
лежат их руки на альпийских куртках,
на их лежащие у стен рюкзаки
нашиты геральдические знаки
Канады, и Тироля, и Давоса…
Танцуют в городке среди заносов.
И на простой и пуританский танец
у стойки бара смотрит чужестранец,
из снеговой приехавший России.
Он с добротой взирает на простыв
движенья и объятья, о которых
еще не знают в северных просторах.
Танцуют лыжники, танцуют в холле,
в Доббиако, в Доломитовом Тироле.
Двое в метель
Гостиничные окна светятся.
Метель.
Пластинка радиолы вертится
для двух.
Метель. Вот налетит и сдвинется
отель.
Но держится за жизнь гостиница
всю ночь.
Не крыльями ли машет мельница
вокруг?
Не может ли и мне метелица
помочь?
Пустынны в Доббиако улицы —
метель!
А двое за столом целуются
всю ночь.
«Belvue»
На стенах крупно: «Belvue»,
что значит: «Хороший вид».
Душой я не покривлю,
все буду хвалить, как гид!
Скала, и небо над ней
подначивает – влезть.
Не стоит, – внизу, на дне,
к вершине подъемник есть.
Не нужен здесь альпеншток,
веревка, шипы подошв,
и смелость тут ни на что:
дрожи, а не упадешь.
За очень немного лир
у пропасти на краю
ты сможешь смотреть на мир
с надписью: «Belvue».
К порядку турист привык-с,
спорить не норовит.
И не о чем спор – Prix fixe
проверенным фирмой вид!
Он смотрит в туман и тьму,
на снег в миллиард карат,
но помнит, что ко всему
приложен прейскурант.
В кортина д'Ампеццо
Маленькая американка
взбалмошными губами
тянется после танца
к розовому морозу.
Белый буйвол Канады,
в свитере, туго свитом,
в куртке, во рту с окурком,
держит ее за руку.
Маленькая американка
носит точеный носик
с дымчатыми очками
и родовой подбородок.
Белый буйвол имеет
бунгало в Виннипеге,
банковые билеты
и два кулака для бокса.
Вечером они смотрят
матч «США – Канада»;
маленькой американке
все это очень надо.
Этот хоккей с коктейлем,
этот в машине лепет
в Соединенных Штатах
носит названье: «Нарру»
Дорога в Венецию
Мы пять часов спускались с Альп.
Вид – из гранита вылит.
Давал туннель за залпом залп
вагонами навылет.
За нами следом шла метель,
и голубой, как глобус,
пейзаж отелями летел
и провожал автобус.
Пейзаж рекламой убеждал:
пить воду Пелегрино!
Но путь в Венецию не ждал, —
он несся по долинам.
Он несся к Золотому Льву,
к лагуне синесонной,
сквозь буквы надписей «Belvue»
ка стенах пансионов.
И каждый дом стоял сквозной
от трехметровых стекол,
желтел налаченной сосной,
поставленной на цоколь,
с плющом, заползшим под карниз,
на стенах бологолых,
а между штор – сюрреализм
столов и кресел в холлах.
И все ж Италия бедна —
ей не хватает лака, —
вдруг поворачивается стена
кирпичного барака
и обнаруживает гниль
стропил и старых балок,
где быт, как сваленный утиль,
так безнадежно жалок.
Здесь нищ, и голь живет одна,
ни галстуков, ни глянца,
одна лишь запонка видна
на горле итальянца.
Жена – за варкой макарон,
но и в семье рабочей
пригодны кудри для корон
и не глаза, а очи!
Потом, с холстами старых зал
сопоставляя это,
я вспомнил тех, кого писал
с натуры Тинторетто…
Автобус, здесь остановись.
Во мне возник прозаик.
Вторгаться я обязан в жизнь,
она важней мозаик!
Но строг маршрут, и мы должны
принять культуры порцию,
взирать на древние ножны,
на Цезаря, на Порцию,
спешить к гостинице в обед,
смотреть сквозь окна влажные
на отдалившийся хребет,
на чудеса пейзажные.
Пейзаж равнинней и ровней,
и, как удар по струнам,
под нами мост и в стороне —
дуга воды – лагуна!
Большой канал
И вот к гондолам нас ведут,
лагуною обглоданным.
Гондолы называют тут
по-итальянски – «гондолы».
Мы сели в гондолу, и вот
толчок, – и по инерции
навстречу с двух сторон плывет
Большой канал Венеции.
Вздымает вверх скрипичный гриф
ладья резного дерева;
держусь за бронзу львиных грив —
беда для сердца нервного.
Наклонно гондольер стоит —
артист своей профессии.
Не декорации ль свои
театры здесь развесили?
Плывет галерка мимо нас
в три яруса и ложи.
Как зал театра, накренясь,
плывет Палаццо дожей.
Все задники известных пьес
и Гоцци и Гольдони
мы, проплывая, видим здесь,
качаясь на гондоле.
На этих пьесах я бывал
как друг одной актрисы…
Вплываем в боковой канал,
как ходят за кулисы.
А между двух старинных стен
объедки, в кучу смятые;
на них торжественная тень
какой-то дивной статуи.
Затем ступеньки лижет плеск,
и пристань волны облили, —
сюда бы шляпы, бархат, блеск
в глазах надменных Нобилей.
Но там – в беретах пареньки,
бровасты и румяны,
стоят, засунув кулаки
в бездонные карманы.
Они б их вынули, когда б
подобралась работа —
кули таскать бы на корабль,
сгружать товары с борта.
И вдруг, когда мы рядом шли,
к стене почти прижатые,
причину пареньки нашли,
чтоб вынуть руки сжатые.
И мы увидели салют,
известный всем рабочим,
а дальше новые встают
палаццо, между прочим.
«Флориан»
Мир голубей покрыл квадрат
камней святого Марка.
Брожу я с самого утра
от арок к новым аркам.
И вот кофейня «Флориан»,
и вспомнить ты успеешь,
что здесь садился на диван
синьор Адам Мицкевич
смотреть на разноцветный грим
и ленты карнавала…
Чего ж, о польский пилигрим,
тебе недоставало?
Недоставало с вышины
холмов смотреть на села?
Недоставало тишины
далекого костела?
Хоть тут и небо голубей,
и в лавках звон богатства, —
хотелось этих голубей
послать на Старе Място…
Рука поэта оперлась
на темно-красный бархат.
Вокруг Венеция неслась
на карнавальных барках.
Помпоны, длинные носы,
арлекинады краски
и фантастической красы
ресницы из-под маски.
Но вспоминает он корчму,
где, по цимбалам грянув,
мой прадед раскрывал ему
страну Ядвиг и Янов,
где ураганный этот звон
остался жить в «Тадеуше»,
и потому не смотрит он
на чернокудрых девушек,
на золотого, в звездах льва,
и в бархатной неволе
он шепчет про себя слова
тоски, обиды, боли.
Рассвет в Венеции
Я в шесть часов утра
шел утренней Венецией.
Сырой туман устлал
серебряный венец ее.
И кампанилы стан
тянулся в небо млечное,
одел ее туман,
как платье подвенечное.
Из сводчатых ворот
по уличке Спаддариа
шел заспанный народ
в сиреневое марево.
Шел, думая про стол,
шел с брюками опухшими,
вперед, не глядя, шел,
шел с головой опущенной.
Шел, ящики неся
в тратторию, к хозяину,
шел, зная, спать нельзя,
и не заснуть нельзя ему.
На солнечных часах
еще и тени не было,
и сырость, как роса,
закрыться шарфом требовала.
Ночные дамы шли,
с недосыпа осипшие,
металл незвонких лир
в свои карманы ссыпавши.
Шла бедность, шла нужда
на полдороге к голоду,
которой не нужна
экскурсия по городу.
А с каменных перил
смотрели птичьи головы:
то, в пух своих перин
уткнувшись, спали голуби.
На них садился снег,
как пух, еще не узнанный
являлись к ним во сне
кулечки кукурузные.
Все это в стороне
я вижу из тумана.
Вставать в чужой стране
рекомендую – рано.
Флаги
Венеция, красив твой флаг,
где лев на синем поле!
У стен со львами на углах
я двигаюсь в гондоле.
Канал или ладья сама
мой разум укачала,
но мне почудилось: дома
привязаны к причалам,
и эти – рядом, на мели
дворцовые громады —
в действительности корабли
таинственной армады.
Чья тень мелькнула на носу?
Кто искру в воду бросил?
А окна круглые внизу —
что, разве не для весел?
Но из бойниц наискоски
протянуты не пушки —
здесь на древке висят носки
и простыни для сушки,
гирлянды мокрого белья —
трусов, сорочек разных
от корабля до корабля
развешаны, как в праздник.
И, лепкой дивною богат,
дворец над гнутым мостом
стоит, как парусный фрегат
надутых ветром простынь!
Но вот блеснула и рука,
нет, ручка из оконца,
флажок батистовый платка
повесила на солнце.
И я увидел вензель «R»,
исполненный умело.
О, все понятно мне теперь:
он вышит для Ромео!
Я разгадал дворцовый быт,
проник в секрет фамильный,
в палаццо этом бак кипит
с водой и пеной мыльной.
И там, спиною к площадям,
с туманного рассвета
стирает, ручек не щадя,
на всю семью Джульетта.
Я ей желаю всяких благ,
плывя в своей гондоле,
пока на солнечных часах
спит лев на синем поле.
Палаццо дожей
В Палаццо дожей входим мы.
Но я осмыслил позже,
что значит эта фраза: «Мы
вошли в Палаццо дожей».
А это – в живопись войти,
где вздыбленные кони,
поверить в старые холсты
с Венецией на троне;
поверить в утреннюю синь,
в корабль под парусами
и в женщин с лицами богинь
и с рыбьими хвостами;
поверить в бронзовых рабов
перед узорной дверцей;
поверить в грозную любовь
с кинжалом возле сердца;
в мост Вздохов, в горестную дрожь
в предсмертном коридоре,
и в перстень, что бросает дож
в сверкающее море.
Узнав дельфина по хребту,
когда ладьи трясутся,
суметь поверить, что Нептун
трясет своим трезубцем;
поверить в умиленный взгляд
Мадонны на младенца,
в волхвов молящихся, в козлят,
упавших на коленца;
поверить в воинов, что тут
стоят в сплошном железе,
но верить не в господень суд,
а в гений Веронезе,
и не в тюремный сумрак дел,
рассказанных о дожах,
а в то поверить, что сумел
вообразить художник,
и в нашу сказку о Садко,
и в Гофмановы сказки.
Во все поверить здесь легко!
Так убеждают краски.
Рим в снегу
Мы в Рим приехали, когда
шел снег стеною с неба,
хоть создан Римский календарь
был без учета снега.
На Форум он валил с утра,
и в барельефы втерся,
и завалил собор Петра,
устлал кварталы Корсо.
Так, видимо, на новый Рим
разгневался Юпитер,
что стал он видом снеговым
похож на старый Питер.
И тут повысыпали вдруг
все гимназисты Рима, —
снежками целиться в подруг
и попадать, и мимо!
И не сердилась божья мать
в районе Ватикана
на то, что снег пустились мять
прохожие в сутанах.
Мы показали высший класс
игры под крики «браво».
По вкусу римлянам пришлась
московская забава.
И каждый брошенный комок
был свеж и полон света,
и он осмыслить нам помог,
что мы – одна планета.
А снег лежал, куда ни кинь,
и, обратясь к ухабам,
стояли статуи богинь
подобно снежным бабам.
Но сердце мне щемила мысль
о бедности озябшей,
о шеях без куниц и лис,
без выпушки под замшей.
И ветер изменил свой путь.
С утра по тротуарам
теплынью с моря стало дуть
и пахнуть банным паром.
И таил снег, теплом гоним,
и оползал с колонны,
и оказалось, что под ним —
Рим был вечнозеленым.
От дуновенья теплоты,
летящей с океанов,
пылали яркие цветы
на клумбах у фонтанов.
Пар подымался, словно дым,
от гордых пальм тропических…
Так я узнал типичный Рим
в условьях нетипических.
В редакции «L'Unitа»
Не церковь, не музей,
не камень обелиска —
тут просто дом друзей
незнаемых, но близких.
Я в теплой тесноте
столов, листков, заметок;
я – в Риме, в «Уните»,
в редакции газеты.
Тут собрался народ
из самой гущи буден;
тут дел невпроворот
насущных, нужных людям.
Тут угощали нас
напитком вроде виски,
печенье, суетясь,
носили машинистки.
Тут, плотный и земной,
одетый не по-графски,
за дружбу пил со мной
рабочий типографский.
И хлопал по спине
с понятным смыслом ласки,
чем объяснял вполне
слова по-итальянски.
Товарищ репортер
вел разговор с поэтом;
догадкам был простор —
что в слове том, что в этом?
И нет, не интервью
для прессы и вещанья —
от сердца оторву
листок я на прощанье.
Прощались, погостив,
с объятьями, как братья,
хотелось унести
в руках рукопожатья.
Потом мы вышли в Рим
к Мариа Маджиоре,
где мокрый снег покрыл
ее простор, как море.
Светилась темнота
от трубок газосветных,
светилась «L'Unitа» —
название газеты.
За снегом мокрых спин
звучал еще знакомей
понятный шум машин,
печатающих номер.
Звучал, звучал в мозгу,
как музыка, незримо…
Я увезу в Москву
вот этот вечер Рима.
Drоits d'homme [8]8
Права человека (франц.).
[Закрыть]
Какие главные права
у подданного Лондона?
Трава! Прежде всего трава,
ему бесплатно поданная.
Трава у банков и церквей,
колледжей и коттеджей,
чтоб лежа думать о своей
невесте и надежде.
Трава без надписей: «Не мять!»
Их нет. Не обнаружено.
Напротив, на траве лежать
не только можно – нужно.
Вот человек. Потертый твид
оклеили заплаты,
и выдает сей внешний вид
абстрактивизм зарплаты.
Но и в потертом рукаве
есть некая столичность;
свободно спящий на траве,
он – Индивид, он – Личность,
Возможность лечь глазами ввысь,
од звезды небосвода,
наводит лондонца на мысль,
что вот она – Свобода,
что при британском гордом льве
не так уж люди серы, —
по отношению к траве
все господа, все сэры!
Трава уравнивает их
в правах, законом данных,
но что до прав, совсем других,
здесь много грустных данных.
Одним приносит сталь и медь
большие обороты,
но есть свобода – не иметь
ни дома, ни работы.
Зато – трава! Зеленый мех,
где, точно на открытке,
так поздравительно на всех
взирают маргаритки.
Свидетель жизни островной,
пусть я сужу пристрастно,
но, Liberty [9]9
Свобода (англ.).
[Закрыть]одной травой
ты обошлась прекрасно!
А так – хорошая трава,
по ней приятно ходится.
Британии сии права
недорого обходятся.
Дома
Дома стоят, как люди, – разные.
Одни хлопочут перед садом.
Другие – брошенные, праздные —
молчат – им ничего не надо.
Одни – дымят из труб обугленных,
а в дождь готовы перепиться.
Другие – как старухи буклями —
свисают серой черепицей.
И есть дома с душою запертой,
и есть с душонкою прожженной,
и есть распахнутые запросто,
и есть дома-молодожены.
И есть дома – одни остались им
викторианские боскеты;
стоят вдвоем они до старости
и держат белые букеты.
А есть еще дома бездомные,
с отчаяньем в высоких окнах;
пустуют комнаты огромные,
как руки старых безработных.
Дома живут, дома стареются,
каминным сердцем пламенеют,
дома грустят, дома надеются,
дома робеют и не смеют.
А то им вместе слиться хочется
и шумно выйти на дорогу,
сходя с ума от одиночества,
хотят раскрыться и не могут,
И кисеёю закрываются,
прикрыв глаза после обеда…
А люди на траве валяются,
припав щекой к велосипедам.
На траве
Маргаритки росли в траве
рукоделием на канве;
после дождичка в четверг
спал я в Лондоне на траве.
Тучи двигались в синеве
на восток, может быть, к Неве;
так я думал, глазами вверх
лежа в Лондоне на траве.
Шпили множились в голове,
как Вестминстера дубль W;
в Девятнадцатый плыл я век,
лежа в Лондоне на траве.
В гости к царствующей вдове,
к деревянным столам таверн
путь держал я, глазами вверх
лежа в Лондоне на траве.
Но сквозь окна в сплошной листве
приплывал я опять к Москве,
к тишине подмосковных рек,
лежа в Лондоне на траве.
К золотой, в небесах, главе,
к недописанной там главе
я приплыл, не поднявши век,
лежа в Лондоне на траве.
В Лондоне
1
Был Лондон, был и есть.
Теперь я в это верю,
раз я имею честь
гулять по Рассел-скверу.
Был Лондон, был и есть.
И я в нем тоже «мистер»,
и есть и Ист и Вест,
Ист-Энд есть и Вестминстер.
А вдалеке, в Москве,
у церковки румяной,
казалось – Рассел-сквер
лишь место из романа,
лишь лист из БСЭ
с парламентом, с туманом…
Так, Лондон есть? – Yes, сэр,
он здесь, и без обмана.
Он здесь – огромный центр
компаний и колоний,
он – «Таймс» с колонкой цен,
он – Нельсон на колонне,
он – город королев,
где мирные, как пони
единорог и лев
приставлены к короне.
Он – город часовых
в давнопрошедших позах,
подстриженной травы,
живых головок Грёза,
ораторов в садах,
седеющих спортсменов
и стрелок, что всегда
дрожат на «переменно».
Он – всем известный вид
из книжки «Принц и нищий»,
он – магазин, где твид
из клетчатой шерстищи,
он – город деловой,
он – котелок и зонтик.
Он – Лондон. У него
нет никаких экзотик.
2
Да, Лондон был и есть
при Тауэре, при Темзе,
хотя не перечесть
к нему моих претензий,
что он, как человек,
застрявший в прошлом веке,
его Двадцатый век
похож на Fin de Siècle.
И Лондон погружен
в себя же, то есть в Лондон,
и в ресторане он,
как проповедь, преподан
о том, как надо сесть,
как пудинг есть, как поридж…
Да, Лондон был и есть.
Его не переспоришь.
Есть фирмы —…Сын и К о,
камины в каждом доме,
и равнодушье ко
всему на свете, кроме
столицы островной,
где правят англичане,
к которой остальной
весь мир – лишь примечанье.
И чинный клерк сей мир
просматривает мельком;
мир набран, как пунктир,
петитом самым мелким.
А Нил? А Кипр? А Крит?
И это вроде мир же!
Нет, он ему закрыт
столбцами сводок биржи.
3
А все же Лондон есть
прекрасный и воскресный;
он как театр без мест,
но с уличным оркестром.
И в кружку горсть монет
мне было бросить лестно,
притом, что нищих нет
в сословьях королевства.
Рабочий класс, ты где?
Бастуешь, или терпишь,
или про черный день
на сердце порох теплишь?
Но ты в раю надежд,
в саду старинной песни,
в рассрочку твой коттедж,
есть пенсия, есть пенсы,
есть, наконец, трава,
чтоб отдохнуть на славу.
Но где твои права?
А Лондон – твой по праву.
4
Да, Лондон был и есть,
каким в прошедший век был,
и захотелось сесть
в вагон, идущий в Мегби,
по шпалам сквозь туман
пробраться незнакомцем
в тот Диккенса роман,
что так и не закончен.
Не плохо и с толпой
спуститься в Антерграунд, —
там каменной трубой
к тебе стихи нагрянут…
Но чтобы сверху вниз
узнать его серьезно —
понадобится жизнь
подробная, как проза.
Да, приоткрыть бы дверь
в уединенный домик,
где жизнь уже теперь
не диккенсовский томик,
да и не те сверчки…
Но и узнать не просто,
как чувствует толчки
подземные сей остров.
5
Да, Лондон был и есть,
и, несомненно, будет.
И про него Гефест,
конечно, не забудет.
Но должен он учесть
шарообразность света,
что, кроме этих мест,
вокруг него – планета;
что общей этот шар
окутан атмосферой,
что если где пожар,
то всюду пахнет серой,
и если гром, то весь
он сотрясает воздух,
а жить нам – только здесь,
а не на дальних звездах.
И должен он понять,
помалости трезвея,
что мир – не экспонат
Британского музея.
Об этом факте весть
ему принесть – я волен.
А тем, что Лондон есть, —
гуд морнинг, я доволен.
Будущим людям
Над самолетом – солнце близко,
внизу – туманная погода.
А я в уме писал записку
друзьям двухтысячного года.
Мы с вами, будущие люди,
все разберем и все обсудим,
и все поправим, все наладим, —
мир будет светел и наряден.
И пусть в другом тысячелетье
нет наших нынешних знакомых, —
мы в этом новом Новом Свете
себя почувствуем как дома.
Пусть трудно тем, кто был допущен
смотреть и вглядываться дальше,
перед стихами о грядущем —
высотные громады фальши.
Но что в своей семье стесняться, —
теперь вы знаете, что делать,
а ваши дни нам часто снятся,
как Вере Павловне в «Что делать?».
И мы ведь были сном о чуде,
ведь до семнадцатого года —
такие ж «будущие люди»
мы с вами были для народа.
За век до штурмов и нашествий,
свой горький день опережая,
писал те главы Чернышевский
с целинных наших урожаев.
Для нас знаменами алели,
в подполье с Лениным трудились,
себя для нас не пожалели,
чтоб завтрашние мы родились.
И впредь – у вас над головами
такое ж точно солнце будет,
ведь мы одно и то же с вами,
родные будущие люди.
У вас такие ж точно руки,
и вас мы кличем, зааукав;
вы – наши дети, наши внуки,
вы – наши дети наших внуков.
Тут бой идет грознее Библий,
тут нами строится преграда,
чтоб ваши бабки не погибли
от термоядерного ада.
Для вас мы выходили в поле
под шум уборочных орудий,
чтоб вам не знать голодной доли,
родные будущие люди.
На этом свете ненаглядном
нам приходилось ушибаться;
мы ошибались так наглядно,
что вам легко не ошибаться.
Но мы за будущее бились,
за вас, железом и словами,
чтоб матери в отцов влюбились,
чтоб забеременели вами;
чтоб кислород остался тем же,
каким он был от Сотворенья,
у нас в Москве, у них на Темзе,
у всех – на Сене и на Рейне.
Ведь ваших сыновей дыханье
мы отстояли в этом веке…
Так посидите над стихами,
закрыв воспоминаний веки.
Их написал я над Ла-Маншем,
под гул винтов, во время круга…
Друзья, давайте будем раньше
сквозь время узнавать друг друга!
Остров Маргит
Острова на Дунае…
Я живу на одном.
Парк стоит, затеняя
мой гостиничный дом.
Клены чем-то похожи
на слоновьи ступни
и морщинисты кожей.
Много помнят они.
Их огромные кроны
шире этих небес;
я любил, удивленный,
их зеленый навес.
Рядом – скошенный бархат
с маргаритками в нем,
скамьи острова Маргит,
пустовавшие днем.
Дальше – место оркестра,
островной ресторан;
там плетеные кресла
прислонились к столам.
По утрам никого нет,
листья падают с крон,
скрипка утром не стонет,
но ворчит саксофон.
Парком острова Маргит
с тихим шепотом шин
шли новейшие марки
иностранных машин.
Выходили из дверец,
под органный сигнал —
в черной паре венгерец
выходить помогал.
Я по острову Маргит
только утром ходил;
лишь в пустеющем парке
я был не один.
Там секретничал шелест,
птица каплю пила,
лезли вверх, копошились
муравьи у дупла.
В круглых ракушках слизни
облепляли ростки…
В этой временной жизни
не знал я тоски.
Только вечером, только
скрипкой взмолится джаз,
и толпа среди столиков
запестреет, кружась,
и заполнятся скамьи,
пустовавшие днем,
где, обвившись руками,
сядут только вдвоем,
только губы прижмутся
к потемневшим плечам
и признанья начнутся
под смычком скрипача, —
из-под клена ночного,
постояв в стороне,
одиночество снова
подходило ко мне.
Начинало сначала,
повторяло все то,
что уже откричало,
превратилось в ничто,
убеждало, тревожа,
шепотком укоризн…
Что же временно? Что же
настоящая жизнь?
Панорама иллюзий —
кленов, замков, реки
или, свитые в узел,
две далеких руки?
Но и вечер не вечен, —
тихнет берег речной;
остров Маргит увенчан
наддунайской луной.
И опять никого нет,
звезды падают с крон,
скрипка больше не стонет,
не ворчит саксофон.
Ночь на острове Маргит,
сон кленовых вершин,
спят новейшие марки
иностранных машин.
Ни шагов, ни оркестра.
Глухо в сердце моем.
Вот – еще одно место
здесь, на шаре земном.