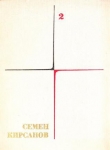Текст книги "Собрание сочинений. Том 1. Лирические произведения"
Автор книги: Семен Кирсанов
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 9 страниц)
Семен Кирсанов. ТОМ ПЕРВЫЙ.
Лирические произведения
Предисловие

Стихи семнадцатилетнего Семена Кирсанова (настоящая фамилия – Кортчик) впервые были напечатаны в 1923 году и сразу же привлекли внимание читателей и критиков, стали предметом острых споров. И это естественно: они давали основу для уяснения природы стихового новаторства, а эти проблемы постоянно волновали нашу поэзию.
Новое возникает в искусстве, как и в жизни, постоянно. И в прошлые годы художники слова подтверждали свои права и верность избранному ими делу, совершая открытия, обогащавшие представления читателей о жизни. Но бывают такие эпохи, когда необходимость, потребность нового провозглашаются настойчиво и последовательно, становятся девизом и точно намеченной целью. Так жила, так действовала с первых дней своего существования и молодая советская литература. Поэты разного склада, облика, темперамента ощущали себя разведчиками, искателями, осваивающими неизведанные просторы действительности, вызывающими к жизни свежие силы стиха, участвующими в строительстве нового мира.
«Надо рваться в завтра, вперед!» – восклицал Маяковский. «Стволы рубцую знаками разведки, веду тропу, неутомим, чтобы товарищ меткий воспользовался опытом моим», – говорил Тихонов. «Давайте снова новое любить начнем», – звал Асеев. А за этими лозунговыми, программными, будто курсивом написанными и произносимыми строками возникал крепкий массив стихотворений и поэм, отчетливо освещавших человеческие характеры и отношения и свидетельствовавших о том, как много доподлинно первозданного в нашей жизни, как необходимо беречь и растить эту социалистическую новь!
Кирсанов был еще молод, когда, начиная стихотворение «Поиск», так представлялся читателю:
Я, в сущности, старый старатель,
искательский жадный характер!
А несколько десятилетий спустя он снова задумывается над тем, «что такое новаторство», и старается найти возможно более точное определение, «чтобы от старого новое отделять, как руду». Как видим, поиски нового продолжались постоянно, потому что движение жизни не прекращается ни на мгновение.
Но вместе с действительностью изменяются и искатели. Они добывают опыт и навыки, отбрасывают представления незрелые в поверхностные, к ним приходят уверенность и сознание ответственности. И новое укрепляется в их стихах, становится их естеством, их сутью, а не внешним признаком, не преходящим упоминанием.
Этот упорный и благодарный труд стал основою, смыслом поэтической биографии Семена Кирсанова. Предвестием предстоящих трудов и открытий оказался для поэта «Разговор с Дмитрием Фурмановым», написанный вскоре после смерти замечательного революционного писателя. Жизненный центр этого стихотворения – беседа создателя «Чапаева» и «Мятежа» с молодым дебютантом, еще только что начинавшим свою биографию. Здесь запечатлены и подробности отшумевших литературных споров тех лет, ныне по преимуществу занимающие лишь историков, и значительно более существенные мотивы, касающиеся самой сердцевины образного творчества, его определяющих принципов. Отвечая своему собеседнику, интересующемуся тем, как писалась «Конармия» («В чем, черт возьми, загадка Бабеля?»), приехавший из Одессы поэт со страстью и убежденностью – признаться, неожиданной, непредвиденной! – произносит пылкую тираду, восторгаясь суровой и строгой прозой Фурманова. Он склоняет голову перед подвигом своего собеседника – реальным, жизненным, который стал основою подвига творческого: «И ввинчен орден до костей, и сердце просверлил!» Подлинность героического – вот что поднято и утверждено в этих жарких строках, привлекательных своей очевидной искренностью и увлеченностью.
А между тем поэту, так восторженно восклицавшему: «Я на лазурь не променял бы ваш защитный цвет!» – пришлось пройти путь сложный и долгий, прежде чем добыть и освоить то, что так восхищало и манило его, представлялось с полным на то основанием таким прекрасным и ценным. Произнесенные им осуждающие слова о «громе фанфар», о расцвеченных и украшенных строках могли быть отнесены и к нему самому, когда с виртуозным щегольством, с неистощимой изобретательностью он конструировал разнородные фонетические композиции. «Колокола. Коллоквиум колоколов» – так начинает он стихотворение «Бой Спасских». Составляя «Девичий Именник», рифмует: «Оленей – Елене», «Анастасья – иконостасья», «Анна – мембрана»… Рассказывая в «Букве Р» о том, как избавлялся от картавости, с удовольствием ставит подряд рокочущие, рычащие слова: «Рамка! Коррунд! Карборунд! Боррона!», а далее следуют «звуковые характеристики», написанные по самым различным поводам. Здесь и «Погудка о погодке», и «Германия», и «Красноармейская разговорная». В каждом случае поэт находит соответствующие звукосочетания, ритмы, рифмы… Иногда они соответствуют настроениям, господствующим в стихе, его внутреннему движению, иногда имеют лишь внешнюю связь.
Много лет спустя, открывая книгу «Искания» (Стихотворения и поэмы, 1923–1965), Кирсанов писал: «В утренние мои годы меня влекли к себе не только подмостки митинговых аудиторий, но и арена цирка, где хотелось перелетать с трапеции на трапецию головокружительных рифм. Я искал слова быстрого и точного, отважно пробирающегося по канату темы». Признание это нет надобности оспаривать. Особенного внимания здесь заслуживает характеристика отношений меж словом и темой. Они существуют самостоятельно, лишь соприкасаясь, и притом довольно бегло, причем тема остается пассивной опорой для словесных прыжков. Беспощадно строгая оценка собственного прошлого!
Но в ту же давнюю пору Семен Кирсанов написал стихотворение «Поиск», где утверждал, что вышел на поиск душевных богатств и искать их будет «не в копях, разрытых однажды, а в жилах желанья и жажды», и обещал «заглядывать в души к товарищам, мимо идущим». Так, несмотря на видимую уверенность и, казалось бы, незыблемое ощущение собственной правоты, он еще проверял, устанавливал принципы своей поэзии. И сказывались здесь отнюдь не только особенности его творческой судьбы, но и противоречия, дававшие себя знать в деятельности существовавших тогда литературных групп. Активным, хотя и юным участником одной из них был Кирсанов, который вместе с Маяковским и Асеевым входил в «Левый фронт искусств». Он объявил себя лефовцем еще до того, как покинул свой родной город – Одессу. Здесь поэт встречался с Багрицким и Катаевым, читал им свои первые стихи. Решающей оказалась встреча с Маяковским, приезжавшим в Одессу в начале 1924 года. Москвичом Кирсанов стал почти два года спустя, но уже до этого в первых номерах журнала «Леф» печатались его стихи.
Говоря о «Лефе» – так же как и о других литературных объединениях 20-х годов, – о противоречивых и путаных положениях его программы, надобно помнить и о том, как часто и решительно опровергали ее своими поэмами и стихами поэты, ее подписывавшие. Широта взгляда, мысли, переживания, ощущение личной, кровной причастности ко всему происходящему и изображаемому – вот источник обаяния, таившегося в «Хорошо!» и «Про это» Маяковского, «Свердловской буре» и «Русской сказке» Асеева, поэмах Пастернака о революции 1905 года. Здесь-то и давала себя знать великолепная новизна поэзии, рожденной борьбой за социализм.
Семен Кирсанов имел замечательных старших товарищей, соратников и ценил, понимал это. В стихотворении «Маяковскому» он писал со свойственной ему экспрессией:
Я счастлив, как зверь, до ногтей, до волос,
я радостью скручен, как вьюгой,
что мне с командиром таким довелось
шаландаться по морю юнгой.
А несколько лет спустя его стихотворение «Асееву» было начато нежными и благодарными словами:
Какая прекрасная легкость
меня подымает наверх?
Я – друг, проведенный за локоть
и вкованный в песню навек.
Дружба была обоюдной. В собрании сочинений Маяковского не однажды встречается: «Написано С. И. Кирсановым при участии Маяковского». Асеев, посвятив стихотворение «Шум Унтергрундена» – о берлинской подземке – «Всем молодым в лице Семы Кирсанова», писал далее: «Такую бы к нам, в Москву, на радость Кирсанову Семке», – и обещал: «Мы построим не сумрачный ужас, а спокойно сияющий свет!»
Строки эти датированы 1928 годом, а семь лет спустя, словно подтверждая реальность обещания, данного старшим другом, Кирсанов пишет уже о построенном метрополитене: «Малиновое М – мое метро, метро Москвы». И тотчас же, будто захваченный внезапно открывшейся перед ним возможностью блеснуть своей ловкостью, берется подбирать слова, начинающиеся на букву «М». Все это выглядело детской забавой, безделицей, кстати сказать, на сей раз и не слишком-то искусно выполненной. Ему долго потом вспоминали эти строки, видя в них образчик формалистического «штукарства». Между тем здесь скорее пригодно определение, брошенное несколько времени спустя самим поэтом: «Вот песенка легкого веса», – так начал он одно из своих стихотворений. Именно эти слова вполне могут быть использованы для характеристики иных страниц молодого Кирсанова.
Его старшие товарищи остро ощущали и отлично владели выразительными свойствами стиховой речи. Пафос словоосвоения, словоовладения, если так можно сказать, был хорошо известен и Кирсанову. В те же молодые годы он от имени сверстника-лингвиста славил «сады словарей» и видел, как «лес подымался, а речь ликовала», – лес живых слов, речь многоцветная и обильная оттенками. Он считал себя мичуринцем, выращивая «гибриды» – «деревья-слова». Но, увы, употребляя его же термин, признаем: такая речь не всегда была «зимостойкой». Настоящая новизна давалась ему, когда движущей силой его стиха становилась поэтическая мысль, подлинное переживание, напряженность жизненных связей.
Кирсанов всегда был деятелен, и замыслы, им осуществляемые, – смелы, обширны, разнообразны. Об этом свидетельствует и композиция этого четырехтомного собрания его сочинений. В каждом из томов поток стиха устремляется по новому, особому руслу. В одном случае определяющее место занимает лирика; в другом – преобладают мотивы и коллизии фантастические; в третьем – господствует поэзия открытой, прямой гражданственности; в четвертом – на передний план выступают поисковые устремления, настойчиво дает о себе знать энергия стихового новаторства. Конечно, подобное подразделение не может быть жестким, строгим, – в нем есть некоторая условность. Но все же оно свидетельствует о том, что стихи и поэмы Кирсанова движутся фронтом развернутым и вместе с тем все более единым, сплоченным.
Все чаще поэт задумывался над тем, «как выхватить из жизни – жизнь», «как выразить те этажи, те сюртуки, ту мебель, места, в которых ты не жил, года, в которых не был». Этот упорный поиск точных и впечатляющих, властных и верных слов длится в поэзии непрестанно. Без него непрочны успехи, невозможны открытия.
В конце 20-х – начале 30-х годов Семен Кирсанов обратился к сказке и достиг удачи. Работая над «Моей именинной» (1927) и «Золушкой» (1934), он оказался в родной стихии. Свойственные ему остроумие, любовь к фантазированию пригодились здесь как нельзя более, позволили обновить, перетолковать старые сказочные фабулы. И вот уже в «Моей именинной» он весело пародирует Андерсена, Афанасьева, Гофмана, проводит своего маленького героя сквозь сонмища игр, пестроту одежд, волшебство лекарств – и все это забавно, живо, изобретательно. А в «Золушке» найдено и сквозное действие: бедная девушка из тьмы и чада мачехиной кухни выходит на просторы свободной, умной, реальной жизни, и этот переход к современности совершается без какого либо упрощения потому, что решения, предложенные рассказчиком, остроумны и поэтичны.
И все же эти встречи со сказкой не могли стать единственным путем Кирсанова. Он искал общения с современниками в своем стихе, и оно должно было быть все более близким, сердечным, серьезным.
Тридцатые годы в нашей поэзии были временем подъема лирики. Утвердилась и распространилась замечательная способность вести речь о жизни народа, жизни страны, как о своей жизни, охватывать душевным движением события, судьбы, исторические свершения, находить в них источник переживания, которое, как известно, и есть основа, суть лирики.
К Семену Кирсанову лирика пришла в печальном, горестном обличье. Написанная в июне 1937 года «Твоя поэма» рассказывала о тяжелой поре, о смерти любимой подруги. Это был непрерывный скорбный монолог, безудержное излияние чувств, предельно откровенная, доверчивая речь. Отличали поэму и обретенная чистота тона, душевная достоверность. Автор здесь с особым, пришедшим к нему волнением произносил «все те слова, которыми нельзя солгать». С одинаковым напряжением и убедительностью он воспроизводил и последние минуты прелестной, юной женщины, дорогой его сердцу, и тоску, которая его охватила с сокрушительной, казалось бы, непреодолимой силой, и еще более мощную власть жизни, которая обернулась
желаньем – отстоять Мадрид!
Желаньем, чтобы этот стих
шагал за нею вслед и вслед,
желаньем – сына в двадцать лет
к присяге красной привести.
Так пережитое несчастье словно отворило сердце поэту, открыло ему доступ к свободному и полному выражению своего душевного мира, а вместе с тем и окружающего строя чувств, помыслов, стремлений.
Открытие новых путей обычно бывает и началом новых поисков. Кирсанов, должно быть, ощутил, что теперь приспел срок осуществить ранее данное обещание «заглянуть в души к товарищам, мимо идущим». В эту верную сторону направлены его усилия. На этой трудной дороге поэт действительно занят не экзерсисами, не версификационными упражнениями, а серьезными экспериментами. Завершаются они по-разному, но интерес, значение их очевидны и тогда, когда мы забываем о том, ради чего они производятся, что подготавливают, и оцениваем их безотносительно к последующим работам писателя.
«Поэма поэтов» (1939–1956) – это отважная попытка выступить перед читателем в нескольких обликах сразу, не раздвоиться даже, а «расшестериться», то есть говорить от имени шести молодых поэтов, проживающих в одном и том же городе Козловске, но меж собою совсем не схожих. Начиная поэму, рассказывая о тетрадях, доставленных ему почтальоном, автор сразу же подчеркивает эту несхожесть.
Кирсанов очерчивает своих героев с различной степенью отчетливости. Клим Сметанников – агроном не только по профессии, но и по призванию, и все его стихи несут в себе самозабвенную любовь к природе, возделываемой и обрабатываемой на потребу человеку. В стихах Варвары Хохловой все душевные состояния свидетельствуют о том, что перед нами очень молодая девушка, застенчиво и доверчиво вступающая в жизнь. В тетради Андрея Приходько все подчинено одной драматической коллизии: перед нами слепой юноша – прозрение приходит лишь в финале, – старающийся не пасть духом и терпеливо, с благодарностью говорящий о том, что скрашивает, смягчает его трудное существование. Остальные три поэта имеют уже признаки чисто профессионального, литературного порядка: один из них увлечен созданием «экстрактов» и рассматривает человеческие побуждения в их «концентрированном» виде; другой демонстрирует возможности, таящиеся в раешнике, на границе стиха и прозы, показывает, что и этот жанр может быть гибок, изящен, поэтичен; третий прихотлив, изменчив, его тянет к острословию, к звукожонглированию, – можно считать, что здесь «воскресает» Кирсанов 20-х годов; впрочем, и два предыдущих поэта тоже являются в некотором роде ипостасями своего создателя. Так, рядом с людьми, имеющими всамделишную, самостоятельную судьбу, поэт поставил свои собственные творческие наклонности и симпатии, находящие воплощение в его стихах.
Можно предполагать, что Семен Кирсанов, ведя свои поиски на различных уровнях и разными средствами, предвидел возможность промахов, неполных удач и не боялся их. В этом нас убеждают его слова: «Предчувствие будущей войны отлилось в поэму „Герань – миндаль – фиалка“ (1936), показавшуюся тогда неправдоподобной. И действительно, в жизни война оказалась другой, чем в фантастической поэме. Но что-то было угадано, и за эти угаданности я помещаю ее среди новых своих вещей».
Так же мог бы он охарактеризовать и написанную двумя годами раньше – в 1934 году – «Поэму о Роботе». И здесь высказаны многие предположения, одни из которых подтвердились, другие – нет. Однако домыслы поэта во многом опередили, предсказали те гипотезы, которые получили такое широкое распространение в книгах фантастического жанра двух последних десятилетий. Но строки, заключающие эту поэму: «Живая и добрая наша машина, стальной человечий товарищ!» – таят в себе очень доброе и точное, вполне современное, рожденное в нашей стране отношение к технике, и оно-то вполне реально и достоверно.
Здесь, как и во всей работе Кирсанова, существенное влияние всегда оказывало, как он сам его называл, «желание быть на гребне событий». Своей строкою он постоянно стремился откликнуться на злобу дня, и постоянное следование за текущими событиями, естественно, воспитало в поэте чуткость ко всему, что привлекает внимание нашей страны, входит в жизнь современного человечества.
Вот почему он уже в 1936 году пишет поэму «Война – чуме!», многие строфы которой примечательны своей проницательностью. Распространенное тогда речение – «фашистская чума» – стало для поэта опорной метафорой; он развернул ее в повествование сказочное и одновременно злободневное. На этот раз мотив фантастический – заговор крыс, распространяющих чуму, их нападение на Ваню и Машу – послужил раскрытию насущно важной политической темы, обличению захватнических замыслов немецкого и японского империализма.
И еще одна поэма, проникнутая ощущением надвигающейся войны, была написана Кирсановым в дни мира. «Ночь под Новый Век» (декабрь 1940 г.) рассказывала о тех, кто будет, встречая новое столетие, глядеть на людей «сороковых и пятидесятых», вспоминать их труды, дивиться их подвигам. В подобной перетасовке времен имелся свой смысл: предвидя приближение серьезных столкновений, трудных лет, поэт подчеркивал их напряженность, их значение, доверяя слово потомкам. Так выдвигались критерии высокие и строгие, те, что должны найти применение во всех областях человеческой жизни, и в поэзии также. «Стих мой! – с надеждой и тревогой восклицал Кирсанов. – Как бы тебе дорасти до такой озаренности слов неожиданности и новизны?» И эта забота о сильном, «озаренном» слове была подсказана тем же предчувствием близящихся испытаний.
Именно эта духовная «отмобилизованность», определявшая облик советской литературы в предвоенные годы, позволила нашим поэтам и в пору самых суровых, тяжких битв Великой Отечественной войны сочетать боевую оперативность стиха с нравственной, гражданской широтой и долговременностыо замыслов и решений. Вот и Кирсанов в своей поэме «Эдем» (1945), названной им «Дневником начала войны», изображает бомбежки и перестрелки красками чуть ли не апокалипсическими, лишь для того, чтобы рельефнее выразить смысл развернувшейся грандиозной битвы. «Я мог под Москвою увидеть своими глазами убитого нами Врага Человечьего Рода», – торжественно провозглашает он. И далее, опять и опять соединяет в своей строке фантастическую грандиозность измерений с достоверностью сугубо реальных примет и подробностей. «В ночь войны», ясно видя «новый день – радужный, земной, послевоенный», поэт знал, какими великими усилиями добывается победа, какой безраздельной отдачи она требует. И заключал свой «Дневник начала войны» словами поэтической присяги: «Со мной и походная лира и твердая рифма штыка».
И точно: его «Заветное слово Фомы Смыслова», распространявшееся листовками в годы войны, получило широкое признание в Действующей армии. Рассказывая о том, как ведут себя бойцы в атаке, или доказывая, что «с умелым бойцом победа дружит», поэт приводил в действие живость, доходчивость, подвижность рифмованного слова и добивался искомой цели; он заключал свою беседу дружеским обращением: «Читайте, запоминайте, Фому добром поминайте!» Традиции старого русского лубка, и ранее осваиваемые Кирсановым, например, в «Поэме поэтов», здесь получили живое, полное смысла развитие. Возникал характер, – в Смыслове бойцы видели друга, товарища, чье слово было им дорого. Тому подтверждение – миллионы листовок и сорок тысяч писем-откликов.
А вместе с тем за время войны укрепляется в поэзии Семена Кирсанова проникновенная отзывчивость, серьезная и сосредоточенная сердечность. Ее он открыто и убежденно утверждает в стихотворении «Творчество», сюжет которого почерпнут из армейского обихода (хирург, спасший бойца и упавший сам бездыханным после того, как снова забилось сердце им оживленного) и служит основою далеко идущего вывода:
Понял я, что нет на свете
выше, чем такое,
чем держать другое сердце
нежною рукою.
В подвиге хирурга поэт видит норму поведения для каждого человека, кем бы он ни был, каким бы он делом ни занимался. И, конечно же, для того, кто решается обращаться к другим людям со словами признания и доверия, то есть для поэта. Потому что «это в жизни, это в песне творчеством зовется». Писатель продолжает вести поиски на разных направлениях, но каждый новый шаг, им сделанный, свидетельствует об истинности именно тех принципов, которые он сам только что определил с такой убежденностью, сказав о том, что есть творчество.
Можно подивиться той неутомимости, с которой Кирсанов, стремясь подойти на возможно короткую дистанцию к своим героям, установить с ними наиболее близкую связь, нащупывает, меняет различные подходы. В поэме «Александр Матросов» (1944–1949) он тщательно, с несвойственной ему прежде обстоятельностью воспроизводит биографию отважного юноши. В поэме «Небо над Родиной» (1945–1947) снова обращается к сказке, к фантасмагории, предоставляя слово для оценки совершенного летчиком подвига – облакам, ветру, капле, птицам. В поэме «Макар Мазай» (1947–1950) смело вводит в стих описание производственных процессов, рассказывая о делах знаменитого сталевара.
В каждой из этих книг мы обнаруживаем строки, рождающие ответный отклик. В «Александре Матросове» нас трогает желание поэта сделать так, чтобы сам «Матросов рассказывал о себе в удивленном кругу: как решил поползти, как проскальзывал между голых кустов на снегу»; в «Небе над Родиной» – подвиг летчика, выбирающего «самый трудный путь – атаки с высоты»; в «Макаре Мазае» – изображение поединка меж сталеваром и печью, да и все другие сцены, в которых запечатлен творческий поиск героя.
В эти же первые послевоенные годы утверждается в поэзии Семена Кирсанова традиция, которая так обещающе выступала в «Разговоре с Дмитрием Фурмановым», в «Твоей поэме», в «Творчестве». В 1947 году появляется стихотворение «Лирика». Опорной точкой здесь оказывается мгновенная встреча в метро с плачущим незнакомцем:
Человек стоял и плакал,
комкая конверт.
В сто ступенек
эскалатор вез его наверх.
Горе прохожего – источник острого переживания, повод для раздумий поэта о своей работе, о высоком назначении стихового слова.
Подойти? Спросить: «Что с вами?» —
просто ни к чему.
Неподвижными словами
не помочь ему.
Может, именно ему-то
лирика нужна.
Лирика здесь противостоит «неподвижным», поверхностным, холодно подобранным словам; ее высокое призвание признает поэт, доверяет ее умению поднимать, укреплять, сплачивать людей.
Пусть она беду чужую,
тяжесть всех забот,
муку самую большую
на себя возьмет.
Автор здесь далек от логических, строго выверенных определений. Во всех своих частях стихотворение это остается поэтическим обобщением, иносказанием. Речь идет не только о том, что лирика «скорой помощью, в минуту, подоспеть должна», но и о том прежде всего, что она обладает замечательной способностью нравственного воздействия.
Лирически проникновенны не только стихи, но и поэмы.
«Езда в Незнаемое» (1950–1952) – своего рода поэтический комментарий к знаменитой «формуле» Маяковского: «Поэзия – вся! – езда в Незнаемое». Здесь прослежено нынешнее инобытие великого поэта, мощное воздействие его строк, их деятельное участие в сегодняшних боях и трудах. И после сжатого, впечатляющего образа творческих подвигов и деяний – решительный вывод: «Это вот и есть, товарищи, поэзия!»
Поэма «Вершина» (1952–1954) построена совсем по-иному. Она имеет сюжет, одновременно и достоверный и иносказательный. Рассказ о завоевании одной горной вершины Памира оказывается вместе с тем и осмыслением путей, ведущих к вершинам нравственным, душевным. Идеи социалистической современности познаются в жизненной гуще; недаром поэт вспоминает и о красном знамени над рейхстагом, и о работах, соединивших Волгу с Доном. Но и в малолюдстве безмерных высот действуют те же благородные принципы человеческой общности, свято соблюдается «приказ любви, приказ присяги, страны, звезды на красном стяге». Мысленно пережив новые для него испытания, писатель еще острее ценит окружающий мир, и рассказ его завершается словами нежными и благодарными.
Здесь-то и проходил путь подлинного новаторства, требующего сосредоточенных раздумий и исследований. Кирсанову, должно быть, стали просто не интересны фонетические и ритмические эффекты. Он их оставил мальчикам в забаву. И надо сказать, что некоторые «мальчики», дебютировавшие во второй половине 50-х годов, с охотой этими «забавами» занялись, нимало не стесняясь или не замечая своего эпигонства. Им стоило бы прислушаться к словам Кирсанова, недавно сказанным: «У поэтов зависимых, назовем их последователями… язык – конь, ритм – всадник».
Стих Семена Кирсанова, нимало не теряя своей подвижности, гибкости, отточенности, вместе с тем становился все более насыщенным, емким, напряженным. Именно такой стих нужен был поэту для решения сложных задач, поставленных им в порядок своего рабочего дня. Самые добрые и верные стремления, отнюдь не сразу пробившиеся, постепенно утверждавшиеся в его стихе, теперь выразились ясно и многосторонне. Перед нами был мастер зрелый и деятельный, по-новому настойчивый, сосредоточенный, по-прежнему неутомимый. В самом деле, и в 50-х и в 60-х годах его стихи и поэмы движутся широким фронтом. В этой смене мотивов и подходов есть своя последовательность.
В «Ленинградской тетради» (1957–1960) он любуется золотым корабликом на Адмиралтейской игле, мостами, перекинутыми через реки и каналы, львами и сфинксами, украшающими невские берега, золотыми статуями Петергофа… Но в каждой из этих записей присутствует «дополнительная» тема, переживание, рождаемое той или иною встречей. Поэт сочувствует кораблику, не трогающемуся с места, «без рейсов и морей», но тут же вспоминает о том, что в этой эмблеме воплощено движение историческое; наблюдая за тем, как разводят мосты и меж ними проходит «громада корабля, два берега деля на разных две судьбы», обращается мыслью к горестному разладу, возникающему в отношениях человеческих, завидует гранитным фигурам, что, не дрогнув, переносят «обидные пинки, насмешливую брань», а проходя среди фонтанов, иронически спрашивает: «Что же, лучше человек, когда он позолочен?»
Так через всю «Ленинградскую тетрадь», перекликаясь, поддерживая и оттеняя друг друга, идут два ряда впечатлений – пластический, визуальный и нравственный, душевный.
Я заглянул в глаза
и сердце Ленинграда —
он миру показал,
как жить на свете надо.
В этих словах, произнесенных уже в поезде, уносящем поэта в Москву, – итог памятных встреч, которые обогатили его не только новыми фактами, но и позволили острее ощутить сложное взаимодействие зримой красоты и душевного благородства. С еще большей очевидностью оно открывалось ему в родной Москве, где древний и вечно юный Кремль «диктует новизне урок воображения». Дорого стоят эти слова, произнесенные писателем, всегда радевшим о новизне, упорно постигавшем и постигшем ее природу!
И в «Стихах о загранице» (1956–1957) рельефность зарисовок соединяется с поиском внутренним, мыслительным. Сказав в начале пути: «И раскрыто сердце заранее – удивлению, узнаванию», – Кирсанов в дальнейшем и в самом деле с азартом выкладывает один «мгновенный снимок» за другим. Но тут же возникает потребность задуматься над всем виденным. И тогда он видит не только «лак», но и «гниль», тогда он изумленно признается: «Во мне возник прозаик». Что это – отказ от стиха? Нет, иное: «Вторгаться я обязан в жизнь, она важней мозаик!» И стих выполняет эту задачу образного вторжения в жизнь: за «кулисами» венецианских дворцов стоят безработные парни и их пальцы складываются в «салют, известный всем рабочим»; в кафе «Флориан» встает тень Мицкевича, страдавшего здесь «в бархатной неволе»; в редакции «L’Unita» происходит беседа, крепко-накрепко врезающаяся в сердце московского поэта. И далее в стихах следуют одна за другой картины западноевропейской действительности, оцениваемой нашим соотечественником.
В циклах «Этот мир» (1945–1956), «Под одним небом» (1960–1962), в поэме «Следы на песке» (1962) Кирсанов также ведет стих свободно и раскованно, словно прошивая сквозным действием различные планы поэтического повествования. Без какой-либо натяжки, непринужденно и властно, он измеряет планетарными масштабами простейшие и сложнейшие человеческие чувства и запросто обживает космические пространства, чувствуя здесь себя, как в родном доме. Дерзкий взлет метафор оправдан, потому что в нем схвачено естественное становление доброго, чистого, нежного чувства. Рядом с взволнованными строками, передающими самые возвышенные стремления, дышащими озонированным воздухом, появляются строки пытливые, аналитически внимательные ко всему сложному, противоречивому. К поэту пришло «счастье – жить в мире осознанном», счастье «знать, что я часть человечества». Это знание и становится источником создания образов живых, трепетных и вместе с тем освещающих глубинные процессы общественной жизни.
Анализ и синтез, исследование и обобщение нераздельны, питают друг друга в произведениях зрелых, улавливающих динамику общественной жизни, направление ее развития. В цикле «Под одним небом» лирический герой проходит через испытания многие и трудные – через пустоту покинутого дома и через бешенство стихий, через «гул гор, смоляной мрак, барабан града» и через искушения суемудрием, «шаманством», велеречивостью, через смутность предвидений, предощущений. Поэт не умалчивает о том, что омрачает судьбы земного шара, но в его спокойных, взвешенных словах гораздо больше мужественного оптимизма, чем в беспечально ликующих возгласах, что так часто раздавались в стихах прошлых лет, выходивших из-под пера Кирсанова, и, конечно же, не только Кирсанова! Именно потому так прочно ложатся в строку, так твердо звучат слова, заключающие одно из сильнейших стихотворений цикла: «Этот мир мой, я в него верю».