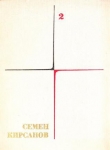Текст книги "Собрание сочинений. Том 1. Лирические произведения"
Автор книги: Семен Кирсанов
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 9 страниц)
Для доказательства истинности своей веры автор находит аргументы свежие, оригинальные. Оригинальные и по мысли, и по фактам, и по слову. Он очень заботится о том, чтобы речевой строй его стиха был гибок, свободен, многогранен. Он знает: «поэзия ищет и ждет выражения» – впечатляющего, яркого, разностороннего. И потому любит «всяческую метаморфозу, и поэзией ставшую прозу». Действительно: его полупрозаический, с неброской, еле ощущаемой рифмовкой, написанный «сплошной» строкой дифирамб «Слова» из «Поэмы поэтов» исполнен поэтического напряжения. Какие только определения – их несколько десятков! – он не находит для характеристики языковых богатств!
Особое место Семен Кирсанов отводит лубочному стиху, что так хорошо послужил ему в «Фоме Смыслове». Поэт требует уважительного отношения к этому стиху: «Ничего, что он шире и тише, что нету в нем слоговых часовых, дисциплинированных четверостиший». И чтобы делом подтвердить свою позицию, пишет озорное, лукавое «Сказание про царя Макса-Емельяна» (1962–1964) – вольную композицию, в которой скоморошьи интонации и мотивы прослоены вполне современными ассоциациями и сопоставлениями. Сквозной темой здесь оказывается презрение к тунеядству, уважение к свободному труду.
И сразу же – возвращение к сложным вопросам современной жизни. В поэме «Однажды завтра» (1964) Кирсанов старается рассказать о человеческом существовании с позиций завтрашнего дня, когда этого человека, рассуждающего, переживающего, уже не будет, но будет продолжаться жизнь человечества. Поэт не требует самоотречения, растворения в огромной бесконечности, да и достижимо ли, естественно ли подобное спокойное отношение к небытию?! Но знает: «Мы все из круга жизни», – и находит опору в этой множественности, обилии действительности и неостановимом движении жизни. Он убежден: «Чудо – не вечность, чудо – век… Чудо – нашел! Чудо – что сам на свете нашелся». Вот почему автор и позволяет себе обратиться к потомкам со словами дружелюбия: «Но там, где мы числимся „выбывшими“, вписаны вы – бывшие мы». Так сказано в стихах. Их поддерживает и проза, впрочем, приближенная к поэзии! «Нужно только помнить, что мы не одни, что были они. Что в одних мы кончаемся, а в других начинаемся снова. И последнее слово: нельзя, чтобы кто-нибудь умер совсем». Чего здесь больше: скорби, надежды? Нет, человеческого достоинства и мудрой ясности взгляда!
Не этого ли и добивался Кирсанов, когда писал: «Хочу я только трезвости…» И еще: «И зренья, только зренья – в глубинный жизни слой…» Нет, конечно, не только трезвая мысль, но и поэзия живет в его стихах, в его поэме «Зеркала» (1965–1968), которую он назвал «Повестью в двух планах». Образное исследование всегда отличалось и будет отличаться от научного, всегда будет иметь свою особую логику. Но в том-то и сказывается чудесное могущество искусства, вооруженного верной и справедливой идеей, что оно может, нимало не поступаясь своей особенной природой, проникать действительно в глубинные слои жизни.
Так и написаны «Зеркала». Автор сразу же вводит в поэму волшебный домысел, сказочную гипотезу, которая и останется основою повествования. Он утверждает, что окружающие нас зеркала сберегают, утаивают навсегда все, что в них отразилось хоть однажды. И относится к высказанному им предположению с совершенной серьезностью, более того – драматизмом:
Жизни точный двойник,
верно преданный ей,
крепко держит тайник
наших подлинных дней.
Тревога, напряжение в этих строках… Они здесь уместны потому, что фантастический «допуск» понадобился поэту для постижения «подлинных дней», той правды, которую скрывает оболочка, скорлупа, шелуха внешнего, кажущегося.
Сперва писатель направляет острие исследовательского скальпеля против лжи, лицемерия в частной жизни, порождавшихся и порождаемых собственническими отношениями. Он углубляет, развивает исходное построение: «Жизнь притворяться наловчилась, а правду знали зеркала». «Изобретение», сделанное поэтом, требует дальнейшего развития, применения. Возникает череда картин исторических: Петропавловская крепость, «где смертник ночь провел без сна», «„Искры“ ленинской страница». «Красной гвардии колонны» и далее, далее, уже не только зеркала, но и стены, и газетные страницы, и окна, и потолки, и фабричная труба, и «валун в пустыне каменистой», и мраморно-стальные арки метро, и бетон Братской плотины – все, что окружает нас, несет на себе отпечаток содеянного, передуманного, пережитого современниками. И остается напоминанием, либо осуждающим, либо вдохновляющим, но укрепляющим волю строителей нового мира. Так расширяются рамки поэтического повествования, и оно обнимает, сопрягает, сопоставляет различные планы, ряды фактов, находя в них почву для точных, продуманных умозаключений; так складывается поэма, сильная своей проницательностью, воодушевлением гражданским и поэтическим.
Качества, здесь названные, определяют звучание и лирических циклов, написанных Семеном Кирсановым главным образом в конце 60-х – начале 70-х годов. Несходство жизненных мотивировок, привлекаемых поэтом, разительно. В цикле «На былинных холмах» (1968–1970) все определяется ходом наблюдений, ведущихся в астрономической обсерватории. В «Больничной тетради» (1964–1972) как бы ведутся записи, складывающиеся в «историю болезни». А в «Признаниях» (1970–1972) автор высказывает свои суждения и взгляды самым разным ладом и по самым разным поводам: он старается определить природу бесстрашия и воображения, преемственности поколений и любовной страсти, образного творчества и прямодушия…
Недюжинный размах! И во всей этой смене тем, коллизий, догадок, умозаключений – есть своя, пускай и не сразу улавливаемая последовательность: пожалуй, с наибольшей явственностью она выступает в призывных словах, обращенных поэтом не только к окружающим, но и к себе самому:
О, товарищи, люди, друзья,
поскорей свои очи протрите,
отворите, разденьте глаза
и без стекол на мир посмотрите!
Так, «без стекол» – зорко и пристально, увлеченно и взыскательно – стремился глядеть на жизнь Кирсанов, передавая ее немеркнущее очарование и постигая ее глубинные противоречия, стараясь найти при этом новые и новые срезы, подходы, повороты, планы поэтического изображения.
Порою дивишься тому, как запросто беседует поэт «с поднадзорным мирозданьем», стоя у телескопа, с каким удальством ведет речь о своей болезни, как серьезно говорит о чудесах, что вершатся в волшебной комнате! Но потом понимаешь, что за этим стоит – в чем суть этих видимых несоответствий. Близость к вселенной имеет своей основой заботу о счастье нашей планеты. Силы для борьбы с недугом появляются потому, что «алчет душа труда», и слабая еще рука тянется к перу, к работе. А колдовство и волхвование, таящиеся в художественных образах, действительно требуют самого серьезного отношения со стороны тех, кто за них берется.
В этом нас убеждает и не так давно опубликованная драматическая поэма «Дельфиниада» (1971). Герои этого произведения – обитатели морей, нынче привлекшие внимание всего человечества. Кирсановым уже и раньше, в стихотворении «Шестая заповедь», дельфин был назван в числе существ, что «не должны подлежать убийству – пусть живут, пусть летят, плывут». Но поэт не удовлетворился столь беглым упоминанием, – оно не исчерпывало возможности, таящиеся в этой теме. Он написал «Дельфиниаду»… Поэма открывается встречей одинокого гребца с группой – не хочется сказать «стаей» – дельфинов, дружелюбной беседой, ненароком перерастающей в своеобразную поэтическую монографию, которую можно было бы назвать «дельфины в искусстве». В эту веками составляемую летопись, начатую еще во времена античности, Кирсанов вписывает свою главу – особенную, своеобычную… Со свойственной ему отвагой он при помощи электронного переводчика устанавливает, что «у них своя книга Бытия, свое сказание о потопе». Тут читатель знакомится и с языком дельфинов, и с их обычаями, и с их историей, подвигами, трудами. И еще с предательскими, обманными действиями людей, что, использовав доверчивость, трудолюбие наивных собратьев, намеревались их погубить… Перед нами повествование, блещущее безудержностью вымысла и одновременно имеющее значительную, точно определенную цель. Она выступает в строфе, которую можно считать сердцевиною поэмы:
Когда поймешь ты наконец,
врубаясь в мертвые породы,
о, человек, венец природы,
что без природы твой венец?
Понимание, о котором говорит поэт, становится, в порядок нынешнего дня. Им проникнуты правительственные постановления и произведения искусства. Слово Кирсанова произнесено с настоящей страстностью – гражданской, человеческой, поэтической. Отсюда его весомость, убедительность, неподдельная современность.
Как-то Семен Кирсанов сказал о том, чем дорожил, чего добивался с первых шагов на литературном поприще, сказал уверенно, твердо:
Да, я знаю – новаторство
не каскад новостей, —
без претензий на авторство,
без тщеславных страстей…
Поэту открылось существо образной новизны. Она сказалась в его циклах и поэмах последних лет, она, наверное, сказалась бы и в тех, которые он предполагал написать… Но тяжелая болезнь оборвала его жизнь в декабре 1972 года.
Поэты истинные были, есть и будут неутомимыми, сосредоточенными искателями нового в стихе и в жизни. Тому свидетельство и добытое, сделанное Семеном Кирсановым на путях постижения времени, человека, слова.
И. Гринберг
ЛИРИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 1923—1972
Лирика
Человек стоял и плакал,
комкая конверт.
В сто ступенек эскалатор
вез его наверх.
К подымавшимся колоннам,
к залу, где светло,
люди разные наклонно
плыли из метро.
Видел я: земля уходит
из-под его ног.
Рядом плыл на белом своде
мраморный венок.
Он уже не в силах видеть
движущийся зал.
Со слезами, чтоб не выдать,
борются глаза.
Подойти? Спросить: «Что с вами?» —
просто ни к чему.
Неподвижными словами
не помочь ему.
Может, именно ему-то
лирика нужна.
Скорой помощью, в минуту,
подоспеть должна.
Пусть она беду чужую,
тяжесть всех забот,
муку самую большую
на себя возьмет.
И поправит, и поставит
ногу на порог,
и подняться в жизнь заставит
лестничками строк.
НАЧАЛО (1923–1937)
«Скоро в снег побегут струйки»
Скоро в снег побегут струйки,
скоро будут поля в хлебе.
Не хочу я синицу в руки,
а хочу журавля в небе.
Погудка о погодке
Теплотой меня пои,
поле юга – родина.
Губы нежные твои —
красная смородина!
Погляжу в твои глаза —
голубой крыжовник!
В них лазурь и бирюза,
ясно, хорошо в них!
Скоро, скоро, как ни жаль,
летняя долина,
вновь ударится в печаль
дождик-мандолина.
Листья леса сгложет медь,
станут звезды тонкими,
щеки станут розоветь —
яблоки антоновки.
А когда за синью утр
лес качнется в золоте,
дуб покажет веткой: тут
клад рассыпан – желуди.
Лягут белые поля
снегом на все стороны,
налетят на купола
сарацины – вороны…
Станешь, милая, седеть,
цвет волос изменится.
Затоскует по воде
водяная мельница.
И начнут метели выть
снежные – повсюду!
Только я тебя любить
и седою буду!
Осень
Les sanglots longs…
Paul Verlaine[1]
Лес окрылен,
веером – клен.
Дело в том,
что носится стон
в лесу густом
золотом…
Это – сентябрь,
вихри взвинтя,
бросился в дебрь,
то злобен, то добр
лиственных домр
осенний тембр.
Ливня гульба
топит бульвар,
льет с крыш…
Ночная скамья,
и с зонтиком я —
летучая мышь.
Жду не дождусь…
Чей на дождю
след?..
Много скамей,
но милой моей
нет!..
Сентябрьское
Моросит на Маросейке,
на Никольской колется…
Осень, осень-хмаросейка,
дождь ползет околицей.
Ходят конки до Таганки
то смычком, то скрипкою…
У Горшанова цыганки
в бубны бьют и вскрикивают!..
Вот и вечер. Сколько слякоти
ваши туфли отпили!
Заболейте, милый, слягте —
до ближайшей оттепели!
Любовь лингвиста
Я надел в сентябре ученический герб,
и от ветра деревьев, от веток и верб
я носил за собою клеенчатый горб —
словарей и учебников разговор.
Для меня математика стала бузой,
я бежал от ответов быстрее борзой…
Но зато занимали мои вечера:
«иже», «аще», «понеже» et cetera…
Ничего не поделаешь с языком,
когда слово цветет, как цветами газон.
Я бросал этот тон и бросался потом
на французский язык:
Nous étions… vous étiez… ils ont…
Я уже принимал глаза за латунь
и бежал за глазами по вечерам,
когда стаей синиц налетела латынь:
«Lauro cinge volens, Melpomene, comam!»
Ax, такими словами не говорят,
мне поэмы такой никогда не создать!
«Meine liebe Mari», – повторяю подряд
я хочу по-немецки о ней написать.
Все слова на моей ошалелой губе —
от нежнейшего «ax» до клевков «улюлю!».
Потому я сегодня раскрою тебе
сразу все: «amo», «j'ame», «liebe dich» и «люблю».
В черноморской кофейне
О, город родимый! Приморская улица,
где я вырастал босяком голоштанным,
где ночью одним фонарем караулятся
дома и акации, сны и каштаны.
О, детство, бегущее в памяти промельком!
В огне камелька откипевший кофейник.
О, тихо качающиеся за домиком
прохладные пальмы кофейни!
Войдите! И там, где, столетье не белены,
висят потолки, табаками продымленные.
играют в очко худощавые эллины,
жестикулируют черные римляне…
Вы можете встретить в углу Аристотеля,
играющего в домино с Демосфеном.
Они свою мудрость давненько растратили
по битвам, по книгам, по сценам…
Вы можете встретить за чашкою «черного»
глаза Архимеда, вступить в разговоры: —
Ну как, многодумный, земля перевернута?
Что? Найдена точка опоры?
Тоскливый скрипач смычком обрабатывает
на плачущей скрипке глухое анданте,
и часто – старухой, крючкастой, горбатою,
в дверях появляется Данте…
Дела у поэта не так ослепительны
(друг дома Виргилий увез Беатриче)…
Он перцем торгует в базарной обители,
забыты сонеты и притчи…
Но чудится – вот-вот навяжется тема,
а мысль налетит на другую – погонщица
за чашкою кофе начнется поэма,
за чашкою кофе окончится…
Костяшками игр скликаются столики;
крива потолка дымовая парабола.
Скрипач на подмостках трясется от коликов;
Философы шепчут: – Какая пора была!..
О, детство, бегущее в памяти промельком!
В огне камелька откипевший кофейник…
О, тихо качающиеся за домиком
прохладные пальмы кофейни.
Стоят и не валятся дымные, старые
лачуги, которым свалиться пристало…
А люди восходят и сходят, усталые, —
о, жизнь! – с твоего пьедестала!
Моя автобиография
Грифельные доски,
парты в ряд,
сидят подростки,
сидят – зубрят:
«Четырежды восемь —
тридцать два».
(Улица – осень,
жива едва…)
– Дети, молчите.
Кирсанов, цыц!..
сыплет учитель
в изгородь лиц.
Сыплются рокотом
дни подряд.
Вырасту доктором
я (говорят).
Будет нарисовано
золотом букв:
«ДОКТОР КИРСАНОВ,
прием до двух».
Плача и ноя,
придет больной,
держась за больное
место: «Ой!»
Пощупаю вену,
задам вопрос,
скажу: – Несомненно,
туберкулез.
Но будьте стойки.
Вот вам приказ:
стакан касторки
через каждый час!
Ах, вышло иначе,
мечты – пустяки.
Я вырос и начал
писать стихи.
Отец голосил:
– Судьба сама —
единственный сын
сошел с ума!..
Что мне семейка —
пускай поют.
Бульварная скамейка —
мой приют.
Хожу, мостовым
обминая бока,
вдыхаю дым
табака,
Ничего не кушаю
и не пью —
слушаю
стихи и пою.
Греми, мандолина,
под уличный гам.
Не жизнь, а малина —
дай бог вам!
Маяковскому
Быстроходная яхта продрала бока,
растянула последние жилки
и влетела в открытое море,
пока от волненья тряслись пассажирки.
У бортов по бокам отросла борода,
бакенбардами пены бушуя,
и сидел, наклонясь над водой, у борта
человек, о котором пишу я.
Это море дрожит полосой теневой,
берегами янтарными брезжит…
О, я знаю другое, и нет у него
ни пристаней, ни побережий.
Там рифы – сплошное бурление рифм,
и, черные волны прорезывая,
несется, бушприт в бесконечность вперив,
тень парохода «Поэзия».
Я вижу – у мачты стоит капитан,
лебедкой рука поднята,
и голос, как в бурю взывающий трос,
и гордый, как дерево, рост.
Вот вцепится яро, зубами грызя
борта парохода, прибой, —
он судно проводит, прибою грозя
выдвинутою губой!
Я счастлив, как зверь, до ногтей, до волос,
я радостью скручен, как вьюгой,
что мне с командиром таким довелось
шаландаться по морю юнгой.
Пускай прокомандует! Слово одно —
готов, подчиняясь приказам,
бросаться с утеса метафор на дно
за жемчугом слов водолазом!
Всю жизнь, до седины у виска,
мечтаю я о потайном.
Как мачта, мечта моя высока:
стать, как и он, капитаном!
И стану! Смелее, на дальний маяк!
Терпи, добивайся, надейся, моряк,
высокую песню вызванивая,
добыть капитанское звание!
Морская песня
Мы – юнги, морюем на юге,
рыбачим у башен турецких,
о дальних свиданьях горюем,
и непогодь резкую любим,
и Черного моря девчонок —
никчемных девчонок – голубим.
И мы их, немилых, целуем,
судачим у дачных цирулен
и к нам не плыла с кабалою —
кефаль, скумбрия с камбалою!
Но, близкая, плещет и блещет
в обводах скалистых свобода!
Подводный мерещится камень
и рыбы скользят на кукане,
и рыбий малюсенький правнук
рывками тире телеграфных
о счастье ловца сообщает,
и смрадная муха смарагдом
над кучей наживки летает.
Я вырос меж рыб и амфибий
и горло имею немое.
О, песня рыбацкая! Выпей
дельфинье одесское море!
Ко мне прилетают на отдых
птицы дымков пароходных.
Асееву
Какая прекрасная легкость
меня подымает наверх?
Я – друг, проведенный за локоть
и вкованный в песню навек.
Как песня меня принимала,
нося к соловьиным боям!
Как слушало ухо Лимана
речную твою Обоянь!
Не ты ли, сверканьем омытый, —
на люди! на землю! на синь! —
Оксаны своей оксамиты,
как звезды, в руках проносил?
И можно глазища раззарить —
что словом губа сведена,
что может сверкнуть и ударить
как молния в ночь – седина.
В меня залетевшая искра,
бледнея и тлея, светись,
как изморозь речи, как избрань
защелканных песнями птиц!
Рост лингвиста
Сегодня окончена юность моя.
Я утром проснулся в халате и туфлях,
увидел: взрослеют мои сыновья —
деревья-слова, в корневищах и дуплах.
И стала гербарием высохших слов
тетрадь молодого языковеда,
но сколько прекрасных корней проросло,
но сколько запенилось листьями веток!
Сады словарей посетили дожди,
цветут дерева, рукава подымая,
грузинское ЦХ и молдавское ШТИ,
российское ОВ, украинское АЕ.
К зеленым ветвям, закипая внизу,
ползут небывало зеленые лозы —
китайское ЧЬЕН, и татарское ЗУ,
и мхи диалектов эхоголосых.
Я слышал: на ветке птенец тосковал,
кукушка, как песня, в лесу куковала, —
и понял: страна моя такова!
А лес подымался, а речь ликовала…
Весною раскроется сад словарей,
таившийся в промхах кореньев сыновних,
и то, что лелеял еще в январе,
тяжелым и спелым увидит садовник.
Склонения
– Именительный – это ты,
собирающая цветы,
а родительный – для тебя
трель и щелканье соловья.
Если дательный – всё тебе,
счастьем названное в судьбе,
то винительный – нет, постой,
я в грамматике не простой,
хочешь – новые падежи
предложу тебе? – Предложи! —
Повстречательный есть падеж,
узнавательный есть падеж,
полюбительный, обнимательный,
целовательный есть падеж.
Но они не одни и те ж —
ожидательный и томительный,
расставательный и мучительный
и ревнительный есть падеж.
У меня их сто тысяч есть,
а в грамматике только шесть!
Зимняя восторженная
Снега! Снега! Меха! Меха!
Снежинок блеск! Пушинок свет!
Бела Москва, тиха, мягка,
подостлан пух мехов Москве.
Тяжел, колюч кожух-тулуп,
но верхних нот нежней енот.
Тулуп бредет в рабочий; клуб,
енот с бобром: – Куда? – В кино!
Синей, синей полет саней,
в морозном дыме мчит рысак,
и дом синей, и дым синей,
и ты синей, моя краса!
Снега – сверкнут, меха куснут,
свернется барс, ввернется рысь!
Прилег сугроб на снег уснуть,
но снова бег, но снова рысь!
Мороз, мороз! Кусни, щипни,
рвани за ухо, за нос хвать!
Пусть нарасхват снежков щебни
тебе залепят рот, Москва.
Чтоб ты была тиха, бела,
чтоб день скрипел, снежон и бел,
чтоб мерзли в ночь колокола,
чтоб звезды тронул школьный мел.
Пускай блеснут снега, меха
на зимний свет, на белый цвет.
Бела Москва, тиха, мягка,
подостлан пух мехов Москве.
Девушка и манекен
С папироскою «Дюшес» —
девушка проносится.
Лет примерно двадцать шесть,
пенсне на переносице.
Не любимая никем
(места нет надежде!)
вдруг увидит – манекен
в «Ленинградодежде».
Дрогнет ноготь (в полусне)
лайкового пальца.
Вот он девушке в пенсне
тайно улыбается.
Ногу под ногу поджав,
и такой хорошенький
Брючки в елочку, спинжак,
галстушек в горошинку.
А каштановая прядь
так спадает на лоб,
что невинность потерять
за такого мало!
Вот откинет серый плащ
(«Выйди, обними меня!»).
Подплывает к горлу плач.
«Милый мой! Любименький!»
И ее со всей Москвой
затрясет от судорог.
Девушка! Он восковой.
Уходи отсюдова!
Гулящая
Завладела киноварь
молодыми ртами,
поцелуя хинного
горечь на гортани.
Черны очи – пропасти,
беленькая челка… —
Ты куда торопишься,
шустрая девчонка?
Видно, что еще тебе
бедовать нетрудно,
что бежишь, как оттепель
ручейком по Трубной.
Всё тебе, душа моя,
ровная дорожка,
кликни у Горшанова
пива да горошка.
Станет тесно в номере,
свяжет руки круто,
выглянет из кофточки
молодая грудка.
Я скажу-те, кралечка,
отлетает лето,
глянет осень краешком
желтого билета.
Не замолишь господа
никакою платой —
песня спета: госпиталь,
женская палата.
Завернешься, милая,
под землей в калачик.
Над сырой могилою
дети не заплачут.
Туфельки лядащие,
беленькая челка…
Шустрая, пропащая,
милая девчонка!