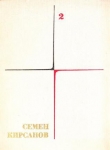Собрание сочинений. Том 1. Лирические произведения

Текст книги "Собрание сочинений. Том 1. Лирические произведения"
Автор книги: Семен Кирсанов
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 9 страниц)
Звенит Двадцатый век,
вплывая в новогодье.
На верфи, среди вех
в балтийском многоводье,
рождается корабль…
Над ним – из кранов арка.
Он смотрит сверху в рябь.
Прочна электросварка
на незаметных швах.
Ему семь дней без году.
Сегодня – первый шаг
со стапелей на воду.
Рождается корабль.
Он ледоколом будет.
Всей Арктики кора
ему подвластна будет.
Дадут тепло и ход
урановые стержни,
и разойдется лед,
покрытый пухом снежным,
оставит он как след
не ядовитый стронций,
а новой жизни свет
под ледовитым солнцем.
На корпус молодой
глядит с улыбкой детской
кораблик золотой
иглы Адмиралтейской.
И по пути на верфь
вдоль невского простора
сигналит: «Все наверх!»
любовь Невы – «Аврора».
Два спутника летят
к нему вокруг планеты
и первыми хотят
отметить новость эту!
Рождается корабль.
Я правды не нарушу,
когда скажу: не слаб
в него вложивший душу
советский человек —
монтажник или автор.
Он создал на Неве
одно из лучших завтр —
реактор жизни, где
стал – не бездушным катом,
а братом – на людей
работающий атом.
Я счастлив, что живу,
когда живым кристаллом
сбываться наяву
несбыточное стало;
что новый ледокол
уже водой обрызган,
что слово «далеко»
сошлось со словом «близко»;
что Партия, чью мысль
над миром поднял Ленин,
по льдам нас провела
на мыс Осуществленья.
В путь! Людям покажись!
Пусть Хиросима видит,
чье сердце любит жизнь,
чье – злобно ненавидит.
Советский человек,
твой подвиг благородный
спасает мир и век
от смерти водородной;
твой труд – надежный щит
рождающимся детям,
и вечный лед трещит
для счастья на планете!
А на Неве корабль
глядится в отраженье,
в похожий на Октябрь
день своего рожденья.
Джон Рид
Вот – Смольный институт…
Под меловым карнизом
уж сорок лет идут
столетья коммунизма.
И тут стоял Джон Рид.
И, кажется, опять он.
Блокнот его открыт.
Октябрь ему понятен.
Понятен дым костров,
понятен каждый митинг,
и Ленин – с первых слов
понятен, вы поймите,
американцы! Джон
нас понял с полувзгляда.
Такими вот, как он,
вам бы гордиться надо!
По-летнему раскрыт
его рубашки ворот;
сквозь патрули Джон Рид
проходит через город.
Толпою Летний сад
заполнен до обочин.
Садится самосад
он покурить с рабочим.
А рядом крик с трибун:
– Спасите Русь от хама!
Встал большевицкий гунн! —
ораторствует дама.
Через плечо пальто
и в Смольный, там – горнило.
Рид разобрался: кто
Керенский, кто Корнилов…
Америка! Твой сын
нас понял с полувзгляда.
Таким – как он один —
тебе гордиться надо!
Впервые в равелин
до камеры конечной
министров провели…
Насилие? Конечно!
Буржуев гонят вниз
ко всем чертям собачьим!
Но так начнется жизнь,
лишь так, и не иначе.
С насилия! С атак!
С дыр в красоте ампира!
Начнется только так
будущее мира.
Так думал и Джон Рид,
слагая строки скорые;
блокнот его раскрыт
на первых днях истории.
Америка! Твой сын
не подкачал, не выдал.
Из-за штыкастых спин
он солнце мира видел!
Что может быть ценней
души, не знавшей фальши?
А наши Десять Дней
мир потрясают дальше!
Суд
Здесь каждый вход, и свод,
и колоннады зданий,
и в римских цифрах год
напоминают ход
судебных заседаний.
Да, Ленинград – судья,
чье слово непреклонно.
Он судит, не щадя.
Строг Невский, как статья
Верховного закона.
По пунктам разобрав
процесс борьбы жестокой,
он рассудил, кто прав, —
издольщик или граф,
заводчик или токарь.
И он был прав, когда
был грозен, осажденный,
в дни голода и льда;
и от его суда
не скрылся осужденный.
Нельзя прийти лжецом
к колоннам Ленинграда,
ни трусом, ни льстецом!
Перед его лицом
во всем признаться надо.
И я пришел, и встал,
и все по форме сделал;
прошнуровал и сдал,
чтоб он перелистал
мое с тобою «Дело».
Вот первый лист любви
и правды светлоглазой;
и здесь не покривил
ни помыслом, ни фразой.
А это лист второй.
Он розов и надушен.
Но, как жучок порой
ютится под корой, —
жизнь точит равнодушье.
Но вот и третья часть…
Как может быть оправдан
позволивший подпасть
себе и ей под власть
к проклятым полуправдам?
И дальше – как ни тщусь
я вырваться из круга
обманных глаз и уст, —
осталась кража чувств
взаимно, друг у друга.
Итак, суди, судья,
с заката до рассвета,
суди по всем статьям,
по всей длине проспекта.
Воздай и ей и мне
за соучастье в краже,
суди, поставь к стене
объятья наши даже.
Ведь был же нам знаком
твой кодекс непреложный!
Пусть действует закон:
лжи место под замком.
Жить только правдой можно.
О, Ленинград, не зря
пришел я с делом личным!
Быть мелкими нельзя
перед твоим величьем.
«Стрела»
Когда под бой часов
страна ко сну отходит,
с перрона в 0 часов
«Стрела» в Москву отходит.
И в тот же час, подряд
вагоны выдвигая,
навстречу, в Ленинград,
спешит «Стрела» другая.
И разные чуть-чуть
два близнеца-вокзала,
держа в руках весь путь,
стоят, с толпою в залах.
Среди лесов страны
звуча колесной речью,
несутся две «Стрелы»,
как две любви, навстречу.
В Москву и в Ленинград —
две встречи, две разлуки,
двух ожидании взгляд,
двух расставании руки.
Но могут же, летя
то в соснах, то в березах,
на пять минут хотя б
сойтись два паровоза!
В Клину ли, в Бологом,
хоть на каком разъезде,
хоть постоять вдвоем,
хоть прогуляться вместе…
И вдруг – подать рукой! —
из-за ночного леса
летят, один в другой
ворвались два экспресса,
два грома двух сердец,
свет двух мелькнувших окон,
но каждый в свой конец
уходит одиноко…
Глазами окна жгут,
исколоты лесами,
но поезда не ждут,
нет встречи в расписанье.
И ночь черным-черна,
лишь версты у порога…
Поистине она
железная, дорога.
Мне грустно – позади
мосты, каналы, Невский;
и площадь, где сидит
в раздумье Чернышевский
и всадник на скале
с простертою рукою;
и крейсер, где в чехле
орудье на покое;
и площади в огнях;
и темные под утро
порталы, что меня
выслушивали мудро…
Я заглянул в глаза
и сердце Ленинграда —
он миру показал,
как жить на свете надо.
И пусть молчит тоска,
и о былом ни слова!
Уже видна Москва,
как утро жизни новой.
…Я не хотел терять
тебя. Но есть границы.
Закончена тетрадь.
В ней больше ни страницы.
ПОД ОДНИМ НЕБОМ (1960–1962)
Январь
Снега нет, стужи нет,
хуже нет таких зим.
Календарь искажен
январем дождевым.
Солнца зимнего нет —
синевы с белизной,
нет и лыжных следов
на опушке лесной.
Нет метелей, и нет
снеговой тишины,
нет взаимных снежков,
мы и их лишены.
Жалко лет, жалко дней,
жалко долгой любви;
больно мне, трудно ей —
как душой ни криви!
Не приходит мороз,
нет слепящего дня,
чтобы он, как наркоз,
обезболил меня.
Где же он, где же он,
почему его нет,
запорошенных звезд
замороженный свет?
Все туман да туман,
без зари на заре…
О, жестокий обман —
теплый дождь в январе!
Холод
Начинался снегопад,
будто небо в набат
стало бить – стало быть,
начался снегопад.
Опускаться, как занавес
белого сна,
кисеей без конца
начала белизна,
и последний, единственный
градус тепла
превратился в оконную
пальму стекла…
Вот и боль заморозилась,
полдень настал,
сердце в гранях застыло,
как горный хрусталь,
и не чувствует больше!
Морозный, дневной,
стал зеркален и бел
этот мир ледяной.
О, холодное солнце
февральских небес,
ты теперь – лишь глаза
ослепляющий блеск;
ты бессильно царишь,
золотишь купола,
а на иней в окне
не хватает тепла.
Солнце молча стоит
далеко от земли,
а теперь и метели
весь мир замели.
Апрель
Наконец-то апрель,
наконец-то капель,
Наконец-то запел
хор весенних капелл;
наконец-то поплыл
по реке никуда
беспредметный рисунок
разбитого льда.
Громоздясь под железной
оградой моста,
он исчезнет, растает,
сотрется с листа,
растворится бесследно
в теченье Оки,
станет слитной водою
спокойной реки.
Так и ты, моя боль,
грудой битого льда
оплываешь, уходишь
в свое никуда,
в половодье сливаешься,
в солнечный мир,
где плоты осмоленные
тянет буксир;
где размыто последнее
зеркальце льда,
где до нижней отметки
спадает вода…
Мир
Мой родной, мой земной,
мой кружащийся шар!
Солнце в жарких руках,
наклонясь, как гончар,
вертит влажную глину,
с любовью лепя,
округляя, лаская,
рождая тебя.
Керамической печью
космических бурь
обжигает бока
и наводит глазурь,
наливает в тебя
голубые моря,
и где надо – закат,
и где надо – заря.
И когда ты отделан
и весь обожжен,
солнце чудо свое
обмывает дождем
и отходит за воздух
и за облака
посмотреть на творение
издалека.
Ни отнять, ни прибавить —
такая краса!
До чего ж этот шар
гончару удался!
Он, руками лучей
сквозь туманы светя,
дарит нам свое чудо:
бери, мол, дитя!
Дорожи, не разбей:
на гончарном кругу
я удачи такой
повторить не смогу!
Снова
Снова с древа познания
зла и добра
нами сорвано яблоко —
тайна ядра.
Снова огненный меч
у захлопнутых врат,
смерч и взвившийся столп,
серный ливень и град.
Снова надпись гласит:
«Возвращения нет…»
Рай за раем теряли
мы тысячи лет
и теряем, теряем
попавший под вихрь
этот мир, и себя,
и любимых своих.
Но и маленький глобус,
как плод, разломив,
мы не в силах поверить,
что кончится миф
o не знающем смерти,
о вечной земле
с синим небом и хлебом
на белом столе.
Было ж солнце как солнце,
луна как луна!
Ни плутонии, ни стронции
не трогали сна
новорожденных в яслях,
влюбленных в траве,
островов на реке,
облаков в синеве…
Разве мы не способны
всему вопреки
вырвать огненный меч
из грозящей руки?
Разве я и на боль
и на смерть не готов,
чтобы вырастить сад
из запретных плодов?
Тень
Шел я долгие дни…
Рядом шли лишь одни,
без людей, без толпы,
верстовые столбы.
Шел я множество лет…
Как-то в солнечный день
увидал, что со мной
не идет моя тень.
Оглянулся назад:
на полоске земли
тень моя одиноко
осталась вдали.
Как затмение солнца,
осталась лежать,
и уже невозможно
мне к ней добежать.
Впереди уже нет
верстового столба,
далеко-далеко
я ушел от себя;
далеко я ушел
колеями колес
от сверкающих глаз,
от цыганских волос.
Далеко я ушел
среди шпал и камней
от лежащей в беспамятстве
тени моей.
Надежда
Этот мир! Не хочу
покидать этот мир —
мир садов и болот,
мир лачуг и Пальмир;
мир смерчей и миражей,
пустынь и морей,
мир потопов и засух —
мир жизни моей;
мир глухих переулков,
любви и беды,
мир больничной кровати,
мир просьбы воды;
мир обширных галактик,
мир тесных квартир…
Не хочу, не хочу
покидать этот мир!
Пусть погаснет мираж,
пусть рассыплется смерч,
усыпи меня, ночь,
погреби меня, смерть!
Но и орбитах частиц
среди звездных кривизн
разбуди меня, день,
воскреси меня, жизнь!
Чувство зла и добра,
чувство льда и тепла,
утоленья и жажды,
воды и весла
отбери, и верни,
и опять отними,
и опять на рассвете
верни в этот мир —
мир прощанья для встреч,
мир близких имен,
мир надежды на завтра,
мир красных знамен;
мир реки для причала,
семян для полей,
мир конца для начала —
мир жизни моей!
Два сна
Отчего чудится
старина мне?
Крыши изб грудятся
в смоляном сне.
И чадят зарева,
и кричат матери:
кровью чад залило
в теремах скатерти.
И лежат воины,
а на них вороны,
их зрачки склеваны
сквозь шелом кованый.
О, шатры пестрые
кочевых орд!
На Буян-острове
богатырь мертв…
А отцы крестные
без голов – голые.
Все чубы сбросили
на колах головы.
И, блести перстнями
колдовских стран,
на ковре Персии
пьет шербет хан…
Почему ж кажется
этот сон мне?
Я ж сидел, кажется,
на сыром пне;
я дремал чуточку
у лесных плах,
я строгал дудочку,
чтоб манить птах.
Вел слепца за руку
вдоль речных волн
и смотрел на реку,
на крутой холм.
Там, как стол с утварью,
погружен в дремль
на заре утренней
золотой Кремль.
Калита, что ли, ты?
Ярослав-царь?
Что грозишь золотом,
как грозил встарь?
Царь Иван молится?
И опять головы,
как дрова, колются
по всему городу?
Или шел залами
государь Петр
принимать с карлами
шутовской смотр?
Оп треух с пряжкою
натянул на ухо,
епанчу фряжскую
застегнул наглухо.
Снег лежит пологом.
Холода. Темь.
Врылся Царь-Колокол
в мать-сыру земь.
Но собор кажется
пирогом сказочным,
расписным, пряничным
на столе праздничном.
На камнях хоженых
собрались голуби
и из крыл сложенных
тянут вниз головы.
Тишина в городе.
Бьют часы шесть.
Никогда воронам
не клевать здесь.
А теперь слушай:
как уснешь вновь,
береги душу
от дурных снов.
Под одним небом
Под одним небом, на Земном Шаре мы с тобой жили
где в лучах солнца облака плыли и дожди лили,
где стоял воздух – голубой, горный, в ледяных звездах,
где цвели ветви, где птенцы жили в травяных гнездах.
На Земном Шаре под одним небом мы с тобой были,
и, делясь хлебом, из одной чашки мы с тобой пили.
Помнишь день мрака, когда гул взрыва расколол счастье
чернотой трещин – жизнь на два мира, мир на две части?
И легла пропасть поперек дома, через стол с хлебом,
разделив стены, что росли рядом, грозовым небом…
Вот плывут рядом две больших глыбы, исходя паром,
а они были, да, одним домом, да, Земным Шаром…
Но на двух глыбах тоже жить можно и живут люди,
лишь во сне помня о Земном Шаре, о былом чуде, —
там в лучах солнца облака плыли и дожди лили,
под одним небом, на одном свете мы с тобой жили.
Пустой дом
О, пустой дом, —
страшно жить в нем,
где скулят двери,
как в степи звери,
где глядит стол
от тоски в пол,
где сошлись в угол
топи злых пугал…
О, пустой дом,
дом с двойным дном, —
о былом помнят
пустыри комнат —
смех, любовь, речь,
свечи, свет встреч…
Как белы стены!
Где ж на них тени
бывших нас – тех?
Где он скрыт, смех
или крик боли?
Под полом, что ли?
О, пустой дом,
ни души в нем,
пустота в доме,
никого, кроме
злых, пустых фраз,
неживых глаз,
двух чужих – нас.
Карусель
На коне крашеном я скачу бешено – карусель вертится.
А вокруг музыка, и, вертясь звездами, фейерверк светится.
О, Пруды Чистые, звездопад елочный, Рождество в городе.
Наклонясь мордами, без конца кружатся скакуны гордые,
О, мой конь огненный, в голубых яблоках, с вороной гривою,
конь с седлом кожаным, с мундштуком кованым, с гербовой гривною,
как мне вновь хочется обхватить шею ту и нестись в дальнюю
жизнь мою быструю, жизнь мою чистую, даль мою давнюю!
Что прошло – кончилось, но еще теплится одна мысль дерзкая:
может быть, где-нибудь все еще кружится карусель детская?
Да, в душе кружится, и, скрипя седлами, все летят кони те…
Но к какой пропасти, о, мои серые, вы меня гоните?
Дождь
Зашумел сад, и грибной дождь застучал в лист,
вскоре стал мир, как Эдем, свеж и опять чист.
И глядит луч из седых туч в зеркала луж —
как растет ель, как жужжит шмель, как блестит уж.
О, грибной дождь, протяни вниз хрусталя нить,
все кусты ждут – дай ветвям жить, дай цветам пить.
Приложи к ним, световой луч, миллион линз,
загляни в грунт, в корешки трав, разгляди жизнь.
Загляни, луч, и в мою глубь, объясни – как
смыть с души пыль, напоить сушь, прояснить мрак?
Но прошел дождь, и ушел в лес громыхать гром,
и, в слезах весь, из окна вдаль смотрит мой дом.
Возвращенье
Серебром крыл
самолет плыл
в облаках белых.
Перед ним встал,
как обвал скал,
грозовой берег.
Как хребет Анд,
громоздил пар
сизых туч гребень,
и путем в ад
шел дневной шар
в смоляном небе.
Я забыл жизнь
на один миг
в тесноте кресел
и смотрел вниз
на земной мир
и сквозь гул грезил:
будто нет их —
ни винтов двух,
ни рядов окон,
а, крутя вихрь,
мчится злой дух
с огневым оком.
Будто я взят
в паровой ад,
в лабиринт круга
и уже мне
ни в каком сне
не видать луга,
где в лучах дня
ты – среди трав,
и с тобой ветер,
и с тобой – я
на земле, въявь,
при дневном свете!
Только гул гор,
смоляной мрак,
барабан града,
и пути нет
на дневной свет
из кругов ада…
Но уже шел
самолет вниз
в облаках низких,
был бетон гол,
небосвод сиз,
в дождевых брызгах.
Был мой дом пуст,
пылевой слой,
на замках двери…
Я сказал: – Пусть!
Этот мир мой,
я в него верю.
СЛЕДЫ НА ПЕСКЕ
Поэма (1962)
В начале
В начале не было
ни мира,
ни тебя.
Ни моря.
Ни песка.
Дышал туман, толпились облака.
Кто ж создал нас?
Как появился мир?
Кто океан раскрыл?
Откуда ты взялась?
Наверное,
тебя
принес Морской Конек.
Ты,
сидя между крыл,
держалась за шипы, за рыбьи острия
колючей гривы.
Ты —
раскрыв свои глаза
размером в горизонт —
рассматривала мир, и море, и песок.
А я
был создан для того,
чтоб здесь, на берегу,
вдруг увидать тебя.
И океан
был создан для того,
чтоб, множеством зеркал
перед тобой рябя,
путь устилать тебе
подводною травой.
И самолет
был создан для того,
чтоб, четырьмя моторами трубя,
нести меня
и опустить в тот мир,
где только-только создали тебя.
А до тебя,
быть может, —
никого.
И мир был создан только для того,
чтоб сотворить
и показать тебя.
У тебя такие глаза
У тебя такие глаза,
будто в каждом по два зрачка,
как у самых новых машин.
По ночам из шоссе в шоссе
пролетают машины,
шумя,
двумя парами фар.
У тебя двойные глаза,
их хватило б на два лица,
и сияет весь океан
от помноженных на два
глаз.
Понимаешь,
твои глаза —
двух земных полушарий карта.
Ты когда закрываешь их —
погружается в ночь Экватор,
а когда их прошу открыть я —
в них
два Полюса голубых
в миг
Открытия.
Я бел, любимая
Я бел,
любимая.
Я – мел,
который морем был,
и рыб и птиц имел,
и побелел.
Я – меловой период.
В глубине
есть отпечатки раковин на мне.
Моя ладонь.
И та
лишь оттиск допотопного листа.
А ты – начало.
Ты полет стрекоз.
Ты всплеск летучих рыб.
Ты небо первых гроз.
Ты только что начавшаяся жизнь.
Ты радуга.
Ты первая из призм.
Ты только что открытые глаза.
Ты водопад из золота волос.
Ты вылет первых ос.
А я – глубинный мел,
в моей душе
былых стрекоз, и рыб, и птиц клише.
Рукой веселой камни разгребя,
на белом
мне
прочти:
«Любил тебя».
Вдруг
Вдруг
мне столько же лет,
как тебе:
ловок я и в езде на велосипеде,
и в игре,
и в ходьбе,
и – везде.
Оставляя босые следы на песке
археологам и векам,
мы бежим на прилив.
Вплавь бросаемся в Океан.
Переплыть мы решили Пролив.
С нами рядом плывет вертикально
морской вопросительный знак
или шахматный конь,
на котором ты прибыла в мир.
Ты, в одежде одних пузырьков и волос,
узким телом идешь в глубину.
Я, надев акваланг,
поражаю акул —
и к тебе, к разноцветному дну.
О, как ново иметь
столько же лет, как тебе!
Мы тут наедине,
подводная любовь
среди кораллов и неясных глыб.
Ныряем вновь!
Плывем среди медуз, и рыб,
и игл, и звезд!
И розовые руки в глубине,
как водоросли,
тянутся ко мне.
Вдруг
мне столько же лет,
как тебе.
И за белой скатертью
И за белой скатертью,
и за белой книгою
есть и «ты»,
есть и «я».
Не пройдет и дня —
ни за белой скатертью,
ни за белой книгою —
ни тебя,
ни меня.
Приезжай
Приезжай
ко мне
во сне.
Покажись наверху, в окне.
Напиши письмо
на песчаном дне.
Позвони в прилив, —
может быть,
в отлив
дозвониться удастся мне
к трубке раковины
на дне?
Я прошу,
приезжай во сне
ко мне.
Откуда-то
Откуда-то
вытянула нити круглых букв,
намотала и бросила их на страницы.
Я закутался в кольцах слов,
я запутался в солнцах снов,
я иду
из кольца в кольцо
твоих букв
круглолицых.
Буквы
И эЛь,
и Ю,
и Бэ,
и эЛь, и Ю.
И ель у дюн, и белый день в июнь.
Весенний ландыш,
осенний гриб,
река,
и белка на сосне,
и эЛь,
и Ю,
и Бэ,
и эЛь,
и Ю – во сне.
И твердые ноги лесных стволов,
и лоси пугливые,
и рога,
и скатерти снеговых стволов,
и лыжи,
и снежные берега —
все ты:
и придуманные цветы,
и утро, и сумерки —
все ты,
пустынная дюна,
юная ель,
и птичьи следы на морском песке,
и эЛь,
и Ю,
и Бэ,
и эЛь,
и Ю —
теряющиеся вдалеке.
Но я уйду
Но я уйду
за горизонт.
И ты уйдешь
за горизонт.
Но ты уйдешь за горизонт,
как день.
А я уйду за горизонт,
как тень,
когда уходит в дюны
день.
Твои рисунки
Твои рисунки,
неземные
твои холсты.
Они как ты.
На них – нигде не росшие цветы.
Их нет нигде,
лишь под твоей рукой,
вот тут —
на голубом холсте они растут.
И ты нигде.
Где океан?
Нигде.
Ни в тропиках, ни в Ботаническом саду
таких цветов, как эти,
не найду —
нигде на свете.
Но они растут
на синей нарисованной воде,
как ты и я —
вот рядом,
вот нигде!
Границы
Границы,
вы —
пустые пропасти, слепые бездны, рвы
отвесных замков.
А любви
нужны дороги, улицы, шоссе,
ворота, сквозь какие
могут все
пройти и встретиться.
И если не шоссе и не пути —
то, может быть, леса, поля, холмы,
чтоб спотыкались мы,
и все ж могли найтись и встретиться.
Но тут ограды.
Тут посты.
Стой, отвечай же:
где к тебе мосты
через пустые бездны, реки, рвы?
Что, разве недостаточно любви,
чтоб перед нею
подымались все
шлагбаумы, закрывшие шоссе?
Чтоб часовые козыряли ей,
как визе с государственным гербом,
где красной лентой
шар земной обвит…
О, будущий,
о, безграничный мир,
там надо б этой
встретиться любви!
И торопит меня
И торопит меня
реактивный гул.
Взмах кольца!
И – ни моря, ни смеха на берегу.
И размыты следы под слоями воды.
Два крыла распростерлись
на два конца.
Опускается занавес облаков
на прибрежное солнце,
на мир —
твоего лица.
Но, исчезая…
Но,
исчезая,
ты кричишь в окно:
– Пока! —
Автомобиль уже дрожит,
он жжет бензин, он ждет,
рынок – и вот шлагбаум упадет
ниц,
полосатый каторжник границ!
О ты, кричащая: «Пока!»,
ты понимаешь,
что «пока» – река
без перевоза,
пропасть без моста,
что нам уже закрыты все места
возможных встреч.
И никогда,
ни – вдруг,
не положить мне рук
на море, на песок, на дюны
твоих плеч.
ВАРИАЦИИ (1962–1964)
«Хоть умирай от жажды…»
Хоть умирай от жажды,
хоть заклинай природу
а не войдешь ты дважды
в одну и ту же воду.
И в ту любовь, которая
течет, как Млечный Путь,
нет, не смогу повторно я,
покуда жив, шагнуть…
А горизонт так смутен,
грозой чреваты годы…
Хоть вы бессмертны будьте,
рассветы, реки, воды!
Тучи
Тучи идут, как гуляющие
небом, как южным бульваром:
облако
около
облака,
облако
с облаком
об руку,
облако
обнято
облаком,
небо заката пылающее
обдано розовым паром.
Как у людей, одинаково:
там, где уже полусвет, —
у одного одинокого
рядом и облачка нет…
Вертолет
В море тихо. Осень. Ветра нет.
Вдруг крутнулись крылья ветряка!
Вертолет винтом как вертанет —
вверх – по-стрекозиному – с цветка.
Удивляюсь чуду наверху,
солнцу, что на западе горит,
небу и мохнатому зверьку,
что перед подсолнухом парит.
Удивляюсь, знаете, до слез!
Но и солнцу время увядать.
Сколько мне увидеть удалось,
сколько не удастся увидать!