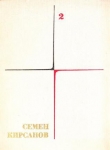Собрание сочинений. Том 1. Лирические произведения

Текст книги "Собрание сочинений. Том 1. Лирические произведения"
Автор книги: Семен Кирсанов
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 9 страниц)
ЭТОТ МИР (1945–1956)
Через триста…
Я увидал корабль, который плыл
без весел, без винта и без ветрил,
я увидал аэроплан без крыл,
который тихо в воздухе парил.
И я привык смотреть со стороны
на странные явления вдали,
на мчащегося около Луны
искусственного спутника Земли.
Я пью необычайное вино,
но – виноградом не было оно,
ем белый хлеб, не росший никогда,
искусный синтез мысли и труда.
Чиста, как небо, новая земля,
и наш граненый дом из хрусталя,
но мало в нем знакомых и родных,
лишь ты одна – последняя из них.
Нам каждому уже по триста лет,
но мы еще не мыслим о конце,
и ни морщинки ни единой нет
ни на моем, ни на твоем лице.
Хвосты ракет за тучами скользят,
их водят электронные умы…
Скажи, тебе не хочется назад,
в двадцатый век, где прежде жили мы?
Где надо было землю корчевать,
под бомбами в землянках ночевать,
пилить дрова и хлебом дорожить,
и только там хотелось жить и жить…
Гаданье
Шестерки, семерки, восьмерки, девятки, десятки.
Опять невпопад – затесались король и валет…
Пасьянс не выходит! Опять полколоды в остатке.
И все это тянется дикое множество лет!
Что можно узнать во дворце костюмерной колоды?
Какие затмения Солнца, кометы и воины придут и пройдут?
Какие отлеты, какие на землю прилеты?
Какие новинки пилоты у звезд украдут?
Когда я уснул, как в гадании, с дамою рядом, —
Вот только тогда стасовался и ожил пасьянс на столе
и тысяча лет пронеслась над упавшим снарядом,
над Вязьмою, Мюнхеном, Перу и Па-де-Кале.
Цветы раскрывались в минуту. По просекам бегали лани.
Дома улетали. Деревья за парами шли по следам.
На море качались киоски любых исполнений желаний.
Машины сидели в раздумье – что сделать хорошего нам?
Весь воздух был в аэростатах. Но не для воздушной тревоги.
Гуляние происходило. По звездам катали ребят.
Там девушка шла на свиданье по узкой канатной дороге,
и к ней через десять трапеций скользил и летел акробат.
На тучах работали люди. Они улучшали погоду.
Все им удавалось – и ветер, и солнце, и дождик грибной.
Вдруг вышел поэт, он шатался без дела, тасуя колоду,
стихи перед ним танцевали, как дети, с гармошкой губной.
Пасьянс у него получался. Он, каждую карту снимая,
показывал очень далекий, за тысячелетием, день —
вдруг желтые стены Китая, вдруг пестрое Первое мая,
и вдруг из-за стекол трамвая – моя померещилась тень.
А мы? Где мы будем? Вам кажется – мы разложились?
Мы живы, мы теплые почвы с рябинками древней грозы.
Цветные пасьянсы лугов, и дворцов, и гуляний на нас разложились,
и рядышком вышли – валеты, и дамы, и короли, и тузы.
Apres nous le deluge [7]7
После нас хоть потоп (франц.).
[Закрыть]
Я не скажу: над нами пусть не каплет,
а после нас – хоть мировой потоп!
Нет, я хочу, чтоб тысяч через пять лет
вели следы вдоль непросохших троп;
чтоб босиком по лужам мчались дети
на свете без котомки и тюрьмы,
на свете, где за пять тысячелетий
шли под дождем и обнимались мы.
А если так считать: мол, безразлично,
что будет с нашей, лучшей из планет, —
не знаю, как кому, а мне вот лично
тогда и жить на свете смысла нет.
Уважаю
Уважаю боевую старость,
блеск в глазах, кипение в груди!
Уважаю тех, кому досталось
больше, чем осталось позади!
Уважаю творческие муки,
нетерпенья взрывчатого тол,
Павлова решительные руки,
брошенные яростно на стол!
В мире, молодом, как Маяковский,
седина вполне хороший цвет!
Я не буду жить по-стариковски —
даже в девяносто девять лет!
О наших книгах
По-моему, пора кончать скучать,
по-моему, пора начать звучать,
стучать в ворота, мчать на поворотах,
на сто вопросов строчкой отвечать!
По-моему, пора стихи с зевотой,
с икотой, рифмоваться неохотой
из наших альманахов исключать,
кукушек хор заставить замолчать
и квакушку загнать в ее болото.
По-моему, пора сдавать в печать
лишь книги, что под кожей переплета
таят уменье радий излучать,
труд облегчать, лечить и обучать,
и из беды друг друга выручать,
и рану, если нужно, облучать,
и освещать дорогу для полета!..
Вот какая нам предстоит гигантская работа.
На взлете
Два винта крутануло, рывок – и
ты в трехслойную высь поднялась…
И от облака в гулкой тревоге
не отнять растревоженных глаз.
Крылья, крылья, подумайте, как
дорога ваша легкая ноша!
Ты уже в кучевых облаках,
ты вот-вот стратосферы коснешься!
О, я верю в звучащие части,
в прочность поршней и в сортность колец,
верю в жизнь, в окрыленное счастье,
в окружающий солнце венец!
Прочь, тревога! Моторы, вперед!
Вы – мое нетерпенье поймете.
Ту же скорость и песня берет,
до конца неизменно в полете!
Что мне выгода, выручка, польза,
когда мчусь, виражами кружа?
Не в низине я жил и не ползал
шелестящей дорожкой ужа!
Не в тиши, никогда не в тиши,
не в низине, нет, нет, не в низине!
Я и сердце толкал: «Поспеши
за стремящейся жизнью в бензине!»
Не замолкнет мотор, довезет!
На полет, на движенье надейся!
Должен выжать я лет девятьсот
за свои пятьдесят или десять!
День в кристаллах, в небесном пуху,
там рычит быстрота, нарастая.
Мне лишь видеть тебя наверху,
песня жизни моей скоростная!
Дальше, дальше, в залив занебесный,
в синеве плоскостями скользя,
нам, врезаясь в грядущее песней,
и на миг задержаться нельзя!
«На самолете я летел…»
На самолете я летел,
на лодочке непрочной.
В полете жадно я хотел
стоять на твердой почве.
На твердой почве без грозы
и в комнате без горя, —
хотелось мне рвануться в зыбь
заоблачного моря.
И вот опять в полете я,
и вновь мотору внемлю,
и снова к вам тянусь, друзья,
на дорогую землю!
Как ищет, приземляясь, мысль
где для нее страница,
так сердцу требуется высь,
чтобы к земле стремиться.
Месяцы года
Ты любишь ледяной январь,
безветрье, стужу зверскую,
а я – лютующий февраль,
метель, поземку дерзкую.
Ты любишь ранний месяц март
с апрельскими проталинами,
а я – молнирующий май
с дождями моментальными.
Ты любишь облачный июнь,
в просторе многоярусном,
а я – сжигающий июль
и август – солнце в ярости!
Ты любишь бархатный сентябрь
с его зеленым золотом,
а я – когда несет октябрь
штыки дождя по городу.
Ты любишь краски в ноябре,
свинцовые сливовые,
а я – декабрь, ведь в декабре
год переходит к новому.
Да, я любитель декабря
на снежно-белых улицах,
за то, что с первым января
он, чокаясь, целуется.
И бой на башенных часах,
и в полночь – утру здравица!
И каждый к будущему шаг —
мне очень, очень нравится!
Цветок
Позволь мне подарить тебе
простой цветок – гвоздичку,
похожий в комнатном тепле
на вспыхнувшую спичку.
Он ярко распустился тут —
перед окном, в стакане.
Какой в нем чувствуется труд,
терпенье и старанье!
Как он красуется, живой,
гордясь своей породой,
как точно зубчики его
нарезаны Природой!
Как тщательно один в другой
махровый листик вделан!
Какой влюбленною рукой
он ловко вставлен в зелень!
Пусть он известен, как цветок
тепличный и петличный,
но я его ценю за то,
что выполнен отлично;
что учит он меня и вас
терпенью в час работы,
какое есть и посейчас
у тружениц Природы.
Письмена
Нам понятна рукописей жизнь.
Древние писали сверху вниз,
пишем мы горизонтальной строчкой,
свой рассказ заканчивая точкой.
Лишь деревья пишут все вокруг,
людям не показывая рук,
пишут круговыми письменами,
вовсе не изученными нами.
Летописец дерева в стволе
пишет, как на письменном столе;
он сучки обводит, как виньетки,
он по кругу вьет свои заметки
о зиме и лете, смене дней,
о глубоких замыслах корней.
Дневники свои ведут деревья,
ни к кому не чувствуя доверья.
Пишут, сколько лет им, как жилось,
как о ствол однажды терся лось;
строки есть на свернутых страницах
о садившихся на ветви птицах,
о дупле, о рое новых пчел
и о том, как дровосек прошел
по тайге серебряно-полярной
со своей пилою циркулярной.
Но не знает ствол высокомерный
о машинах фабрики фанерной.
Там ножом сияющим раскрыт
древний, но понятный манускрипт.
Говорит карельская береза
о дождях, о зное, о морозах,
записи подробные, по дням,
заповеди веткам и корням,
правила для распусканья почек,
и по кругу выписанный очерк,
что за лес и какова гроза,
и в морщинах мудрости – глаза
дерева, прожившего два века
перед юным взглядом человека.
О простоте
Желанье есть, мечтанье есть —
быть проще, проще, проще.
Простым-простым, как пить и есть,
простым, как тропка в роще,
простым, как дудки голосок,
несложный и нестрогий,
простым, как сена желтый стог,
как столбик у дороги,
простым, как ровная черта,
как дважды два четыре…
– Но разве эта простота
тебя устроит в мире?
Нет, я желаю быть простым,
как прост комбайн, понятный
тому, кто вел его густым
и жарким полем жатвы,
как выбор в множестве дорог
одной – вполне надежной!
Простым, как прост простой итог
работы очень сложной.
Простым, как двинувшие нас
расчеты пятилеток,
простым, как прост мой карий глаз
с его мильярдом клеток…
Ведь простота, она не ждет,
не топчется на месте,
а в вузе учится, растет
со всем народом вместе.
Происшествие
Ах, каких нелепостей
в мире только нет!
Человек в троллейбусе
ехал, средних лет.
Горько так и пасмурно
глядя сквозь очки,
паспортную карточку
рвал он на клочки.
Улетали в стороны
из окна – назад
женский рот разорванный,
удивленный взгляд…
Что ж такое сделано
ею или им?
Но какое дело нам,
гражданам чужим?
С нас ведь и не спросится,
если даже он
выскочит и бросится
с горя под вагон.
Дело это – личное.
Хоть под колесо!
Но как мне безразличное
сохранить лицо?
Что же мы колеблемся
крикнуть ему: «Стой!»
Разве нам в троллейбусе
кто-нибудь – ни свой?
«Шла по улице девушка. Плакала…»
Шла по улице девушка. Плакала.
Голубые глаза вытирала.
Мне понятно – кого потеряла.
Дорогие прохожие! Что же вы
проскользнули с сухими глазами?
Или вы не теряете сами?
Почему ж вы не плачете? Прячете
свои слезы, как прячут березы
горький сок под корою в морозы?..
Одна встреча
1
Я утром проснулся. Был воздух зимы – перламутр.
Тебя я увидел глазами, смотревшими внутрь.
В себе я увидел тебя – ты сияла внутри
и мне улыбалась, и мне говорила: «Смотри:
теперь не в себе я живу, а в тебе – я твоя…»
Но это, как видно, в то утро ослышался я.
2
Тебя, тебя мне нужно до зарезу,
чтоб приютить мое метеоритное железо,
несущееся к молодой планете —
к тебе, Земле, единственной на свете!
Хладеют и сжимаются светила,
и луны образуются из звезд,
так и любовь – она сейчас скатилась
кометным небом, волоча свой хвост
мимо Земли, прекрасной, нежной сушей
прильнувшей к Океану и уснувшей…
3
Позволь ты мне иметь воздушный замок,
чтоб побродить в его воздушных залах,
где будем мы, покинув город душный,
сидеть вдвоем и есть пирог воздушный.
Не в замке мы, не бродим, не пируем…
Я разве сыт воздушным поцелуем,
я разве рад, что в небо над бульваром
любовь летит воздушным детским шаром?
4
Горы мрака и мокрого мела
через душное небо таща,
погрозилась гроза, погремела
и ушла без дождя,
только молнией ломкой и скорой
на ходу кое-где посветив…
Так и эта любовь, у которой
никаких перспектив.
Дорогая, мой милый читатель,
в этот день грозовой духоты,
о, как ливень пришелся бы кстати, —
понимаешь ли ты?
5
Я просил (так ведь было же!):
правду вынь да положь!
Ты смолчала и выложила
ярко-желтую ложь.
Что положено – принято.
Хорошо. Я готов.
Но дарить ведь не принято
лживых, желтых цветов?
6
Это было не мыслями,
это было не чувствами —
чувства были немыслимы,
мысли были бесчувственны.
Это было не зрением,
а скорей – подозрением,
что теперь уже прошлое,
так сказать, дело прошлое.
Ляжешь, сядешь, подумаешь:
ждать ответа? Подумаешь!
Если даже останемся —
все равно – мы останемся
жить, друг другом забытые,
словно вещи забытые.
Это было сознание,
что душа без сознания.
7
Есть такое слово: «загоилось».
Это значит: боль, что была,
не прошла и не успокоилась,
а в привычку как-то вошла.
Рана вроде и безобидная,
можно долго терпеть, не крича.
Но привычка – вещь незавидная, —
как курение по ночам.
8
Сердце обрывается мое:
в поле – порыжевшее жнивье,
в роще – листья желтые летят,
их перед отлетом золотят.
Солнце начинает холодеть,
можно его в золото одеть,
с ним уйти за горизонт, туда —
в сумрак, в остыванье, в никогда.
Помню я светлеющий восток,
помню зеленеющий листок,
поле, где колосьями по грудь
заслонен теряющийся путь,
и вдали, у рощицы, ее…
Сердце обрывается мое.
Этот мир
Счастье – быть
частью материи,
жить, где нить
нижут бактерии,
жить, где жизнь
выжить надеется,
жить, где слизь
ядрами делится,
где улит
липкие ижицы
к листьям лип
медленно движутся.
Счастье – жить
в мире осознанном,
воздух пить,
соснами созданный,
быть, стоять
около вечности,
знать, что я
часть человечества,
часть мольбы
голосом любящим,
часть любви
в прошлом и будущем,
часть страны,
леса и улицы,
часть страниц
о революции.
Счастье – дом,
снегом заваленный,
где вдвоем
рано вставали мы,
где среди
лисьих и заячьих
есть следы
лыж ускользающих…
Шар земной,
мчащийся по небу.
Будет мной
в будущем кто-нибудь!
Дел и снов
многое множество
все равно
не уничтожится!
Нет, не быть
Раю – Потерянным!
Счастье – быть
частью материи.
Уверенность
Пришел осторожный апрель.
Полградуса плюс или минус.
Но все-таки мир потеплел.
Я словом с весной перекинусь.
Попробую свистнуть дрозду,
чтоб он удивился и глянул.
Попробую вызвать грозу,
чтоб гром покорился и грянул.
А если я ночью умру,
весны не увидя в расцвете, —
что, разве поля на пару
взойдут без меня на рассвете?
Я мир этот страстно любил
и облик его не забуду —
я жизнью материи был,
я жизнью энергии буду!
Не дух из долины теней,
не втуне тоскующий призрак, —
я буду у вас на стене
дробиться в бесчисленных призмах.
Я буду как клетка расти,
входить в сочетанья молекул
и даже как пыль на пути
лежать, где автобус проехал!
Я буду в значенье любом
менять свое имя и облик,
и в мире нет атомных бомб,
меня уничтожить способных!
Перемена
Переходя на белый цвет
волос, когда-то черных,
я избавляю белый свет
от детскостей повторных,
от всех причуд, что по плечу
лишь молодым атлетам.
Я с ними больше не хочу
соревноваться цветом.
Пусть зеркала смеются: стар
Нет, вы меня не старьте.
Я серебристо-белым стал,
но как и встарь – на старте!
Тревога
Я этой ночью был встревожен:
мне показалось, что створожен
мой мозг, способный мерой мысли
всю ширь Галактики исчислить,
что он распался на частицы,
что ничего ему не снится.
Как? Разве оптика глазная
была неточной и неверной,
туманно зренью объясняя
наш ясный мир четырехмерный?
А слух, что дрожью на мембране
жил в лабиринте, – разве плохо
умел творить из колебаний
слова, мелодии и грохот?
Ведь миру мысль была экраном!
Зачем же убивать так рано
такие дорогие вещи
в угоду химии зловещей?
Ведь, Человечество, ты тоже
смотрело этими глазами,
ты осязало этой кожей,
рыдало этими слезами,
и этим мозгом человека
со всем двухмиллиардным валом
ты, Человечество, полвека
себя живущим сознавало,
мое ты чувствовало счастье,
и смерть моя – твоя отчасти.
Так дорожи малейшей жизнью
всех нас – единственных и многих.
И не дави, как давят слизней
на вечереющей дороге
людей безжалостные ноги.
Черновик
Это было написано начерно,
а потом уже переиначено
(пере-и, пере-на, пере-че, пере-но…) —
перечеркнуто и, как пятно, сведено;
это было – как мучаться начато,
за мгновенье – как судорогой сведено,
а потом
переписано заново, начисто
и к чему-то неглавному сведено.
Это было написано начерно,
где все больше, чем начисто, значило.
Черновик – это словно знакомство случайное,
неоткрытое слово на «нео»,
когда вдруг начинается необычайное:
нео-день, нео-жизнь, нео-мир, нео-мы,
неожиданность встречи перед дверьми
незнакомых – Джульетты с Ромео.
Вдруг —
кончается будничность!
Начинается будущность
новых глаз, новых губ, новых рук, новых встреч,
вдруг губам возвращается нежность и речь,
сердцу – биться способность,
как новая область
вдруг открывшейся жизни самой,
вдруг не нужно по делу, не нужно домой,
вдруг конец отмиранию и остыванию,
нужно только, любви покоряясь самой,
удивляться всеобщему существованию
и держать
и сжимать эту встречу в руках,
все дела посторонние выронив…
Это было написано все на листках,
рваных, разных размеров, откуда-то вырванных.
Отчего же так гладко в чистовике,
так подогнано все и подобрано,
так уложено ровно в остывшей строке,
после правки и чтенья подробного?
И когда я заканчивал буквы стирать
для полнейшего правдоподобия —
начинал, начинал, начинал он терять
все свое, все мое, все особое,
умирала моя черновая тетрадь,
умирала небрежная правда помарок,
мир, который был так неожидан и ярок
и который увидеть сумели бы вы,
в этом сам я повинен, в словах не пришедших,
это было как встреча
двух – мимо прошедших,
как любовь, отвернувшаяся от любви.
Роман
Сначала мы письма писали
и через перила свисали,
потом мы с тобой пересели
на детских коней карусели,
как дети, прощенья просили,
друг другу цветы приносили,
и вдруг на столе антресолей
рассыпали горсточку соли,
и – всё: отвернулись, остыли,
малейших обид не простили,
и даже «пока» не сказали,
как делают – на вокзале.
«Освободи меня от мысли…»
Освободи меня от мысли:
со мной ли ты или с другим.
Освободи меня от мысли:
любим я или не любим.
Освободи меня от жизни
с тревогой, ревностью, тоской,
и все, что с нами было, —
изничтожай безжалостной рукой.
Ни мнимой жалостью не трогай,
ни видимостью теплоты, —
открыто стань такой жестокой,
какой бываешь втайне ты.
Кольцо
Браслеты – остатки цепей.
И в этом же роде, конечно,
на ручке покорной твоей
блестит золотое колечко.
О, бедная! Грустно до слез.
Ты губишь себя, ты не любишь.
Кольцо уже с пальцем срослось,
а как свою руку отрубишь?
Ревность
О, чувство «ревность» —
какая древность!
В нем жив доныне
кнут над рабыней.
Оно – как скряга,
дрожит от страха,
дукаты прячет,
рычит и плачет.
В нем болью ноет
кольцо ножное.
Оно – как выкрик
в пещере диких.
«Мое! Не трогай!» —
рев над берлогой.
Я не позволю
ему проснуться
и болью злою
меня коснуться!
Просто
Нет проще рева львов
и шелеста песка.
Ты просто та любовь,
которую искал.
Ты – просто та,
которую искал,
святая простота
прибоя волн у скал.
Ты просто так
пришла и подошла,
сама – как простота
земли, воды, тепла.
Пришла и подошла,
и на песке – следы
горячих львиных лап
с вкрапленьями слюды.
Нет проще рева львов
и тишины у скал.
Ты просто та любовь,
которую искал.
К вечеру
Вторая половина жизни.
Мазнуло по вискам меня
миганием зеркальной призмы
идущего к закату дня.
А листья все красней, осенней
и станут зеленеть едва ль,
и встали на ходули тени,
все дальше удлиняясь, вдаль.
Вторая половина жизни,
как короток твой к ночи путь, —
вот скоро и звезда повиснет,
чтоб перед темнотой блеснуть.
И гаснут в глубине пожара,
как толпы моих дней, тесны,
любимого Земного шара
дороги, облака и сны.
Ушедшее
Вот Новодевичье кладбище,
прохлада сырой травы.
Не видно ни девочки плачущей,
ни траурной вдовы.
Опавшее золото луковиц,
венчающих мир мирской.
Твоей поэмы рукопись —
за мраморной доской.
Урны кое-как слеплены,
и много цветов сухих.
Тут прошлое наше пепельное,
ушедшее в стихи.
Ушедшее, чтоб нигде уже
не стать никогда, никак
смеющейся жизнью девушки
с охапкой цветов в руках.
«Я пил парное далеко…»
Я пил парное далеко
тумана с белым небом,
как пьют парное молоко
в стакане с белым хлебом.
И я опять себе простил
желание простора,
как многим людям непростым
желание простого.
Так пусть святая простота
вас радует при встрече,
как сказанное просто так
простое: «Добрый вечер».
СТИХИ О ЗАГРАНИЦЕ (1956–1957)
В путь
Семафор перстом указательным
показал на вокзал у Казатина.
И по шпалам пошла, и по шпалам пошла
в путь – до Чопа, до Чопа – до Чопа —
вся команда колес без конца и числа,
невпопад и не в ногу затопав…
И покрылось опять небо пятнами
перед далями необъятными.
И раскрыто сердце заранее —
удивлению, узнаванию.
Приезд
Каждому из нас страна иная
чем-то край родной напоминает.
Первый скажет: этот снег альпийский
так же бел, как на Алтае, в Бийске.
А второй, – что горы в дымке ранней
близнецы вершин Бакуриани.
Третий, – что заснеженные ели
точно под Москвой после метели.
Ничего тут странного – все это
просто та же самая планета.
И, наверно, в будущем мы будем
еще ближе здесь живущим людям.
Вечер в Доббиако
Холодный, зимний воздух
в звездах,
с вечерними горами
в раме,
с проложенною ближней
лыжней,
с негромким отдаленным
звоном.
Пусть будет этот вечер
вечен.
Не тронь его раскатом,
Атом.
В Альпах
Tre Cime de Lavaredo —
Три Зуба Скалистой Глыбы
стоят над верхами елей.
Но поезд не может медлить —
он повернул по-рыбьи
и скрылся в дыре туннеля.
И вдруг почернели стекла,
и вот мы в пещере горной,
в вагоне для невидимок.
И словно во мраке щелкнул
фотоаппарат затвором,
оставив мгновенный снимок:
«Стоят над верхами елей
Три Зуба Скалистой Глыбы
Tre Cime de Lavaredo».
Лесом в гору
Лесом в гору, налево от ленты шоссе:
лесом заняты Альпы, деревьями в снежной красе.
Друг на друга идут, опираясь ветвями, они,
озираясь назад на вечерней деревни огни.
В гору, в ногу с шагающим лесом, я шел,
иногда обгоняя уже утомившийся ствол.
В дружной группе деревьев и с юной елью вдвоем,
совершающей в гору свой ежевечерний подъем.
Мне не нужно ни славы, ни права рядить и судить,
только вместе с природой – на вечные горы всходить.
Над деревней
Поезд с грохотом прошел,
и – ни звука.
С головою в снег ушли
Доломиты.
Нише – сводчатый пролет
виадука.
Ниже – горною рекой
Дол омытый.
Вечно, вечно бы стоять
над деревней,
как далекая сосна
там, на гребне.