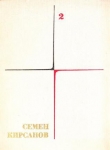Собрание сочинений. Том 1. Лирические произведения

Текст книги "Собрание сочинений. Том 1. Лирические произведения"
Автор книги: Семен Кирсанов
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 9 страниц)
Не деньга ли у тебя завелась,
что подстриглась ты и завилась?
Вот и ходишь вся завитая,
и висок у тебя – запятая!
Будь любезен, ты меня не критикуй,
у меня полон денег ридикуль.
Я Петровкой анадысь проходила
и купила ридикуль из крокодила.
Будь любезна, расскажи про это мне:
не стипендию ли класть в портмоне?
Или стала ты, повыострив норов,
получать гонорар от ухажеров?
Подозрительный ты стал, дорогой!
Он мне нужен для надоби другой —
а для пудреницы, хны и помады
и платочки чтобы не были помяты.
Ты не прежним говоришь языком,
да мое тебе слово – не закон,
этих дней не оборвать, не побороть их!
Разойдемся ж, как трамваи в повороте!
Белофетровой кивнула головой,
помахала ручкой – замшей голубой,
отдала кондуктору монету
и по рельсам заскользила – и нету!
Нащот шубы
У тебя пальтецо
худоватенькое:
отвернешь подлицо
бито ватенкою.
А глядишь, со двора —
не мои не юга,
а твои севера,
где снега да вьюга!..
Я за тайной тайги,
если ты пожелашь,
поведу сапоги
в самоежий шалаш.
А у них соболей —
что от них заболей!
А бобров, а куниц —
хоть по бровь окунись!
На ведмедя бела
выйду вылазкою.
Чтобы шуба была,
шкуру выласкаю.
Я ведмедя того
свистом выворожу,
я ведмедю тому
морду выворочу.
Не в чулках джерси,
подпирая джемпр, —
ты гуляй в шерсти
кенгуров и зебр,
чтобы ныл мороз,
по домам трубя,
чтоб не мог мороз
ущипнуть тебя.
Ей
Я покинул знамена
неба волости узкой,
за истоками Дона,
коло Тростенки Русской.
И увез не синицу,
но подарок почтовый,
а девицу-зеницу
за глухие трущобы.
И не поезд раскинул
дыма синие руки —
и, закинув на спину,
вынес тело подруги.
Волк проносит дитятю
мимо логов сыновних,
мимо леса, где дятел —
телеграфный чиновник.
То проточит звереныш
ржи заржавленный волос,
то качнется Воронеж, то —
Репьевская волость!
Хорошо ему, волку,
что она, мимо гая,
на звериную холку
никнет, изнемогая.
Грузинская
О, Картвелия целит за небо,
пули легкие дальше не были.
В небо кинемся амхинагебо,
двинем в скалы на взмахи сабли.
Чика красного, чика белого,
Чиковани и Жгенти, чокнемся! —
Сокартвелоши ми пирвелад вар! —
Говорю я, ко рту рожок неся.
Зноем обдал нас город Тбилиси.
Хорохорятся горы голубо.
Дождь на Мтацминде, тихо вылейся
и до Майдани мчи по желобам…
Любовь математика
Расчлененные в скобках подробно,
эти формулы явно мертвы.
Узнаю: эта линия – вы!
Это вы, Катерина Петровна!
Жизнь прочерчена острым углом,
в тридцать градусов пущен уклон,
и разрезан надвое я
вами, о, биссектриса моя!
Знаки смерти на тайном лице,
угол рта, хорды глаз – рассеки!
Это ж имя мое – ABC —
Александр Борисыч Сухих!
И когда я изогнут дугой,
неизвестною точкой маня,
вы проходите дальней такой
по касательной мимо меня!
Вот бок о бок поставлены мы
над пюпитрами школьных недель, —
только двум параллельным прямым
не сойтись никогда и нигде!
ТБЦ
Роза, сиделка и россыпь румянца.
Тихой гвоздики в стакане цвет.
Дальний полет фортепьянных романсов.
Туберкулезный рассвет.
Россыпь румянца, сиделка, роза,
крашенной в осень палаты куб.
Белые бабочки туберкулеза
с вялых тычинок-губ.
Роза, сиделка, румянец… Втайне:
«Вот приподняться б и „Чайку“ спеть!..»
Вспышки, мигания, затуханья
жизни, которой смерть.
Россыпь румянца, роза, сиделка,
в списках больничных которой нет!
(Тот посетитель, взглянув, поседел, как
зимний седой рассвет!)
Роза. Румянец. Сиделка. Ох, как
в затхлых легких твоих легко
бронхам, чахотке, палочкам Коха.
Док-тора. Кох-ха. Коха. Кохх…
Бой Спасских
Колокола. Коллоквиум
колоколов.
Зарево их далекое
оволокло.
Гром. И далекая молния.
Сводит земля
красные и крамольные
грани Кремля.
Спасские распружинило —
каменный звон:
Мозер ли он? Лонжин ли он?
Или «Омега» он?
Дальним гудкам у шлагбаумов
в унисон —
он до района Баумана
донесен.
«Бил я у Иоанна, —
ан, —
звону иной регламент
дан.
Бил я на казнях Лобного
под барабан,
медь грудная не лопнула, —
ан, —
буду тебе звенеть я
ночью, в грозу.
Новоград и Венеция
кнесов [2]2
Кнес – «потолочное стропило», см. князёк. Примечание сканериста.
[Закрыть]и амбразур!»
Била молчат хвалебные,
медь полегла.
Как колыбели, колеблемы
колокола.
Башня в облако ввинчена —
и она
пробует вызвонить «Интерна —
ционал».
Дальним гудкам у шлагбаумов
в унисон —
он до района Баумана
донесен.
Девичий Именник
Ты искал имен девичьих,
календарный чтил обычай,
но, опутан тьмой привычек,
не нашел своей добычи,
И сегодня в рифмы бросишь
небывалой горстью прозвищ!
Легкой выправкой оленей
мчатся гласные к Елене.
В темном лике – Анастасья —
лепота иконостасья.
Тронь, и вздрогнет имя – Анна —
камертон, струна, мембрана.
И потянет с клички Фекла —
кухня, лук, тоска и свекла.
Встань под взмахом чародея —
добродетель – Доротея!
Жди хозяйского совета,
о модистка Лизавета!
Мармеладно-шоколадна
Ориадна Николавна…
Отмахнись от них рукою,
зазвени струной другою.
Не тебе – звучали эти
имена тысячелетий.
Тишина! Silence! и Ruhig!
Собери, пронумеруй их, —
календарь истрепан серый, —
собери их в буквы серий,
чтобы люди умирали,
как аэро, с нумерами!
Я хотела вам признаться,
что люблю вас, R-13!
Отвечаю, умилен:
Я люблю вас, У-1 000 000!
Северные письма
1
Севернее!
Севернее!
В серое!
В серебряное!
В сумерки,
рассеянные
над седыми дебрями!
Выше!
Выше!
Севернее!
Северней полет…
Шумный ветер стервенеет,
нескончаем лед.
Разве есть на свете юг?
Дай ответ!
Разве этих синих дуг
где-то нет?
Холод молод и растущ,
холод гол,
и гудит полярных стуж
колокол.
И назад уйти нельзя,
задрожав, —
выше – в гибель поднялся
дирижабль.
2
Сколько дымных
белых лет,
сколько длинных
кинолент
замерзало?
Сколько темных
звезд вослед
замерцало?
Путешествуем? Путешествуем
в снах туманных высот.
Мы над северным снегом шефствуем
с высоты пятисот.
Что за право? Какая охота?
Чьи ладони несут
миллион ледяных Хара-Хото
подо мною внизу?
3
Милая!
В таком аду,
где и лед
кричит «ату»,
с лету, сразу
разберешь,
до чего
наш мир хорош!
Слушай!
Мной осиротев,
вспомни,
вдруг похолодев,
на какой
я широте,
на какой
я долготе.
4
Недавно в безмолвную темень,
от ужаса сузив зрачки,
на самое полюса темя
они побросали флажки.
Смешные! Зеленые с красным,
но белое их замело.
Назад возвращаться не страшно,
и айсберг принять за мелок.
А южнее – лучше,
лучше – ближе к лету.
Северные люди
пели песню эту:
«Пимы наши,
пумы,
чумы наши,
шумы,
думы наши,
дымы
кажутся
седыми».
А южнее – лучше,
лучше – ближе к лету.
Мурманские люди
пели песню эту:
«Роба наша —
рыба,
слава наша —
ловля,
сельди
идут в сети,
тропы наши —
трапы».
А южнее – лучше,
лучше – ближе к лету.
В Новгороде люди
пели песню эту:
«Снится мне
пшеница,
рожь
всего дороже,
а ячменной
жмене
на пшене
жениться».
А южнее – лучше,
лучше – ближе к лету.
Черноморья люди
пели песню эту:
«У купальни —
пальмы;
ляг плашмя
у пляжа;
камбала
рукам была
тяжела,
как яшма».
Ниже! Туже! Туже!
Вдруг запахло стужей.
Кто-то у Батума
обо мне подумал.
Ты не проворонишь
звук из южных комнат?
Может, у Воронежа тоже,
может, помнят?..
Льдины, льдины, льдины…
Дирижабль, падая
на лед, в крик единый
разорвался надвое.
5
Предъявляйте полюсу счет,
стиснув брови до морщи,
от замерзших уже и еще
не замерзших.
Отбивая крылья грачам,
промерзало и пролетало,
сломя голову и крича,
голубое тело Латама [3]3
Джон Лэтэм (также Латам англ. John Latham; 27 июня 1740 – 4 февраля 1837) – британский врач, орнитолог, натуралист и автор. Примечание сканериста.
[Закрыть].
Небывало низка земля,
не бывало пространства ниже.
Сколько градусов ниже нуля
и меня, обхватив, пронижет?
Но увидит пингвиний съезд,
как убит самолет разбегом,
как дотягивается SOS,
чтоб рукою схватить Шпицберген.
6
Этот кромешный округ,
граничащий с нами рядом,
подписывает картограф
словом: «Dediseratum». [4]4
Desideratum (лат.) – (что-л.) недостающее, желаемое. Примечание сканериста.
[Закрыть]
Парусники-нетопыри
так же носили Пири,
от ледяных осколков
так же спасался Кольгоу.
На ледяную крепость
шел погибать «Эребус»,
и, как они, замучен
дыбою льдов Амундсен.
7
Спросишь, бегло
проглядевши прессу,
что за пекло
бьет в нас из обреза?
Где «Малыгин»?
В ледовитом гуде
бледнолики
и бесследны люди.
У какой он
нынче параллели?
Он спокоен,
льды не поалели.
За тобою
я плыву, «Малыгин»,
китобоем
в этот лед великий,
и прилажен
парус к верху улиц,
такелажем
рифмы протянулись.
Уплывает, как дельфин —
фин-Финляндия.
Моря ширится разлив —
лиф-Лифляндия.
Как медведь пластами лап —
лап-Лапландия.
Корабля широкий крен —
грен-Гренландия.
8
Коду и азбуке
выучим айсберги,
килем железным
в гущу влетим,
на повороте
нам побороть их,
бело-зеленые
глыбы льдин.
Страшные лопасти
в волны вплавивши,
мы пробиваем
заторы,
громы кларнетов
и грохоты клавишей
в имени той,
о которой…
Первым теплом,
как тобою, обласканный,
ветер меня
облетает,
орден снежинки
на меховом лацкане
тает, дрожит
и не тает…
9
Скоро встретим
товарищей,
возвратившихся
сверху.
Скинут шапки
да варежки
да проделают
сверку.
Перед днями
хорошими
шапки теплые
стащат,
у кого
отморожено,
а кого
недостача…
Там,
где воет и мечется
море,
льдом облитое,
будет жить
человечество
голубой
теплотою.
Будем петь,
созывая,
кто смелее
и гибче,
острова
называя
именами
погибших.
Аладин у сокровищницы
Стоят ворота, глухие к молящим глазам и слезам.
Откройся, Сезам!
Я тебя очень прошу – откройся, Сезам!
Ну, что тебе стоит, – ну, откройся, Сезам!
Знаешь, я отвернусь,
а ты слегка приоткройся, Сезам.
Это я кому говорю – «откройся, Сезам»?
Откройся или я тебя сам открою!
Ну, что ты меня мучаешь, – ну,
откройся, Сезам, Сезам!
У меня к тебе огромная просьба: будь любезен,
не можешь ли ты
открыться, Сезам?
Сезам, откройся!
Раз, откройся, Сезам, два, откройся, Сезам, три…
Нельзя же так поступать с человеком, я опоздаю,
я очень спешу, Сезам, ну, Сезам, откройся!
Мне ненадолго, ты только откройся
и сразу закройся, Сезам…
Стоят ворота, глухие к молящим глазам и слезам.
Мелкие огорчения
Почему я не «Линкольн»?
Ни колес, ни стекол!
Не под силу далеко
километрить столько!
Он огромный, дорогой,
мнет дорогу в сборки.
Сразу видно: я – другой,
не фабричной сборки.
Мне б такой гудок сюда,
в горло, – низкий, долгий,
чтоб от слова в два ряда
расступались толпы.
Мне бы шины в зимний шлях,
если скользко едется,
чтоб от шага в змеях шла
злая гололедица.
Мне бы ярких глаза два,
два зеленоватых,
чтобы капель не знавать
двух солоноватых.
Я внизу, я гужу
в никельные грани,
я тебя разбужу
утром зимним ранним.
Чтоб меня завести,
хватит лишь нажима…
Ну, нажми, ну, пусти,
я твоя машина!
Поезд в Белоруссию
Предутренний воздух и сумрак.
Но луч! И в кустарную грусть
на сурмах, на сурмах, на сурмах
играет зарю Беларусь.
А поезд проносится мимо,
и из паровозной трубы —
лиловые лошади дыма
взлетают, заржав, на дыбы.
Поляны еще снеговиты,
еще сановиты снега,
и полузатоплены квиты
за толпами березняка.
Но скоро под солнцем тяжелым
и жестким, как шерсть кожухов
на квитень нанижутся бжолы
и усики июльских жуков.
Тогда, напыхтевшись у Минска,
приветит избу паровоз:
тепла деревянная миска,
хрустит лошадиный овес.
И тут же мне снится и чуется
конницы топот и гик,
и скоро десницу и шуйцу
мы сблизим у рек дорогих.
Чудесный топор дровосека,
паненка в рядне и лаптях…
Прекрасная! Акай и дзекай,
за дымом и свистом летя!
Над нами
На паре крыл
(и мне бы! и мне бы!)
корабль отплыл
в открытое небо.
А тень видна
на рыжей равнине,
а крик винта —
как скрип журавлиный.
А в небе есть
и гавань, и флаги,
и штиль, и плеск,
и архипелаги.
Счастливый путь,
спокойного неба!
Когда-нибудь
и мне бы, и мне бы!..
На кругозоре
На снег-перевал
по кручам дорог
Кавказ-караван
взобрался и лег.
Я снег твой люблю
и в лед твой влюблюсь,
двугорый верблюд,
двугорбый Эльбрус.
Вот мордой в обрыв
нагорья лежат
в сиянье горбы
твоих Эльбружат.
О, дай мне пройти
туда, где светло,
в приют Девяти,
к тебе на седло!
Пролей родники
в походный стакан.
Дай быстрой реки
черкесский чекан!
Ветер
Скорый поезд, скорый поезд, скорый поезд!
Тамбур в тамбур, буфер в буфер, дым об дым!
В тихий шелест, в южный город, в теплый пояс,
к пассажирским, грузовым и наливным!
Мчится поезд в серонебую просторность.
Всё как надо, и колеса на мази!
И сегодня никакой на свете тормоз
не сумеет мою жизнь затормозить.
Вот и ветер! Дуй сильнее! Дуй оттуда,
с волнореза, мимо теплой воркотни!
Слишком долго я терпел и горло кутал
в слишком теплый, в слишком добрый воротник.
Мы недаром то на льдине, то к Эльбрусу,
то к высотам стратосферы, то в метро!
Чтобы мысли, чтобы щеки не обрюзгли
за окошком, защищенным от ветров!
Мне кричат: – Поосторожней! Захолонешь!
Застегнись! Не простудись! Свежо к утру! —
Но не зябкий инкубаторный холеныш
я, живущий у эпохи на ветру.
Мои руки, в холодах не костенейте!
Так и надо – на окраине страны,
на оконченном у моря континенте,
жить с подветренной, открытой стороны.
Так и надо – то полетами, то песней,
то врезая в бурноводье ледокол, —
чтобы ветер наш, не теплый и не пресный,
всех тревожил, долетая далеко.
Свиданье
Я пришел двумя часами раньше
и прошел двумя верстами больше.
Рядом были сосны-великанши,
под ногами снеговые толщи.
Ты пришла двумя часами позже.
Все замерзло. Ждал я слишком долго.
Два часа еще я в мире прожил.
Толстым льдом уже покрылась Волга.
Наступал период ледниковый.
Кислород твердел. Белели пики.
В белый панцирь был Земшар закован.
Ожиданье было столь великим!
Но едва ты показалась – сразу
первый шаг стал таяньем апрельским.
Незабудка потянулась к глазу.
Родники закувыркались в плеске.
Стало снова зелено, цветочно
в нашем теплом, разноцветном мире.
Лед – как не был, несмотря на то что
я тебя прождал часа четыре.
Мексиканская песня
Тегуантепек, Тегуантепек,
страна чужая!
Три тысячи рек, три тысячи рек
тебя окружают.
Так далеко, так далеко —
трудно доехать!
Три тысячи лет с гор кувырком
катится эхо.
Но реки те, но реки те
к нам притекут ли?
Не ждет теперь Попокатепетль
дней Тлатекутли.
Где конь топотал по темной тропе,
стрела жужжала, —
Тегуантепек, Тегуантепек,
страна чужая!
От скал Сиерры до глади плато —
кактус и юкка.
И так далеко, что поезд и то
слабая штука!
Так далеко, так далеко —
даже карьером
на звонком коне промчать нелегко
гребень Сиерры.
Но я бы сам свернулся в лассо,
цокнул копытом,
чтоб только тебя увидеть в лицо,
Сиерры чикита!
Я стал бы рекой, три тысячи рек
опережая, —
Тегуантепек, Тегуантепек,
страна чужая!
Стихи на сон
Пусть тебе не бредится
ни в каком тифу,
пусть тебе не встретится
никакой тайфун!
Пусть тебе не кажется
ни во сне, ни въявь,
что ко дну от тяжести
устремляюсь я.
Даже если гибелью
буря наяву,
я, наверно, выплыву,
дальше поплыву.
Стерегу и помню я,
навек полюбя:
никакой Японии
не схватить тебя.
Утром время радоваться,
не ворчи,
не грусти без надобности —
нет причин.
Пусть тебе не бредится
ни в каком тифу,
пусть тебе не встретится
никакой тайфун!
Сон с продолжением
Не спится мне и снится,
что я попал в беду,
что девочка в платье ситцевом
тонет в моем бреду.
Тянется рука беленькая
к соломинке на берегу,
но я с кроватного берега
руки протянуть не могу!
Я мучаюсь, очень мучаюсь,
хочу поднять глаза,
но их ни в коем случае,
приоткрыть нельзя.
Я сон этот точно выучил:
он в полдень еще ясней…
Как страшно, что я не выручил
ту девочку во сне!
Последние ночи
Ингалятор, синий спирт,
и она не спит.
– Сядь поближе, милый мой,
на постель мою,
сделай так, чтоб вдруг зимой
засиял июль…
– Хорошо, я попрошу,
сговорюсь с сестрою,
я подумаю, решу,
что-нибудь устрою.
– Милый, в горле моем дрожь,
высохло, прогоркло.
Ты другое мне найдешь
какое-нибудь горло?
Синий отсвет кинул спирт
на подушку белую…
– Не тревожься, лучше спи,
я найду, я сделаю.
– Милый, сделай для меня,
чтоб с такою болью
год один хотя бы я
прожила с тобою.
Вместе в будущем году
к золотому пляжу…
– Все устрою, все найду… —
А сам плачу, плачу…
Боль
Умоляют, просят: – Полно,
выпей, вытерпи, позволь,
ничего, не будет больно… —
Вдруг, как молния, – боль!
Больно ей, и сразу мне,
больно стенам, лампе, крану.
Мир окаменев,
жалуется на рану.
И болят болты у рельс,
и у угля в топках резь,
и кричат колеса: «Больно!»
И на хлебе ноет соль.
Больше – мучается бойня,
прикусив у плахи боль.
Болит все, болит всему,
и щипцам домов родильных,
болят внутренности у
снарядов орудийных,
моторы у машин, закат
болит у неба, дальние
болят у времени века,
и звон часов – страдание.
И это всё – рука на грудь —
молит у товарищей:
– Пока не поздно, что нибудь
болеутоляющее!
ТВОЯ ПОЭМА (1937) [5]5
Очень тяжело передать в fb2 ритм стихотворений Кирсанова. Вот отрывок из поэмы:

Примечание сканериста.
[Закрыть]
Клаве
Сегодня
июня первый день,
рожденья твоего
число.
Сдираю
я
с календаря
ожогом ранящий
листок…
О, раньше!
Нам с тобой везло.
С цветами
в тишь,
пока
ты спишь, —
с охапкой лепестков
и лент
будить губами,
тронуть лишь
вопросом:
«Сколько тебе лет?»
И на руку
надеть часы.
«Красивые они,
носи…»
Не будет больше
лет тебе!
Часам
над пульсом
не ходить!
Но я ж привык
будить,
дарить,
вывязывая
вензеля
из букв:
Ка, эЛ, А, Вэ и А…
Как быть?
Что подарить теперь,
чтоб ты взяла?..
Стихи одни,
где мы с тобой
сквозь плач видны,
где «ты!» —
в слезах воскликну я,
твоя поэма!
В горький срок
я,
как с ожога
бинт, сорвал
с календаря
листок,
даря
запекшиеся в ночь
слова.
Теперь ничто —
стихи одни
меня
мечтой
вернут в те дни;
в стихах
я возвращаюсь вновь
в тревогу снов —
дорогой вспять
опять в свою беду
опять
в бреду
сведенных болью
рифм
я в комнату
к тебе
бреду.
Опять
твой столик,
твой стакан
и столько
склянок,
ампул,
игл!
И лампу
доктор ловит лбом,
циклопа
никелевый глаз
наводит блик
на ужас язв,
о,
в горлышке
твоем больном.
Каких тут
не было врачей!
Чей стетоскоп
с тоской
не лег
на клочья легких
у плеча?!
Едва стучит
в руке врача
твой
нитевидный пульс!
Твой бред.
Твой лоб
нагрет
ладонью проб.
– Как голова?
– Немного льда?
А как погода?
– Холода… —
Я лгал:
три дня,
как таял март,
лишь утром
лужи леденя.
Под сорок
жар
взбежал
с утра.
То капли каплил
невпопад
гомеопат.
Принес тебе
тибетский лекарь
пряных трав.
Рука профессора
прижгла
миндалины.
Пришла
старуха знахарка.
Настой
на травке
принесла простой…
Ты говорила мне:
– Лечи
чем хочешь —
каплями,
травой…
И пахли
грозами лучи
от лампы дуговой.
А ты
уже ловила воздух ртом.
И я
себя
ловил
на том,
что тоже
воздух ртом
ловлю
и словно за тебя
дышу.
Как я тебя люблю!
Спешу —
то причесать тебя,
то прядь
поправить,
то постель
прибрать,
гостей ввести,
то стих прочесть…
Не может быть,
что ты
не сможешь жить!
Лежи!
Ни слова лжи:
мы будем жить!
Я отстою
тебя,
свою…
И вытирал
платочком рот,
и лгал —
мне врач сказал:
умрет.
А что я мог?
Пойти в ЦК?
Я был в ЦК.
Звонить в Париж?
Звонил.
Еще горловика
позвать?
Я звал.
(А ты горишь!)
Везти в Давос?
О, я б довез
не то что на Давос —
до звезд,
где лечат!
Где найти лекарств?
И соли золота,
и кварц,
и пламя
финзеновских дуг —
все!
Все перебывало тут!
А я надеялся:
а вдруг?
А вдруг изобретут?
Вокруг
сочувствовали мне.
Звонки
товарищей,
подруг:
– Ну как?.. —
Как
руки милые
тонки!
Как
мало их
в моих руках!
Потом остался
морфий.
Я
сам набирал
из ампул яд.
Сам впрыскивал.
А ты несла
такую чушь
про «жить со мной,
про юг
и пляж со мной,
про юж…
и ляг со мной,
родной…»
И бредила:
«Плечом
к лучу,
на башню Люсину
лечу,
к плечу жирафик
и верблюд.
Родной,
я так тебя люблю,
так обожаю,
все терпя
лишь для тебя!..»
А морфий
тащит
в мертвый сон,
и стон,
и жар
над головой,
и хрип
чахотки горловой.
Ты так дышала,
будто был
домашний воздух
страшно затхл,
и каждый вдох
тебя губил…
Покорность странная
в глазах.
Вдруг улыбалась,
пела вдруг,
звала подруг,
просила – мать,
потом
на весь остаток дня
все перестала
понимать.
Под ночь
увидела меня
и издали уже,
из нет—
последним
шепотом любви:
– А ты смотри
живи,
еще Володька есть… —
И в бред,
в дыханье,
в хрип,
в – дышать всю ночь.
Помочь
никто уже не мог.
Врач говорит,
что он не бог.
Я бросился
на свой матрас,
и плечи плач
потряс.
Устал
и утонул
во сне.
Я спал
среди каких-то скал
с тобой,
еще живая ты!
Губой
ресницы трогаю,
пою:
ты мне нужна,
ты мне мила!..
Стук.
Просыпаюсь.
В дверь мою
мать постучалась:
– Умерла…
Прошло
лишь тридцать дней пустых,
как пульс утих,
как лоб остыл,
как твой
последний след
простыл, —
от того дня,
как не к тебе
пришли,
а к ней
друзья, родня,
лишь тридцать дней,
как вместо
«ты»
ты стала «та»,
как Тышлер [6]6
Александр Григорьевич Тышлер (1898–1980) – советский живописец, график, театральный художник, скульптор. Заслуженный деятель искусств УзССР (1943). Лауреат Сталинской премии второй степени (1946). Примечание сканериста.
[Закрыть]
на квадрат листа
тушь наносил
и не просил
«не двигаться!» —
она сама
себя
как мертвая вела,
сама
не двигалась.
С ума
я не сходил,
а больше сам
мать
успокаивал;
снимать
ее с постели в гроб
пришел,
и платья
синий шелк
в цветах
оправил сам,
и к волосам
приладил с дрожью
косу ту,
что бронзой
светится насквозь…
Вокруг
и в гроб
побольше роз,
чтоб ей
лежалось,
как в саду.
Прощай, прощай!
Я девять лет
брал счастье
за руку
и вел, —
и нет
его!
Я должен встать
и жизнь перелистать
и, встав,
начать
все
с чистого листа.
Как
мир за месяц
поредел!
Ну да,
я здесь,
а Клава где?
Где
эта сказочная «Гда»,
жизнь,
где без нас идут года?
Нет!
Я не мрачен.
Я хочу
войти с другими
к жизни в дом,
пробиться
к чистому лучу
поэзии
своим трудом.
Я говорю:
работай,
лезь
по строчке
лестничной
к звезде!
Я не уйду.
Я жив.
Я здесь!
Ну да,
я здесь,
а Клава где?
Вначале,
десять первых дней,
я позабыл
рыдать над ней.
Меня знобил
какой-то грипп
больного полузабытья.
Должно быть, я
не влип
еще
в топь
трудной жизни
без тебя.
Как прочно
всажен в ребра нож, —
должно ж
так сердце наболеть,
чтоб на балет
пойти в Большой.
С оглохшей
наглухо душой
шел
в «Метрополь»,
часов до трех
в ночь
на бульварную скамью,
в полузнакомую
семью, —
я стал тащиться
в те места,
куда б не стал
ходить при ней,
но только не домой,
где ждет,
где жжет меня
мой враг стальной…
Мыслишкой —
сразу кончить все —
не слишком страшно
сжать висок.
Подумаешь!
В Москве ночной
при телефоне
эта мысль,
как ни томись,
была вполне
карманной,
тихонькой,
ручной.
Но дома!
Где лежит пятном —
да,
на пол пролитый
ментол
и стул
на коврике цветном,
вся наша мебель,
старый стол…
Там эта мысль
меня могла
пугнуть из-за угла.
Но где-то ж надо спать!
Все та ж
на третий
лестница
этаж.
Потащишься —
в передней свет,
а Клавы
просто дома нет.
Нет…
Клавы
просто нет—
всерьез!
Ни роз,
в каких лежала,
ни
косы,
молчат ее часы,
свернулся змейкой
бус янтарь,
и цепко
держит календарь
несорванные дни.
Тут старый
с платьицами шкаф,
доха в духах,
белье ее,
подаренные пустяки,
мои стихи
в тетрадке и
две прядки
русые
твои.
Еще тогда
я срезал прядь,
в тетрадь
упрятал
и достал,
и на столе,
косясь
на них,
я стал
раскладывать пасьянс
из локонов твоих
льняных.
На счастье
клал их
так
и так,
гадал,
подглядывал
под масть
льняных,
соломенных,
витых.
Как я ни жулил,
ты —
не выходила!
Как ни старался,
ты —
не получалась!
Никак!
Глазами
в синяках бессонниц
я увидел свой
револьвер
с сизой синевой.
Он – маузер,
он вот такой:
попробуешь рукой
на вес —
он весь
как поезд броневой,
стреляться из него —
как лечь
под колесо.
Свое лицо
я трогал дулом.
К жару скул
примеривал,
ко рту,
к виску
и взвешивал
в руке
заряд,
где десять медных гильз
горят.
Мне жизнь не в жизнь,
а выход – вот.
Нигде,
хоть всей землей кружись,
нигде —
в воронежском селе
двойник любимой
не живет.
А выход вот:
в стальном стволе,
В сосновом
письменном столе.
На!
Прислонись
к стене,
и стань,
и оттяни
замок к себе,
пусть маслянисто
ходит сталь
в крупнокалиберной судьбе.
Тебя обстанет
цепкий ад
рефлексов,
сопряженных с ней,
во сне
ее глаза стоят.
Скорей вложи обойму, на!
Стихи?
Она!
Весь мир?
Она!
Ты будешь плакать
у окна
и помнить,
помнить,
помнить лоб
с косой соломенной
и рот —
у всех дверей,
у всех ворот,
куда тебя
ни привело б.
Но, знаете,
я думал жить.
И лучше,
что замкнул на ключ
свой стол
и в нем железный ствол.
И ключ —
столу на уголок,
и лег,
не зарыдав
в тот раз,
на свой матрас.
Не спал,
сквозь пальцы
видел я:
ключ сполз,
сам
ящик отпер,
щелк —
и выглянула из стола
насечка деревянных щек
и указательный
ствола.
Револьвер мой
вспорхнул,
поплыл
под потолком лепным,
кругом,
кривым когтем вися.
Вся
комната кружила с ним,
с патроном запасным.
Кружил
и у подушки
врылся в пух,
как друг,
что лучше новых двух
и издавна
со мной дружил.
Пока он ждал
бессильных рук,
я вспомнил:
у меня есть друг
на Трубниковском.
(Серый дом,
крутая лестница
и дверь…)
Не вспомни я о нем,
сейчас
я б не ходил
среди живых.
Срываешь дождевик,
бредешь
в плеск —
в дождь,
тоску свою таща,
текут со щек —
еще! еще! —
капельки плача
и дождя.
Лишь я вошел к нему,
лишь сел,
сказал,
что заночую тут,
что дома моют,
окна трут
и куча дел, —
как телефон
вздрогнул,
звоночком
ночь дробя.
Друг
трубку снял:
– Кого? Его? —
И трубку протянул:
– Тебя.
Шел
шепот
медным волоском.
(Алло?
Не Клава это, нет!)
То проволочным
голоском
револьвер
шепчет
в ухо мне.
Внушает:
«Я могу помочь,
ночь
подходящая вполне
для наших с вами
дел.
Предел
я положу
желанью жить.
Позвольте
положить
в висок
вам сплава
узенький кусок.
Вас Клава б
не ругала
за —
глаза,
что вы идете к ней.
Вам
дуло —
выход из любви,
из ада
„нет ее“,
из дней
без глаз ее,
без губ,
без рук, —
вы ж как без рук…»
И я пошел
к Большой Ордынке,
к тупику,
домой —
где ждет меня,
где жжет,
маня,
меня
мой враг стальной…
Бульваром Гоголевским,
где
в наш старый дом,
да,
каждый день,
мы шли вдвоем.
Где ни пройдешь,
весь грунт
нас помнит от подошв
до рифм
прочитанных поэм,
от Гоголя
до буквы «М».
Как пить —
не пивши тридцать дней,
как есть,
не евши…
Я – о ней!
Как шарят папирос
(курить!).
Где тень
ее
среди берез?
Как повторить
пропавший день?..
…Я отпер
ящик.
Отпил
пыль
с губ
и сошел с ума уже.
И вынул маузер.
Он был
груб,
туг в ходу
и длиннорыл.
Открыл
сине-стальной
замок…
Мой сын
агукнул
за стеной,
пролепетал, замолк.
Как вор,
я сдвинул скобку,
снял затвор,
пружину вынул,
вырвал ствол,
стальную сволочь
мял и рвал,
развинчивал
и вынимал
из самой малой части
часть…
Сейчас
он сам умрет,
сочась
холеным маслом льна —
его слюна;
лишь лязг
да бряк,
разобранный добряк —
лишь грязь,
грозящий брак
кусков стальных…
О, убежать,
уснуть от них!..
Да, лишь бы сон —
и я спасен!
Спит сын
и видит грудь во сне.
Голос любимой
пел
во мне.
«Смотри живи…» —
напоминал.
Вот беленький,
как школьный мел,
бай-бай, и спатки —
люминал…
Да…
Три таблетки
в три глотка…
Мне три годка…
Пополз щенком
под стол,
под свежую сосну.
Коснулся
наволоки щекой
и
камнем
вниз
пошел
ко сну.
На самом дне,
на травах снов,
я снова
рядом
шел с тобой
тропой
в цветы,
в дыханье сна.
И снова —
не «она»,
а «ты»!
Мы шли
в сплошной ромашкин луг,
луг был
как хоровод подруг,
как сбор
в «День белого цветка»
в пользу чахоточных больных.
Мир белых солнц!
Ты ходишь в них,
цветам не больно —
так легка.
И машет нам
ромашек луг.
Мы шли,
не размыкая рук,
и я тебя просил:
– Нет сил
мне жить, родная,
без тебя,
дозволь с тобою
вдаль пойти,
нам по пути… —
Ее глаза
мне жалко бросили:
«Нельзя».
Мы вышли вдруг
на новый луг, —
луг незабудок
начал цвесть;
трудом
голубоглазых швей
он в крестик шведский
вышит весь
и весь —
в цветочную пыльцу.
А синий цвет
тебе к лицу,
твой сарафан
из луга сшит.
– Куда спешить?
Мы сядем здесь,
послушай,
взвесь,
мне трудно врозь,
не брось
меня.
Обсудим все:
я в сотый раз прошу —
пусти!
Один
бродить я не могу! —
Как жаль тебе меня,
прости,
но
«нет»
с твоих слетает губ.
Мы вышли
на жужжащий луг
жуков,
кузнечиков
и пчел.
С тобой
я локоть к локтю
шел
и терся о плечо
щекой.
Рой пчел
кружился у волос,
кололся колос,
рос щавель,
на камне
мох
ржавел
у ног.
Туберкулез —
он мог
отнять,
я ж
только мог тебя обнять
и так остаться,
обнявшись.
Выскальзывала
ты из рук.
Весь
в парашютах,
снялся луг
и —
одуванчиками —
ввысь!
Отсюда
вышли мы
к Тверской,
она спускалась
вниз,
к Неве,
к нам
ветерок подул
морской,
плыл Севастополь
в синеве.
По Ленинградскому шоссе
прошли
Воронежем в село,
где снова луг
стоял в росе,
где детство
ситчиком цвело.
Ордынкой
вышли
в Теберду,
Эльбрус
укутан
в снег-башлык,
по трещинам его,
по льду
мы к морю Черному
сошли.
Там сели в лодку мы
без слов,
на ней была
кровать
и гроб,
по улице Донской
веслом —
венком
с автомобиля
греб.
И я молил
твои глаза,
и все:
нельзя,
нельзя,
нельзя…
Не блажь
ведь то, что я прошу!
Куда-нибудь
еще
пойдем!
Был перед нами
желтый пляж,
и моря шум,
и волн подъем,
и край пути
с тобой вдвоем.
Ты просишься
проститься,
но
я обо всем
просил давно.
Уже дошли?
А мне куда?
Как
морем
прошагать года?
Чем без тебя
дожить до ста,
мне лучше,
тронув свой висок,
пустынной дюной
урны
стать,
к часам песочным
лечь в песок…
Как хочется
тебе со мной
играть
в наш милый
мяч земной!
Заплакать —
не расстаться нам:
что тут —
слеза,
то выстрел там.
Нельзя,
чтоб с глаз
сползла слеза!
Ты,
не заплакав,
от груди
ребенка отняла,
дала
и молвила:
– Один иди… —
И взгляд ее
на мне замерз,
и лоб ее,
прохладней льдин,
губами тронул
и один
пошел…
Я
ногу на волну
занес
и сразу
поднят был
волной,
Ступил,
качнулся,
как больной,
и соскользнул с волны,
и вновь
зеленой пеной
брошен вверх,
как смытый с верфи
мачты ствол,
я стоймя
с волн
сходил и шел
с щекою сына
на щеке.
А вдалеке —
да,
ты одна
видна
в песчаном пляже сна,
да,
как сквозь воду,
неясна…
О,
помыкало море мной!
Нас
Ной не взял
в ковчежный дом,
каюту
в чреве
не дал кит.
Моисей
сияющим жезлом
морской воды
не раздвоит.
Качаясь
на своих двоих,
я
это море
мыкал сам то
пеной вверх,
то – ух! —
к низам,
в бутылочно-соленый
пласт.
Шагать по ним,
да не упасть!
Мальчонку
я прижал
к пальто,
чтобы не то
что хлест воды,
а дым,
а капелек пыльца
не тронула
его лица.
Мой трудный шаг
в подъем и спад,
баланс
у гребня на горбе,
то бульканье
и бурю ту
он люлькой
представлял себе.
(«Качают,
ну и буду спать…»)
Сынишка,
он
сквозь сон:
«Агу», —
а ты
на берегу,
не ждешь,
нет,
наша встреча
не близка,
ты только
блестка
солнца
в дождь
в полоске узенькой
песка.
Шаг —
и того не отыскать.
И нет
полоски
позади.
И шторм
затих.
Шуметь-то
что?
Все глаже
водяные рвы,
а дальше
завиднелась
гладь
ниже воды,
тише травы,
волна
аж просится:
«Погладь».
И я
с волны
ступил
на зыбь,
вглубь
стая рыб,
и ил,
и штиль
хвост солнца
морем распустил…
Тут
новый берег
подан мне,
в ладонь
камней
положен порт.
Я вытер
пот
воды и слез,
с подошв ракушки сбил
и сквозь
шаганье улиц
в жизнь прошел.
Куда я вышел?
Стал,
прочел
двух новых улиц имена.
Припоминал…
Не я,
а сын
смотрел
впервые
окнам в синь.
Проснувшись
в мире
первый раз,
трамвай,
как погремушку,
тряс.
«Уа!» —
сказал трамваю «А».
И мне
в новинку
был Арбат.
Я здесь бывал
и не бывал.
Тверской бульвар,
где стынет мой
по ямбу
бронзовый собрат.
В вагоне
место на скамье
нам уступил старик.
Я сел.
В трамвае,
как в одной семье,
все точно знали,
что со мной
и что за море
за спиной.
На Мыс Желанья
я хочу
лететь,
лететь…
Маршрут
себе
я начерчу,
меня пошлют
навстречу
дующей судьбе.
Что этот Мыс?
Желанье?
Жизнь?
Поэзия?
Социализм?
Любовь?
Москва? —
все те слова,
которыми
нельзя солгать,
которыми
я буду вам
стихи
о будущем
слагать.
Куда себя мне деть?
Лететь!
Перелететь
мой плач навзрыд
желаньем —
отстоять Мадрид!
Желаньем,
чтобы этот стих
шагал за нею
вслед
и вслед,
желаньем —
сына
в двадцать лет
к присяге красной
привести.
Пусть помнится
навеки мне
наш путь,
мой плач,
твой взгляд во сне,
с тобой
мы вымечтали
Мыс,
куда
моя
взметнется
мысль.
Я встал,
и сразу —
рядом стол.
Обрубки маузера —
вот.
Боёк,
прицел,
пружина,
ствол.
Ему,
оставь его
в дому,
дай только волю, —
оживет.
Скорей на мост
к Москве-реке,
мой груз
в руке,
под мостом – синь.
Любовь
приказывает:
«Кинь!»
Вот здесь
конец
моей беде,
я маузер
с моста
бросил вниз:
– Кругами завернись
в воде,
войди в пески
реки Москвы
и вройся
дулом
в ил и слизь!
А ты
на берегу,
на том —
спасибо,
милая,
за жизнь.
Еще проплачу я
не раз,
не раз
приникну
к прядке ртом,
не раз
я вспомню
жалость глаз
и слабость
твоих бедных рук.
Не раз
я вскрикну:
«Клава!» —
вдруг.
Где б ни был я:
у южных пальм,
у скользких льдов,
у горных груд,
где я
палатку
ни развесь, —
кровать
твоя
была
вот тут,
и столик
твой стоял
вот здесь,
и тут
меня
любила
ты!
Какие б я
ни рвал цветы,
тот луг
начнет
в глазах кружить!
Когда мне будет
плохо жить, —
хотя б во сне,
не наяву, —
ресницы мне
раздвинь,
приснись,
коснись
хотя б во сне
рукой,
шепни:
«Живи…»
И я живу,
тебя,
как воздух,
ртом ловлю,
стихом,
последнею строкой
леплю
тебе
из губ:
люблю.