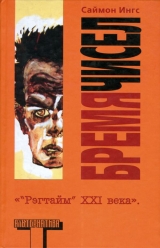
Текст книги "Бремя чисел"
Автор книги: Саймон Ингс
Жанр:
Контркультура
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 26 страниц)
РЕНАМО МОТО
1
Конец 1984 года
Последствия засухи в Мозамбике дают о себе знать. Я покидаю Мапуту и направляюсь в городок Голиата на границе Мозамбика и Малави. Существуй на свете Бог, Мозамбик, государство, протянувшееся на тысячу миль вдоль берега океана, был бы истинным раем. Однако эта страна в течение пяти сотен лет находилась под властью Португалии. Но вот в 1969 году, еще не оправившись после убийства своего лидера Жоржи Каталайо, в момент, когда весь остальной мир был одержим паранойей холодной войны, местное национально-освободительное движение (точнее, ФРЕЛИМО – Фронт Освобождения Мозамбика) провозгласило страну независимой. Суверенное государство Мозамбик, как заявило новоявленное правительство, будет развиваться по особому пути, дистанцируясь как от Запада, так и от стран Варшавского Договора.
Выбрав столь опасный и трудный путь развития, лидеры ФРЕЛИМО предпочли закрыть глаза на некоторые важные факторы. Например, они напрочь забыли о том, что их страна граничит с Родезией и ЮАР. Или о том, что для экономики соседних стран жизненно необходим выход к морю, а Мозамбик для них его закрывает, и соседи этим страшно обеспокоены. Если даже я сумел разглядеть в этом семена будущей катастрофы, то почему этого не увидели они? В 1969 году я все еще находился в Лондоне, был далек от какой-либо активной деятельности и проводил почти все время в библиотеке моего любимого философского общества, где читал газеты. Как же новые хозяева страны могли не заметить того, что сумели понять даже люди вроде меня?
Лидеры ФРЕЛИМО, как и их погибшие товарищи, получили образование на Западе, их юность прошла в таких странах, как США или Швеция. Они были уверены, что постколониальная Африка будет следовать правилам справедливой игры, но ошиблись: возмездие за их мужественную борьбу за независимость оказалось ужасным. В 1977 году отряды РЕНАМО, организации, поддерживаемой режимом апартеида, развязали войну против гражданского населения Мозамбика. Война длилась пятнадцать лет. РЕНАМО получало помощь сначала от Родезии, затем от ЮАР. Затем последовали две жесточайшие засухи, подобных которым не могли припомнить местные жители.
Когда я узнал, что армия отбила у мятежников Голиату, то подумал: теперь мне, пожалуй, удастся добраться туда на самолете. Однако РЕНАМО все еще контролировало соседние территории, а взлетно-посадочная площадка – в ужасном состоянии, на нее не приземлиться без риска для жизни.
– Голиата освобождена, – сообщил мне один доброжелательно настроенный аппаратчик из министерства образования. – Вот только попасть туда вы не сможете. Как, впрочем, и улететь оттуда.
Я задумал на свой страх и риск совершить вояж на корабле с грузом какао, идущим до Бейры, но вовремя вспомнил, что пиратские набеги РЕНАМО привели к тому, что любые суда под любым государственным флагом, проплывавшие мимо гавани Бейры, без предупреждения обстреливались береговой артиллерией правительственных войск.
Все большие дороги были построены еще португальцами и предназначались для вывоза награбленных богатств мозамбикской земли. Главным образом они тянулись с востока на запад и связывали побережье с материковой частью страны. Я начертил маршрут, ведущий на север и причудливо петлявший вдоль проселков и грунтовых дорог. Когда я по наивности показал его чиновнику из транспортного ведомства, тот от смеха едва не упал со стула. Неужели я ничего не слышал о противопехотных минах?
Примерно через неделю группа итальянских инженеров ухитрилась пробраться на попутном транспорте мимо пограничного перехода на малавийской стороне реки Шир. Они отремонтировали взлетно-посадочную площадку, и я наконец смог совершить перелет на государственном самолете, выполнявшем чартерный рейс.
Второй пассажир – Джозеф Личения, новый районный руководитель – встретил меня за час до рассвета. Он стоял у крыла дряхлой довоенной «Дакоты» на полевом аэродроме на окраине Мапуту.
Капитану Личения было тридцать с небольшим. Гладко выбрит, несмотря на ранний час – в солнечных очках, на вид типичный молодой деятель социалистического ФРЕЛИМО. В последнее время в Мапуту мне доводилось встречать немало людей вроде него. Несколько лет назад он мог бы руководить ходом провальной государственной программы по коллективизации сельского хозяйства. Сегодня таким чиновникам, как он, не остается ничего другого, как собирать рассеянное по всей стране сельское население во временные лагеря, чтобы спасти людей от головорезов РЕНАМО и распределить среди нуждающихся гуманитарную помощь, поступающую от международных организаций. По иронии судьбы, подобные островки безопасности часто создавались на базе бывших португальских трудовых лагерей.
Я поинтересовался у своего спутника, откуда он родом.
– Трудный вопрос, – пожал плечами Личения. – Отовсюду.
Что ж, будем считать его человеком-загадкой. Я решил, что он мне не нравится.
Пилот и его напарник, два отважных советских летчика, стали проводить предполетную подготовку. Осмотр самолета производился с такой любовью и тщанием, словно это был выставочный экспонат. Двигатели не сразу, но все-таки завелись. Сидений для пассажиров в «Дакоте» предусмотрено не было. Мы с капитаном сели друг напротив друга на мешках с зернами пинто.
– Положите один мешок на другой, – посоветовал Личения.
– Мне и так удобно, – ответил я. В свои сорок два я был по крайней мере лет на пятнадцать его старше. Мне не нужно никаких нянек.
Мой спутник сделал жест, будто стреляет вверх из пистолета.
– Два мешка пуля не пробьет.
Я последовал его совету и в результате оказался гораздо ближе к дверному проему, чем мне хотелось бы. Кстати, собственно дверей в самолете не было.
Мы пролетели над гаванью Бейры, затем сделали круг… Пилоты напрасно тратили горючее, но я догадывался почему. На линии горизонта море казалось зеленовато-синим, отражая лучи еще не успевшего полностью взойти солнца. Впечатление такое, будто вместо поверхности океана простирается бескрайняя сочная зелень саванны. А через несколько секунд появилось солнце, превратив океан в жидкое золото.
Мне было приятно, что у русских летчиков душа поэтов и романтиков. Налюбовавшись красотой, они, взяв курс на внутреннюю часть материка, набрали высоту, чтобы выйти из пределов дальности поражения ракет РЕНАМО. Вскоре мы оказались в причудливом беломраморном мире облаков на высоте полторы тысячи метров над полюбившейся мне страной.
Убийству Жоржи Каталайо не удалось расколоть освободительное движение или отсрочить неизбежное падение португальской колониальной системы. Победа над колонизаторами была одержана в 1974 году – намного раньше, чем предполагалось, – после того как государственный переворот в Лиссабоне положил конец былому имперскому величию Португалии.
Однако ФРЕЛИМО оказалась в положении собаки, преследующей автомобиль. Что она будет делать, если все-таки догонит его?
Имея ограниченные ресурсы, малочисленный технический персонал, жалкую горстку грамотных людей, эта организация столкнулась с необходимостью самостоятельно управлять целой страной. И, что хуже всего, страной, сохранившей отпечаток португальского влияния. Однако даже при таких обстоятельствах Мозамбик можно было бы спасти, не помешай этому исход португальцев.
Прибывавшие из Лиссабона пароходы подчистую вывозили из страны только что собранный урожай сельскохозяйственных культур. То, что белые поселенцы увезти не могли, попросту уничтожалось. Очень часто подобное совершалось исключительно со злыми намерениями. Трактора топили в море. В шахты лифтов недостроенных прибрежных отелей сваливали полные кузова бетона.
После того как эти моральные уроды вернулись в метрополию, вдоволь насытившись богатствами колонии за пять столетий своего правления, мозамбикцы были вынуждены пожинать плоды деятельности бывших господ. По словам Елены Млокоте, в девичестве Каталайо, безутешной дочери покойного первого президента ФРЕЛИМО, ситуация была следующей:
– Нам нечему учиться, потому что у нас не осталось никого, кто умеет учить. Нам нечего покупать, потому что у нас не осталось никого, кто мог бы что-то продать. Нам нечего делать, потому что у нас не осталось никого, кто мог бы платить нам за наш труд. Нам некуда ехать, потому что у нас не осталось никого, кто умеет водить поезда. Скоро у нас не будет одежды. В нашей стране люди начинают изготавливать рубашки и юбки из древесной коры.
Об этом было написано в письме, которое Елена прислала мне летом 1975 года. Оно было напечатано под копирку, и внизу страницы стояла ее подпись. Сколько сотен таких одинаковых писем было разослано частным лицам и организациям в Великобритании, Швеции, Америки? В этом послании Елена приглашала меня («дорогой друг», «уважаемый коллега») помочь молодому правительству:
– Если вы помните, бюрократия долго была для африканцев единственной привлекательной карьерой. Здесь никто не знает, как обращаться с рядовой сеялкой, и никто не может эту сеялку купить. Но все люди, даже с самым скромным образованием, знают, что такое конфискационное предписание. В дни освобождения от колонизаторов мы обладаем лишь навыкам управления гнилым фашистским болотом. Этими навыками и никакими другими. Да защитит нас Господь от наших умений.
За этими строчками виделось то, о чем когда-то писал ее отец. Неужели дочь и сейчас перечитывает тексты его выступлений? Или же она почерпнула эти мысли в каких-нибудь марксистских газетах? Из сообщений шведских или японских журналистов, с которыми она переписывается?
Я сберег ее письмо – так хранят на память вырванный зуб мудрости или желчный камень, – понимая, однако, что нет смысла отвечать на него. Тем не менее через пару недель я купил открытку с изображением стражника лондонского Тауэра, на обороте которой написал: «А – К» или «Л – Я».
Это был единственный жестокий способ, какой только пришел мне в голову, чтобы показать Елене, что мне известны обстоятельства убийства ее отца, о которых рассказали серьезные молодые люди из ФРЕЛИМО, навестившие меня в моей квартире в 1969 году.
Примерно через месяц пришло второе письмо. Оно отличалось от первого – было значительно короче и адресовано уже лично мне. Елена в данный момент работает санитаркой в больнице Лоренсу-Маркиша («…теперь мы называем его Мапуту»), По ночам при свете парафинового светильника она занимается самообразованием: «Мой отец понимал, что величайшая угроза власти африканцев в постколониальной Африке исходит от образованных чернокожих. Он сознавал эту угрозу намного лучше, чем я. Теперь это понятно и мне самой».
Елена пыталась найти свое место в истории. «Я выбрала неверную дорогу, – писала она. (Елена переняла риторику, которой пользовалось поколение ее отца.) – Мне кажется, что я свернула не туда».
Эти ее слова показались мне чем-то вроде исповеди.
«В настоящее время я выполняю в больнице обязанности санитарки. Бинтую порезы и ушибы. Когда у нас есть аспирин, я даю его хроническим больным. Выношу больничные „утки“. По ночам учусь».
Елена хотела, чтобы все допущенные ею ошибки стали для нее бесценным жизненным уроком.
«Приезжайте в Мапуту», – написала она.
* * *
Холод вынудил капитана Личения открыть глаза. Мой спутник свернулся калачиком и уснул прямо на мешках. Он показался мне таким ранимым и трогательным, что я не удержался и накрыл его одеялом. Нет, даже не одеялом, а сшитыми вместе мешками из-под какой-то гуманитарной помощи. Он потянулся и моргнул.
– Господи, – произнес Личения по-английски. – Как же я ненавижу эти полеты!
Все еще кутаясь в одеяло, он слез с мешков и принялся расхаживать по салону.
– Вы знаете Голиату? – спросил я.
– Да.
Я выдержал паузу – настолько, насколько это уместно на борту самолета без дверей, – и сказал:
– Я новый учитель. Буду там преподавать.
– Прекрасно знаю, кто вы такой.
Похоже, его гипнотизировал вид из открытого дверного проема: грозовые облака над пурпурным ковром земли. Личения пристально смотрел вниз, как будто разглядывал ландшафт с балкона гостиничного номера.
– Где вы работали раньше? – спросил он, стараясь перекричать рев двигателей.
– В Мапуту, – ответил я. – Потом в Тете. В Бейре.
Я занимался преподаванием вот уже десять лет: учил детей арифметике, азбуке, основам личной гигиены и марксизма-ленинизма. Ценное приобретение для Мозамбика: образованный иностранный работник, сотрудничающий с администрацией ФРЕЛИМО. Сочувствующий.
– А в Нампуле?
– Нет, там не работал.
– Странно.
Нампула была северной столицей Мозамбика.
– Никогда там не был.
– Жаль.
– Почему?
Рев двигателей усилился. В салоне запахло керосином.
– А в деревне никогда раньше не работали?
– Нет, никогда.
Личения кивнул.
– Там не слишком опасно?
Слова слетели с моих губ еще до того, как я успел подумать, что задавать такой вопрос не стоило.
Капитан снова принялся разглядывать землю через открытый дверной проем. Самолет снижался: картина приобрела четкость.
Посмотрев вниз, я попытался отыскать глазами людей. Небольшой земельный участок. Поле риса или кассавы. Лесопосадка с деревьями кешью. Глаз перепрыгивал от поля к полю, от леска к леску. По большей части никаких дорог, никаких крупных поселений. Скалистые утесы и заросли акации казались камуфляжными мазками на фоне земли. Пестрая мешанина пурпурного, белого, желто-зеленого цветов. Люди здесь, несомненно, обитали, но сверху этот край казался совершенно пустым. Земля не была поделена, как это можно увидеть в других странах, на отдельные части, поля, просеки. Следы человеческой деятельности здесь не слились воедино, образовав сетку из нитей и узелков – дорог и деревень, какая обычно возникает, словно в чашке Петри, на территории любой страны. Возникало ощущение, будто под нами (мы уже достигли района Замбези) люди рассеяны подобно семенам по всей этой необъятной территории.
Многие из местных жителей даже не знали, что их родная страна называется Мозамбик. Боевики из РЕНАМО были для них обычными бандитами – матсангас. А слово «социализм» – пустым звуком. Если они когда-то и слышали о Южной Африке, то в их представлении это была всего лишь страна сказочного богатства. Люди обрабатывали свою землю. Они хотели, чтобы их оставили в покое. Они сами оставили друг друга в покое. В этом и заключалась проблема: функционеры вроде Личении практически никак не могли их защитить.
Разумеется, в этих местах было небезопасно.
2
Футболка не первой молодости. По ее «фасаду» вздымались к небу небоскребы из стекла и бетона. «Небо» это когда-то было голубым, однако время и частые стирки придали ему линялый зеленый оттенок. На фоне небоскребов – уходящий вдаль пляж, вдали – выступающий в море мыс, на первом плане под солнцезащитным зонтом – красотка в бикини с бокалом коктейля, покрытом каплями влаги, а в нем плавают льдинки. По всему «небу» рассыпаны розовые буквы, складывающиеся в два слова: «Солнечный Бейрут».
Живот красотки растянулся и кое-где порвался, бокал раскололся: владелица футболки сделала вдох.
– Они сожгли школу, разграбили все имущество и заставили детей тащить на себе мебель до самой границы.
Эта крупная женщина оказалась представителем ФРЕЛИМО в Голиате. На ее лице явственно читались тяготы двухгодичной засухи: оно было сморщено и как будто покрыто синяками, словно плод, слишком долго пролежавший на солнце.
Бейрут? Футболка была старше детей, которых мне предстояло учить.
– Потом они отрезали мальчикам носы и скормили их девочкам.
Входя в эту комнату, я опасался самого худшего: надписи «RENAMO МОТО» на ее стенах. «Мото» означает «огонь». Пока мы разговаривали, в комнату молча вошел какой-то мальчишка и стал заклеивать надписи плакатами с изображением президента ФРЕЛИМО Чиссано. (Клей ужасно вонял. Неужели расклейщик сам его сварил?)
– Одна девочка, ей было восемь лет, отказалась съесть нос своего брата. Тогда главарь бандитов решил в назидание остальным изнасиловать ее.
Мы в кабинете Нафири Каланге. Сама Нафири стоит напротив меня у стола, собранного из обломков мебели. Сидеть не на чем. Лампы под потолком не было, ее вырвали вместе с проводкой, полоска осыпавшейся штукатурки тянется от середины комнаты до двери. Пол завален цементным крошевом.
– Она оказалась слишком маленькой для него, и он расширил ее своим мачете.
В окнах не было не только стекол, но и дешевой противомоскитной сетки. Но куда больше удручало то, что отсутствовали даже рамы, их тоже выбили и унесли. Однако правильная прямоугольная форма отличала окна от артиллерийских амбразур, которыми были изуродованы стены других городских домов.
– Добро пожаловать в Голиату.
В комнате имелось два окна. Нафири стояла спиной к одному из них, второе – справа от нее. Через первое окно мне было видно, что в городе почти не осталось домов, в которых сохранились бы все этажи. Главным образом это развалины, уже поросшие сорняками и ползучими растениями. Те из них, которые по счастливому стечению обстоятельств уцелели, либо вообще не имели крыш, либо были покрыты ветвями деревьев – зрелище, мягко говоря, убогое.
– Что случилось с крышами? – поинтересовался я.
– Их украли, – ответила Нафири. Затем рассказала мне, что люди из РЕНАМО, захватившие в плен жителей деревни, заставили их по всей Голиате снять с крыш листы цинка и нести через саванну до границы с Малави, где металл можно обменять на запчасти к мотоциклам, батарейки для радиоприемников, масло, сахар и соль.
Через второе окно в комнату проникал яркий дневной свет, смягченный тенистыми ветвями и напоенный ароматами деревьев жакаранды, росших рядом с португальской церковью. Это были последние деревья, уцелевшие в Голиате. Церковь бандиты из РЕНАМО не тронули, она осталась стоять совершенно неповрежденной. Если смотреть из окон этой комнаты, то можно увидеть недавнюю историю города: до вторжения – и после.
– Взгляните! – Нафири жестом предложила мне посмотреть в окно, выходящее на развалины.
С этого расстояния невозможно определить, какое здание разрушено полностью, а какое приспособлено для жилья. Нафири показала мне улицу, которая, судя по всему, некогда была прелестной частью города. Магазины – а там когда-то имелись магазины! – сохранили обломки колоннады, укрывавшей их фасады от безжалостного солнца.
– Новая школа.
Я подумал, стоит ли поблагодарить ее.
– Если найдете там спрятанные ящики с джином, сообщите мне, – попросила она. – Там когда-то находился клуб владельцев чайных плантаций.
Нафири предоставила мне не целый дом, а одну лишь веранду. Точнее, половину той веранды, что сохранилась после оккупации города отрядами РЕНАМО. Я внимательно изучил разрушенную часть. Она не подверглась артиллерийскому обстрелу, как показалось сначала. Ее изуродовали вручную, причем это было сделано настолько тщательно, что я решил: такое редкостное терпение мог проявить только закоренелый психопат.
– И как оно вам?
Я приспособился быстро. Выбор самого места имел смысл. Здесь имелась тень. От улицы нас отделяло лишь минимальное расстояние. Было хорошо видно, кто к нам приближается. Со всех сторон трава вымахала до высоты стен.
– Спасибо, – поблагодарил я.
Все, что можно было забрать, люди из РЕНАМО унесли с собой: кровельные листы, медную проводку, фурнитуру, транспортные средства. С улиц исчезли даже уличные указатели. Что не удалось вывезти, было разбито вдребезги. Дожидавшиеся ремонта машины подожжены. Водопроводные и канализационные трубы выкопаны из земли и разбиты молотками. Декоративная тротуарная плитка лежала грудой перед развалинами старой парикмахерской – каждая плитка была аккуратно разбита на мелкие осколки.
Но наибольший урон нанесли городу следующим образом: все генераторы и насосы, снабжавшие местных жителей водой, оказались разбиты вдребезги или сожжены. Их раскуроченные части валялись тут и там, и по блестящим царапинам было видно, где металл бился с металлом.
– Все это мы обязательно расчистим! – объявила Нафири, проведя меня по улицам Голиаты.
А что после расчистки? Все в городе называли недавние события оккупацией, однако истина состояла в том, что боевики РЕНАМО не просто оккупировали Голиату, а практически сровняли ее с землей. Труб, которые следовало проложить взамен тех, что разбили ренамовцы, не было. Не имелось и метра электрического провода для электрификации зданий. Даже деревья, некогда украшавшие центральные улицы и создававшие обильную тень, были срублены под корень и сожжены.
– Все это будет расчищено! – настаивала Нафири с нотками отчаяния в голосе. – Мы расчистим улицы землеройной машиной. Мы уберем весь мусор! Да мы уже расчистили много улиц. Это хорошая машина.
– Она все еще здесь?
Насколько я понимал, итальянцы уехали отсюда, как только закончили ремонт взлетно-посадочной полосы.
Нафири задумчиво пожевала нижнюю губу.
– Машина сломалась, – призналась она. – Это наша самая главная беда. – Перехватив мой взгляд, Нафири улыбнулась: – Нашим друзьям пришлось оставить ее здесь.
Примерно пару раз в месяц, рискуя собственной жизнью, какой-нибудь водитель грузовика выезжал на Национальное шоссе номер один, чтобы привезти в Голиату горючее.
Нам требовалось его не так уж много. Городской кузнец все еще занимался ремонтом генератора, собирая необходимые детали среди мусорных куч и останков сожженных машин. Кое-какие запчасти выменивались на малавийской границе. Поэтому большая часть горючего оказывалась в конечном итоге в чреве итальянской землеройной машины.
И как только она могла сломаться? Даже если бы вдруг она и впрямь отказалась сдвинуться с места, кто здесь мог ее починить? И главное, откуда взялись бы запчасти? Из отдельных намеков, которые время от времени бросала Нафири («Все получилось так неудачно. Как назло, именно в тот день, когда им уезжать»), я раскусил ее хитрость. Я понял, как ей удалось заполучить эту ценную вещь в свое пользование. Каланге жутко гордилась своей находчивостью. Именно когда я понял, что имею дело с воровкой и обманщицей, я начал симпатизировать ей.
Первые подозрения зародились у меня во время пиршеств, которые Нафири устраивала примерно пару раз в неделю возле костра, разведенного внутри тростниковой изгороди в «тростниковом квартале» Голиаты. Каждый из участников должен был принести какую-нибудь еду: цыпленка, корзинку помидоров или мангольда. Как-то раз одна женщина в красной шали принесла нанизанное на заостренные палочки жареное мясо – как оказалось, это был шашлык из тушек полевых мышей. Но меня беспокоила не еда, а деньги. Нафири внимательно следила за тем, чтобы каждый гость, независимо от своего финансового положения, опускал какую-нибудь сумму в старую алюминиевую банку из-под краски.
Моим соседом по пиршеству оказался относительно немолодой мужчина – на мой взгляд ему было лет сорок пять, – которому солдаты из отрядов РЕНАМО отрезали губы. На ломаном языке чичева я спросил его, для чего собираются деньги.
– Для ФРЕЛИМО, – ответил тот, глотая слюну через зубы. – Это партийные взносы.
Зачем же Каланге потрясала жестянкой перед носом у людей, у которых ничего не было?
Сидевший рядом со мной мужчина передал мне кастрюлю, я заглянул в нее. Там лежали деньги, но не мозамбикские, а малавийские.
– А почему квача? – спросил я, указывая на банкноту. – Зачем нужны иностранные деньги?
Мой сосед пожал плечами.
– В Малави можно купить вещи, – ответил он и запрокинул голову, чтобы пища не вывалилась из его изуродованного рта. – В Малави есть магазины.
Нафири сидела, сложив на груди руки. Она была готова испепелить меня взглядом. И тут до меня дошло, что я так и не сделал взноса в партийную кассу. У меня в бумажнике было несколько банкнот в твердой валюте. Я бросил в кастрюлю десятидолларовую бумажку, причем сделал это медленно, чтобы мой поступок заметили остальные сотрапезники.
Для них десять долларов – невообразимая, фантастическая сумма. Но никто даже не отреагировал. Этим людям было все равно. Похоже, даже мои соседи ничего не заметили.
И до меня дошло: нынешние жизненные обстоятельства сделали их равнодушными к деньгам. Деньги здесь практически уже ничего не значили. Угощения, которые люди принесли для пиршества, были для них гораздо важнее валюты, которую не на что тратить.
Нафири неожиданно вскочила на ноги.
– Где Сэмюэль? – крикнула она.
Сидевшие вокруг костра люди разом замолчали.
– Где он?
Все, кроме меня, обменялись неловкими взглядами.
– Это наше пиршество. – Нафири широко раскинула руки, демонстрируя свое великодушие. – Почему мой брат не кушает вместе с нами?
Собравшиеся опустили головы в тарелки. (Правда, вместо тарелок у всех нас были широкие плотные листья, вполне пригодные на роль посуды.) Я только сейчас задумался над этой странной особенностью нашего «банкета».
– Может, ему где-то лучше, чем с нами?
Увы, мои куцые знания языка чичева не позволяли быстро уловить смысл происходящего.
К счастью, мой сосед знал несколько португальских слов и помог мне с переводом.
– Сэм ушел.
Это я и без того понял.
– Он ушел на кладбище.
– Зачем потребовалось ходить на кладбище в такой поздний час? – спросил я.
– Потому что он ест вместе с матсангас, – ответил мой сосед.
Нас услышали, и вскоре разговор перешел на тему вампиров. Все пришли к выводу, что устраивать совместные трапезы на кладбище могут только вурдалаки и не нашедшие покоя мертвецы.
Понимать Нафири мне помешали мои высокие моральные принципы. Когда же они слетели с меня, как шелуха, я ее даже зауважал. Не будь Каланге, не было бы и Голиаты. Нафири являлась единственным работодателем в городе. Все деньги, которые вечером опускались в ее жестянку из-под краски, можно было заработать на следующий день, отскребая со стен лозунги РЕНАМО, латая крыши, наполняя щебнем ковш землеройного агрегата. Когда эта брошенная итальянцами машина не была занята на расчистке старого города, к ней цепляли самодельные плуги и использовали в качестве тягача на распашке новых полей к западу от «тростникового квартала». Насколько мне было известно, за эти работы Нафири ни с кого не брала и гроша.
Она являлась первым лицом Голиаты. Причем не просто нашим «администратором», а кем-то большим. Она была нашим начальником, нашим régulo.
Поэтому вы можете представить себе чувства, которые испытывал Сэмюэль.
Представьте себе Сэма, бывшего régulo, или мэра Голиаты в годы португальского колониального правления. Главу города, место которого заняла его родная сестра.
Я поинтересовался у своего соседа:
– Значит, ФРЕЛИМО назначило Нафири начальником вместо ее брата?
Сосед снял с шампура кусочек жареного мышиного мяса и забросил его, закинув голову, в свой изуродованный рот.
– Почему бы и нет? Нафири умеет читать.
Действительно, скудное образование, полученное Сэмом при португальцах, не шло ни в какое сравнение с образованием сестры, полученным от инструкторов ФРЕЛИМО в Дар-эс-Саламе. Так Сэм лишился официального статуса, тем более что он не разбирался в марксизме-ленинизме.
Чего у него было в изобилии, так это инстинкта жизни в маленьком городе. Поселившись в этих местах, Сэм и его компания оскверняли Голиату, словно зловоние. Из небытия вернулись «серые кардиналы» городка: парочка курандейрос. бывший местный представитель автомобильной фирмы «Форд», местный землевладелец, разбогатевший на алмазных копях Йоханнесбурга. Они обменивались рукопожатиями, они наводили мосты. С небрежным цинизмом они раскрутили маховик сплетен про Нафири и партию: ФРЕЛИМО запретила частную собственность! ФРЕЛИМО уничтожает памятники на кладбищах!
Даже не знай я ничего из этого, Сэму ни за что не удалось бы обмануть меня своей обходительностью, когда он нанес первый визит ко мне в школу. Все эти приторные похвалы и поглаживания по головке детей в самый разгар урока, и скороговорка придаточных предложений, и длинные заимствованные слова для меня выглядели неприятно.
– Скажите мне, сэр, что у вас за специализм?
Это была ловкая игра, и уровень ее элегантности определялся ораторским искусством, роль которого огромна в стране, где нет книг. Но на меня она произвела впечатление с точностью до наоборот. Я ответил на плохом чичева, сохраняя дистанцию между нами, давая ему понять, что мне он неприятен.
– Может быть, вы примете приглашение на сегодняшний вечер? Как насчет того, чтобы поужинать у нас? – спросил он, оставив все околичности и переходя прямо к делу.
Никаких призов тому, кто угадает, кого он имел в виду под «у нас», не предполагалось. Боевики РЕНАМО по-прежнему контролировали соседние с Голиатой территории. На безукоризненном португальском он сделал мне приглашение, как будто желал отужинать вместе со мной в парижском отеле «Ритц».
Я вспомнил просторное новое кладбище Голиаты и содрогнулся. Короче, я отклонил приглашение. Сэм пожал плечами. Мол, не хочешь – не надо. Он явно верил в то, что старые порядки скоро вернутся, это лишь вопрос времени.
Кстати, вопреки моим ожиданиям Сэм оказался отнюдь не тощим голодным созданием, каким я его себе представлял. Хотя они с Нафири родились от разных отцов, меня поразило их внешнее сходство. Лицо Сэма представляло собой более совершенную версию лица Нафири. Фигура же была стройной и грациозной. Глаза отнюдь не горели злобным огнем; возле них каждый раз, когда он улыбался, собирались лучики морщинок. Я легко представил себе, как, окажись вдруг на его плечах мантия городского головы, он ловко изобразил бы скромное изумление: «Как, не может быть!».
Сэм задержался на ступеньках веранды, слушая, как я веду урок. Я сделал вид, будто не замечаю его, и поэтому он время от времени издавал звуки, означавшие, по всей видимости, одобрение и рассчитанные на то, чтобы напомнить о своем присутствии. Интересно, как долго он собирается испытывать мое терпение?
В следующую секунду откуда-то из-за угла на главную улицу выехала та самая землеройная машина. Изрыгая облака дыма, она с грохотом приближалась к нам. Дети радостно вскочили со своих мест и, как обычно в таких случаях, бросились к балюстраде.
Они были готовы в любое мгновение сорваться с места и выбежать на улицу, лишь бы подивиться на машину и подразнить сидевшего за ее рычагами Редсона. Кстати, тому доводилось управлять агрегатами гораздо большего размера, когда он работал на рудниках в Южной Африке. Редсон неизменно принимал правила игры – резко ударит по тормозам, затем тут же рывком возьмет с места. Затем снова тормознет и снова рванет вперед, сбрасывая ребятишек с ковша прежде, чем те успеют опять вскарабкаться на него.
Сэм Каланге рассмеялся.
– Вы когда-нибудь раньше видели такую чудную колымагу? – спросил он, обращаясь ко мне. На этот раз он заговорил на чичева, чтобы его поняли дети. – Вы только послушайте! Гремит, как ржавое ведро. Больше недели она не протянет, вот увидите.








