
Текст книги "Настоящая любовь"
Автор книги: Сара Данн
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 14 страниц)
Глава двадцать первая
Когда после разговора с Дженис Финкль я слезла с телефона, то пошла в ванную и нырнула под душ. Я была зла. Я была зла на Тома за то, что он написал номер телефона после инициалов, была зла на Дженис за ее предположения, что я пытаюсь властвовать над всем. Но сильнее всего зла на себя за то, что позвонила сестре Тома Трейси. Больше всего, впрочем, я была зла на Трейси, потому что знала: та расскажет Тому о моем телефонном звонке. Злилась на себя, поскольку ни за что на свете не смогла бы придумать разумного объяснения своему поступку. Я даже слегка злилась на Нину Пибл за ее решение устроить особенную вечеринку.
И еще я была очень зла на Тома за то, что он опаздывал.
Нина и ее муж Виктор живут примерно в двадцати пяти минутах езды от города, в огромном доме в Роземонте. Когда Том явился домой, то переодел костюм, и мы вдвоем поехали за город в том состоянии, которое, я уверена, Том полагал общительным молчанием. Когда мы подъехали к дому Нины, я сумела взять себя в руки и успокоиться.
Том припарковал машину на подъездной дорожке, и мы подошли к входной двери. На каменных ступенях живописной грудой были свалены тыквы, в огромной каменной чаше покоились высушенные бутыли из них же, раскрашенные в желтый и пурпурный цвета. Ставни на всех окнах блестели свежей глянцевой темно-зеленой краской. Пока я стояла под мягким светом антикварного светильника на крыльце, у меня возникло чувство, что я пытаюсь себя почувствовать Ниной Пибл, а это чувство я могу описать только как легкая неудовлетворенность жизнью. Нельзя сказать, что я хочу жить жизнью Нины; это не так. Скорее, Нина Пибл олицетворяет собой определенную проблему, с которой я сталкиваюсь, будучи женщиной. Один из постулатов, которые так любит изрекать моя мать, звучит так: в наши дни у женщин слишком богатый выбор. У вас, девочки, слишком богатый выбор, говорила она моей сестре Мередит и мне. Не знаю, как вы справитесь при таком выборе, говорила она. И это правда, я и сама чувствую, что у женщин в моем возрасте слишком богатый выбор. Но вот в чем состоит моя проблема: мне не нравится ничей выбор. И когда бы я ни увидела Нину, с ее домом, ее детьми и ее супругом, с ее садом, ее проектами и ее вечеринками, с ее небрежно отставленной карьерой и тщательно ухоженными руками, я вижу женщину, которая сделала свой выбор и которая им довольна. Она не только довольна им, но и убеждена, что если у вас есть хоть капелька мозгов, то вы бы сделали точно такой же.
Дверь распахнулась, и на пороге показался Виктор, держащий в руках «Маргариту» [19]19
«Маргарита» – популярный в США коктейль из текилы и сока лимона или лайма.
[Закрыть]. Совершенно очевидно, сегодня был вечер в мексиканском стиле. Он расцеловал меня в обе щеки, пожал руку Тому и последовал за нами, когда мы направились в кухню.
Вечеринка была уже в самом разгаре. Гости сидели преимущественно в кухне. Тому представили Грейс, новорожденную. Напитки были предложены и приняты.
– Я встретила одного парня, – объявила Корделия.
– Расскажи о нем, – попросил Ларри.
– В общем, он – канадец, – сказала Корделия. – И он так интересно засовывает руки в карманы.
– Что ты хочешь этим сказать? – поинтересовался Ларри. Он повернулся к Бонни. – Что она имеет в виду?
Ларри нажал кнопку на блендере, и кухню наполнил грохот кусочков льда, ударяющихся о металлические лопасти.
– Я знаю, что она имеет в виду, – заявила Бонни, после того как Ларри выключил блендер. – Он долговязый, правильно?
– В засаленных джинсах, – сказала Корделия. – И еще у него такой странный загар. Как будто он слишком много катается на лыжах.
– Значит, такие теперь предъявляются требования? – вопросил Ларри. Он начал разливать напиток по бокалам. – Канадец, способный сунуть руки в карманы?
– У меня нет никаких требований, – заявила Корделия. – Я в них не верю.
– Брось, – сказала Нина. – Должно же у тебя быть что-то.
– Ну, тогда объясни мне, что значит слово «требования», – настаивала Корделия.
Нина в задумчивости склонила голову набок.
– Ну, те условия, без которых ты никогда не совершишь сделку.
– Ничего подобного у меня нет, – ответила Корделия.
– Я не верю тебе, Корделия, – заявила Нина. – Точно так же, как не верю людям, которые говорят, что никогда не смотрят телевизор. Это звучит хорошо и даже заманчиво, но никак не может быть правдой.
Корделия и Нина вообще плохо ладят. Хотя это не совсем правда. Нина ладит с Корделией вполне нормально, а вот Корделия придумывает самые разные глупые обиды на Нину, о которых та даже не подозревает. Корделия отзывается о Нине как о самодовольной, снисходительной, хитроумной особе, которая считает, что разбирается во всем. А Нина говорит о Корделии, что той следует удлинить брови. У Корделии широкоскулое лицо, и ее брови заканчиваются как раз над внешними уголками глаз. Нина считает, что ее лицо выглядело бы совсем по-другому, если бы она удлинила их карандашом хотя бы на полдюйма. Нина Пибл относится к тому типу женщин, о которых много думают другие женщины, но она никогда не платит им той же монетой.
– Я не смотрю телевизор, – заявил Виктор.
– Милый, – обратилась Нина к Виктору, – ты смотришь телевизор. Ты смотришь бейсбол.
– Разве это считается? – спросил Виктор.
– Вот что я имею в виду, – продолжала Нина. – Человек может сказать, что не смотрит телевизор, когда на самом деле он его смотрит. Точно так же, как другие говорят, что у них нет никаких требований. На самом деле совершенно очевидно, что хоть какие-то запреты у них есть.
– Думаю, у меня были бы проблемы с наркоманом, – сказала Корделия. – Или уголовником.
Нина взглянула на Корделию.
– Ну, это ты уже проходила, – заметила она. – Я уверена, что ты не спешишь повторить этот опыт.
– Проходила что? – вмешался Том.
– Такое замужество, – ответила Нина.
– Не знаю, – протянула Корделия. – Мне нравится быть замужем. И мне нравится быть одной. Что мне не нравится, так это разводы. Без них я вполне могу обойтись.
Все перенесли тарелки с едой в столовую. Это был вечер, когда мы угощали себя сами. Тако [20]20
Тако – мексиканские пирожки из кукурузной лепешки с начинкой из рубленого мяса.
[Закрыть], тостады [21]21
Тостады – круглые кукурузные лепешки с начинкой из тертого фарша, помидоров, салатных листьев.
[Закрыть], бурритос [22]22
Бурритос – кукурузные лепешки тортилья, свернутые пирожком, с начинкой из жареных бобов.
[Закрыть]. Время от времени Ларри поднимался и готовил новые порции «Маргариты». Беседа текла ровно и спокойно.
– Просто не могу поверить, что забыла сказать вам, – заявила Бонни, когда пришло время кормления младенца. Она немного отодвинула свой стул от стола и поудобнее устроила Грейс на руках. – Алан и Лиззи расходятся.
– Не может быть, – сказал Корделия.
– Правда? – спросила я.
– Кто такие Алан и Лиззи? – поинтересовался Виктор.
– Старые друзья Бонни по колледжу, – пояснила ему Нина. – Я встретила Лиззи в бассейне.
– И что случилось?
Бонни пришлось отвлечься и рассказать Виктору кое-что о прошлом. Алан и Лиззи жили вместе восемь лет. Алан не верит в супружество, и он не был уверен, стоит ли им заводить детей. Так дело обстояло все те годы, что Лиззи была с ним знакома.
– В общем, сейчас они проходят курс семейной терапии, – сказала Бонни. – Лиззи отказалась от мысли выйти замуж. Все, чего ей хочется, – это завести ребенка. Каждую неделю Алан сидит перед психотерапевтом и, как заведенный, повторяет одно и то же: «На этот раз ты своего не добьешься». Лиззи плачет, дает обещания, что это будет всего один ребенок, а не два и что она все будет делать сама, ему даже не придется менять пеленки, словно это собака, которую она хочет отвести домой после купания в пруду, а Алан знай себе повторяет: «На этот раз ты своего не добьешься». Это его единственный аргумент.
Нагрудничек, который Бонни надела Грейс на случай отрыжки, соскользнул, и на мгновение глазам присутствующих открылась роскошная грудь Бонни. Ларри пробормотал:
– Ух, красотища.
– Прошу прощения, – извинилась Бонни. Она устроилась поудобнее и продолжала: – И это тянется уже шесть месяцев. Ничего не меняется. Наконец Лиззи решает, что она должна уйти от него. Они ссорятся, она плачет, и вот она стоит на пороге их дома с упакованными чемоданами, и последние слова, которые она ему говорит, вот какие: «Мне тридцать восемь лет, мы не женаты, у меня нет ребенка – ТЫ ВЫИГРАЛ!»
– Вот это да-а, – протянула Корделия.
Я бросила взгляд на Тома. Он был занят сооружением последней миниатюрной тостады.
– И она ушла, – закончила Бонни.
– Куда же она пошла? – спросила я.
– Пока она остановилась у своей сестры.
– Бедная девочка, – сказала Корделия.
– Ну, знаете, а я ей ни капельки не сочувствую, – заявила Нина.
– Как ты можешь не сочувствовать такому? – воскликнул Виктор.
– Я хочу сказать, это очень грустно. Тут я с вами согласна. Но я говорила вам, чем все это кончится, еще пять лет назад.
– Ты и в самом деле говорила мне это пять лет назад, – сказала Бонни. – Просто я тебе тогда не поверила.
– Да, – согласилась Нина. – Я помню. Ты сказала, что она любит его, а он любит ее, и что у них все получится.
– А что в этом плохого? – поинтересовалась Корделия.
– А то, что нельзя вести себя так, словно не признаешь никаких правил, – сказала Нина. Она встала и начала собирать тарелки со стола. – Нельзя же проснуться однажды утром и удивиться тому, что мужчина, с которым ты прожила восемь лет, который отказывается на тебе жениться, который с самого начала все время говорил тебе, что не уверен в том, что хочет обзавестись детьми, внезапно отказался оплодотворить тебя. Я имею в виду, что Лиззи просто дура. Мне неприятно говорить это, но так оно и есть. Ей следовало разобраться со своим парнем еще несколько лет назад.
Нина ушла в кухню, унося с собой тарелки. Виктор поднялся на ноги и распахнул окно. Он держал пачку сигарет на подоконнике, и каждый вечер после ужина курил, выставив руку с сигаретой из окна. Время от времени он подносил сигарету ко рту, делал затяжку и выпускал дым в прохладный ночной воздух.
– Это очень странно, – заметил Ларри. – Я всегда думал, что они любят друг друга.
– Конечно, но одной любви недостаточно, – крикнула из кухни Нина.
– О чем ты говоришь? – спросил Виктор. – Для меня вполне достаточно.
Нина вернулась в столовую и начала доставать кофейные чашечки из серванта.
– И вот за это я тебя люблю, – сказала Нина Виктору. – Ты думаешь, что одной любви достаточно. Но то, что случилось с Аланом и Лиззи, доказывает, что просто любви мало. Чем скорее двое поймут, что это еще и труд, и желание идти на компромиссы, и умение приспосабливаться, и готовность жертвовать, тем лучше! Единственная причина, по которой нужно идти на это, заключается в том, что одиночество выглядит просто ужасно.
– Я не желаю принимать такой взгляд, – заявил Виктор.
– А тебе и не нужно, милый. Все остальное делаю я, так что ты можешь продолжать жить в своем счастливом мире, полагая, что одной любви достаточно. Хотя я знаю, что это не так, – сказала Нина. Она со звоном поставила кофейную чашечку на блюдце. – Любовь переоценивают.
– Пожалуйста, избавь нас от разговоров о сексе, – взмолился Виктор. – Я не желаю сидя за обеденным столом узнать, что моя жена считает, будто и сексу придают чрезмерно большое значение.
Знаете, а ведь Нина Пибл на самом деле считала, что сексу придается незаслуженно большое значение. Собственно говоря, как раз именно эти слова она говорит всякий раз, когда разговор заходит о сексе. Но Нина просто подошла к Виктору со спины, обняла его, скрестив руки на его рубашке от «Брукс Бразерс», и тепло поцеловала его в затылок.
– Этого, – сказала Нина, – ты никогда и ни за что от меня не услышишь.
Она отправилась в кухню, чтобы принести десерт, и общая беседа разбилась. Я посмотрела на Тома, который сидел по другую сторону стола. Попыталась поймать его взгляд, но он упорно смотрел на свою салфетку, сворачивая и разворачивая ее. О чем он думал? Как могло так случиться, что я никогда не знаю, о чем он думает?
Мне пришло в голову, что Нина может быть права. Я задумалась над тем, достаточно ли одной любви и не заключалась ли наша с Томом беда в том, что мы не уделяли должного внимания всему остальному. Приспособление и самопожертвование. Труд и компромиссы. Общение, переговоры и сеансы психотерапевта. Но тут со мной начало происходить нечто странное. Сердце учащенно забилось, я ощутила головокружение, и на мгновение мне показалось, что я вот-вот упаду в обморок. Это не преувеличение, но я склонна часто лишаться чувств. Это самая женственная моя черта, и хотя по большей части она проявляется во врачебных кабинетах, обмороки достаточно часто случаются со мной и в повседневной жизни и представляют реальную угрозу моему здоровью. Я закрыла глаза и почувствовала, как на меня наваливается чернота. Попыталась сосредоточиться на своем дыхании, на том, чтобы замедлить учащенное сердцебиение, но в голове моей эхом отдавались слова Нины. Любовь переоценивают. Одной любви недостаточно. А потом внезапно сердце забилось с перебоями: может быть, это была не любовь? Может быть, в этом вся проблема. Может быть, все и началось с любви, но когда-то что-то с нею произошло, и она превратилась в нечто другое?
Я хочу настоящей любви. Я открыла глаза и посмотрела на Тома. Он по-прежнему возился со своей салфеткой. И здесь я ее не найду.
Я поняла это с ослепительной ясностью. Не имело значения, что я наконец поняла: в жизни есть вещи и похуже того, что человек, который, как предполагается, должен спать только с вами, спит с кем-то еще. Есть вещи и похуже незнания, есть вещи, которые хуже унижения. Не имело значения, что мне почти тридцать три и что у меня свертываются яйцеклетки. И что в Филадельфии больше не осталось мужчин, и что их вообще нигде не осталось, не считая, быть может, Аляски. А это означало, что мне придется отправиться на Аляску за мужчиной или в Китай – за ребенком, что мне придется проводить много времени в интернете и что ни одно из вышеперечисленных занятий не привело меня в восторг. Ничего из этого не имело значения. Единственное, что имело значение, – это была не любовь. Это была совсем не та настоящая большая любовь. Я поняла, что могу провести остаток своей жизни, цепляясь за Тома. Я могу изо всех сил стараться приковать его к себе. Я могу из кожи вон лезть, убеждая его, что он не сможет жить без меня. Но внезапно я поняла, что есть и другой выход. Я могу просто отпустить его. Одновременно я ощутила, как нечто сдвинулось во мне, что-то такое, что оставалось на своем месте так долго, сколько я себя помнила.
Все это было просто поразительно! Мне показалось, будто я пробуждаюсь от долгого сна. Я понимаю, что это избитая, банальная фраза, но именно это я сейчас ощущала. Я тряхнула головой, а потом снова посмотрела через стол на Тома, и мне показалось, что я увидела его в первый раз. Он откинулся на спинку стула, чтобы разговаривать с Виктором, который по-прежнему восседал на подоконнике. Они говорили об ипотечных ставках. Свет одного из настенных бра падал сзади на Тома, отчего его светлые волосы окружал ореол. Мне всегда нравились волосы Тома. Когда я перебирала в уме черты, которые наши дети, как мне хотелось, должны были бы унаследовать, я всегда смешивала все в кучу, чтобы было интереснее, но одно не менялось никогда: волосы должны были быть его. Нос оставался моим, а волосы были его.
– Я думаю, – произнесла я вслух, ни к кому в отдельности не обращаясь, – что одной любви должно быть достаточно.
– О чем это ты? – не понял Ларри.
– Я думаю, что одной любви должно быть достаточно, – повторила я, на этот раз достаточно громко.
– Давай убежим вместе, Алисон, – обратился ко мне Виктор. Он выдохнул большое облако дыма в гостиную. – Мы с тобой будем романтиками.
– Я никогда не чувствовала себя романтиком, – сказала я. – Но я подумываю о том, чтобы стать им.
Я посмотрела на Тома.
– По-моему, нам пора идти, – сказала я.
Глава двадцать вторая
В эту ночь мы с Томом расстались. Все получилось очень по-взрослому и окончательно. Я чувствовала, что обязана так поступить по отношению к нему. На следующее же утро я ушла и перебралась к Корделии. Я намеревалась сначала найти новую работу, а потом и жилье.
– За твою новую жизнь, – сказала Корделия, чокаясь со мной.
– За мою новую жизнь, – откликнулась я.
Когда на следующий день Корделия вернулась из тренажерного зала, я лежала в ее постели, свернувшись в позе эмбриона.
– Мне показалось, ты говорила, что нормально к этому относишься, – заметила Корделия.
– Я нормально к этому отношусь, – ответила я.
Она присела на кровать рядом со мной.
– В глобальном смысле, – добавила я.
Она кивнула.
– Мне просто нужно разобраться в себе, – сказала я.
К понедельнику тучи рассеялись, и я перетащила телевизор из другой комнаты, поставив его на чемодан в изножье кровати. Мне было удобно лежать, опершись спиной на подушки в изголовье, и бесцельно переключать каналы.
– Не понимаю людей, которые говорят, что по телевизору нечего смотреть, – заявила я Корделии, когда та вернулась с работы.
Корделия пересекла комнату и распахнула окно.
– Моя новая теория, – продолжала я, – заключается вот в чем: люди, которые говорят, что по телевизору нечего смотреть, просто мало смотрят его.
Корделия наклонилась, подняла несколько валявшихся на полу журналов и положила их на ночной столик.
– Здесь скрыта вселенная, – сказала я.
Вот так я на некоторое время удалилась от мира в кровать Корделии. Должна заметить, подруга справлялась с моим присутствием исключительно хорошо. Ее мать еще в начале семидесятых заперлась в затемненной спальне на втором этаже, так что мое поведение не удивило Корделию. Она готовила мне картофельное пюре и омлет. Она покупала мою любимую закуску – крекеры и черничный джем – и даже глазом не моргнула, когда несколько ягод из джема приземлились на ее пуховое одеяло. Не могу припомнить, о чем мы говорили. Зато помню, как однажды вечером, когда Корделия растирала мне ноги лосьоном из перечной мяты, я подумала, что вполне понимаю, почему ее мать предпочитала месяцами не вылезать из постели. Если бы такое вытворяла моя мать, я бы не выдержала.
Я лежала в кровати долгими часами, дни напролет, мысленно перебирая все, что произошло между мною и Томом. Мои мозги просто кипели. Я все время возвращалась к одной и той же мысли. Когда я сидела в такси, перелистывая свой настольный календарь и пытаясь определить, чьего же гипотетического ребенка я ношу, произошло следующее: я постоянно представляла уши Генри. На головке ребенка. Потом с некоторым усилием я прогнала эту мысль. Я была с Томом. С ушами у Тома все было в порядке. Но, лежа в кровати Корделии, я без конца возвращалась к этому моменту, и – вот странность! – от этого мне почему-то становилось лучше. Предполагалось, что до конца дней своих я больше не увижу этих нормальных ушей. Правда же заключалась в том, что я больше не хотела провести всю свою жизнь в компании этих ушей. И что-то в глубине души знало об этом, пусть даже остальным частям моей натуры понадобилось некоторое время, чтобы понять.
– Мне кажется, у меня депрессия, – наконец заявила я Корделии.
– У тебя линька, – мягко сказала она.
– Я хочу умереть, – упорствовала я.
– Ты внутри своего кокона, – увещевала Корделия.
– Я не могу пошевелить ни руками, ни ногами, – продолжала я.
– Так и бывает в коконе, – сказала она. – Конечности не двигаются.
А потом в одно прекрасное утро я открыла глаза, и передо мной в лучах солнечного света плясали пылинки, и я поняла, что все прошло. Линька, я имею в виду. Я выбралась из постели и приняла душ. Потом надела кроссовки и отправилась на пробежку. Потом позвонила в агентство по найму. Женщина, с которой я встретилась, знала меня по моей колонке и быстро нашла мне непыльную работенку, во всяком случае в мире временного найма. Мне предстояло работать редактором в рекламном агентстве вместо сотрудницы, которая ушла в декретный отпуск («Тройня. В сорок лет, – сообщила дама из агентства по найму, когда позвонила мне. – Гормональные таблетки, что ли?»). Я очень коротко постриглась, что, как выяснилось, было ошибкой, но я также случайно сбросила семь фунтов, так что получилась ничья.
Первая квартира, которую я осмотрела, находилась в нескольких кварталах от жилища Корделии. Она была дешевой и крошечной и, на мой взгляд, прекрасной. В невероятно огромные окна вливался свет послеполуденного солнца, и располагалась она достаточно высоко, чтобы я, подобно Мэри Поппинс, могла обозревать крыши, дымовые трубы и макушки по-настоящему высоких деревьев. В этот день в поисках квартиры компанию мне составила Нина Пибл, и пока я в восторге замирала перед окнами, она сморщила носик при виде плитки цвета авокадо в ванной комнате и двух крошечных платяных шкафов и сказала:
– Ты не можешь жить на виду, Алисон.
В общем, я подумала немного и решила, что смогу. Так что теперь я жила на виду.
У меня начало зарождаться это чувство, великолепное чувство, что перед вами заново открывается мир, когда вы замечаете объявление об уроках итальянского, приклеенное к фонарному столбу. Вы отрываете маленький клочок с номером телефона и прячете его в свой бумажник. Наткнувшись на него неделю спустя и поддавшись минутному порыву, звоните по нему, и все заканчивается тем, что каждую среду вечером вы оказываетесь в обществе шестерых незнакомцев в задней части кафе, а вас натаскивает Алессандро, который носит кожаные штаны и величает вас «принцессой», оставаясь с вами наедине после занятий. Вы знаете, о каком чувстве я говорю. Существование, которое сморщилось до ежедневных и предсказуемых пропорций, внезапно наполняется жизнью. Я купила себе кружевной бюстгальтер и туристические башмаки. В уборной у меня пылился Китс, и я решила, что наконец настало время заняться Прустом. Я сосредоточенно изучала раздел путешествий и экскурсий в воскресной «Таймс» с настойчивостью человека, который верит, что теперь все и везде возможно. Я ходила в оперу, записалась на занятия йогой и научилась готовить шоколадное суфле.
У меня еще не появилось особенное чувство, чувство, что мне кто-то небезразличен. Мне это никогда не удавалось. Я имею в виду вот что: я делаю что-то, когда встречаюсь с кем-либо – хожу по магазинам, готовлю, езжу на экскурсии и читаю книги – но почему-то мне трудно заставить себя заниматься всем этим. Ведь в любой момент моя жизнь может оказаться совершенно другой, не такой, какой была еще минуту назад. В этом и заключается проблема. Это одна из основных проблем в моей жизни. Я уверена, что есть причина тому, что моя жизнь сосредотачивается вокруг определенного человека, – и я уже начала было разрабатывать соответствующую теорию, но потом бросила. И решила просто бороться с этим. Перестать сжиматься. Начать разворачиваться во всю ширь, чего бы это ни стоило.
Спустя несколько месяцев после того как я переехала в свою новую квартиру, произошло неожиданное событие. Я помню, что еще подумала: что же это такое – окончание истории или ее начало? Был вечер воскресного дня, и я рылась на полках в книжном магазине на Честнат-стрит, выискивая путеводитель. Позади себя я услышала голос.
– Алисон?
Я обернулась. Это был Генри.
– Привет, – сказала я.
Он подался вперед и неловко поцеловал меня в щеку.
– Как у тебя дела? – спросил Генри.
– Все нормально, – ответила я. – Как ты?
– Торчу здесь, – сказал он.
– Я слышала, ты ушел из газеты.
– Ушел? Меня выгнали! – возразил Генри. – Я думаю, различие стирается, когда обе стороны осыпают друг друга бранью в длинном коридоре.
– Ты кричал на Сида? – поинтересовалась я.
– Не просто кричал – орал.
– Жаль, что я не решилась на это, – сказала я.
– Мы получили кучу писем о тебе, – сообщил мне Генри. – Люди протестовали против того, что тебя уволили.
Я посмотрела на него.
– Куча – это сколько?
– Ну, хорошо, – сказал Генри. – Шесть. Но зато у тебя есть шесть исключительно преданных, разъяренных поклонников.
– Расскажи мне лучше, – сказала я, – о девице, которая украла мою работу.
– Мэри Эллен? – переспросил Генри. – Что ты хочешь знать?
– Не знаю, – ответила я. – Что-нибудь очень плохое.
– Ну, она не умеет писать, – начал Генри.
– Вот-вот, еще что-нибудь в этом духе.
– И еще она откусывает головы котятам.
– Продолжай, – попросила я.
– В глубине души она – несчастный и неуверенный в себе человек, – сказал Генри. – На самом деле это грустно.
– Знаешь, я ненавижу такие слова.
– Какие слова?
– Да вот те, что ты сказал только что: если кто-то чувствует себя неуверенным и несчастным, то ему можно простить все, – сказала я. – Смотри, я тоже не уверена в себе и несчастна. Все, кого я знаю, не уверены в себе и несчастны в той или иной мере.
– Ты совершенно права, – заявил Генри. – Она просто обыкновенный плохой человек.
– И бесталанный, – добавила я.
– Абсолютно бесталанный.
Генри улыбнулся.
– Что? – спросила я.
– Ничего, – ответил он.
– Почему ты улыбаешься?
– Не знаю, – сказал Генри. – Я улыбаюсь просто так.
– Что ты теперь собираешься делать? – спросила я.
– Еще не уверен, – ответил он. – Сделать перерыв. Произвести переоценку.
Он показал мне стопку путеводителей «Одинокая планета», которую держал в руках: Таиланд, Непал, Камбоджа и Тибет.
– Я сказал парню за прилавком, что хочу поехать куда-нибудь в недорогое место, где люди носят оранжевые одеяния, – пояснил Генри. – Очевидно, мне надо было быть поконкретнее.
– Тебе нужны горы и переходы или пляжи и шлюхи? – поинтересовалась я.
Он деланно вздохнул.
– Наверное, переходы.
Я вытащила из его стопки путеводители по Таиланду и Камбодже и вернула их обратно на полку.
– Вот, – сказала я. – Вот то, чего тебе хочется.
– Ты собираешься куда-нибудь?
Я кивнула головой.
– В Италию. На две недели.
– Почему именно в Италию? – спросил Генри.
Я решила сказать ему правду.
– Это награда за то, что я не спала со своим учителем итальянского.
Генри рассмеялся.
– Он был, ну, я не знаю, – объяснила я. – Ползуче сексуален. А я была заинтригована. Но потом я поняла, что сексуальная часть относилась к итальянскому, а он был просто ползучей частью.
Генри поинтересовался, не хочу ли я выпить чашечку кофе. Я сказала «да». Мы заплатили за свои книги, а потом зашли в крошечное кафе на углу. Просто долго сидели и разговаривали.
К тому времени, когда мы собрались уходить, было уже темно. Генри взял меня под руку, когда мы переходили улицу с нарушением правил, и не отпустил ее, когда добрались до противоположной стороны.
Ночь была ясной, полная луна висела низко над горизонтом. Я не знала, куда мы идем, но это не имело значения, потому что вишневые деревья наконец зацвели, в воздухе остывал жар разожженного кем-то костра. Мне просто хотелось смотреть на луну. Мне просто хотелось не стесняясь поднять лицо к луне, подобно тому, как подсолнечник тянется к солнцу.


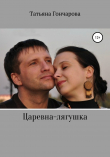





![Книга Истинная любовь [Настоящая любовь] автора Айзек Азимов](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-istinnaya-lyubov-nastoyaschaya-lyubov-3624.jpg)