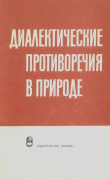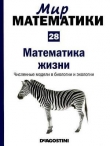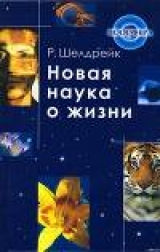
Текст книги "Новая наука о жизни"
Автор книги: Руперт Шелдрейк
Жанры:
Прочая научная литература
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 22 страниц)
2.3. Витализм
Витализм утверждает, что явления жизни не могут быть полностью объяснены с помощью законов физики, выведенных только на основе исследования неодушевленных систем, но что в живых организмах действует дополнительный причинный фактор. Заявление, типичное для витализма девятнадцатого века, сделал в 1844 году химик Либих: он утверждал, что, хотя химики уже могут получать органические вещества всех видов, а в будущем получат много больше, химия никогда не сможет создать глаз или лист; кроме известных причин теплоты, химического сродства и формирующей силы когезии (сцепления) и кристаллизации «в живых телах добавляется еще и четвертая причина, которая превосходит силу когезии и сочетает элементы в новые формы, так что они приобретают новые качества – формы и качества, которые не появляются нигде, кроме как в организме».[58]58
Driesch (1914), с 119.
[Закрыть]
Идеи этого типа, хотя и широко распространенные, были слишком неопределенными, чтобы явить реальную альтернативу механистической теории. Только в начале двадцатого столетия неовиталистические теории были разработаны более обстоятельно. В отношении морфогенеза наиболее важными были идеи Ганса Дриша. Если бы должна была быть разработана современная виталистическая теория, концепция Дриша представляла бы для нее наилучшее основание.
Дриш не отрицал, что многие черты живых организмов могут быть поняты с помощью физико-химических закономерностей. Он был прекрасно осведомлен о достижениях физиологии и биохимии и об их потенциале для будущего открытия: «Есть много специфических химических соединений, присутствующих в организме, принадлежащих к различным классам химической системы; структура их отчасти известна, отчасти неизвестна. Но те, которые еще неизвестны, может быть, будут известны в ближайшем будущем, и, конечно, нельзя утверждать, что теоретически невозможно раскрыть структуру альбумина (белка) и определить, как его "сделать"».[59]59
Driesch (1929), с 290.
[Закрыть] Он знал, что энзимы (ферменты) катализируют (ускоряют) биохимические реакции и могут это делать в пробирках. «Нет возражений по поводу того, чтобы считать почти все метаболические процессы в организме результатом действия ферментов или каталитических веществ, и единственная разница между неорганическими и органическими ферментами состоит в очень сложном характере последних и очень высокой степени их специализации».[60]60
Driesch (1908), т. 1, с 203.
[Закрыть] Он знал, что менделевские гены были материальными единицами, находящимися в хромосомах, и что они являются, по-видимому, химическими соединениями специфической структуры.[61]61
Driesch (1929), с. 152–154, 203.
[Закрыть] Он полагал, что многие аспекты метаболической регуляции и физиологической адаптации могут быть объяснены с помощью физико-химических закономерностей[62]62
Там же, с. 135, 291.
[Закрыть] и что вообще в организме имеется «множество процессов, которые протекают телеологически или целенаправленно на фиксированной механически определенной основе».[63]63
Там же, с. 246.
[Закрыть] Его мнения по этим вопросам были подтверждены последующими успехами физиологии, биохимии и молекулярной биологии.
Очевидно, Дриш не мог предвидеть все детали этих открытий, но он считал их возможными и ни в коей мере не противоречащими витализму.
В отношении морфогенеза он полагал, что «следует допустить, что машина в нашем понимании этого слова вполне может быть движущей силой органогенеза вообще, если бы только нормальное, иными словами, ничем не нарушенное развитие существовало и если бы удаление частей системы вело к фрагментарному развитию».[64]64
Там же, с. 103.
[Закрыть] Но в действительности во многих эмбриональных системах за удалением части эмбриона следует процесс регуляции, при котором оставшиеся ткани реорганизуют себя и создают взрослый организм более или менее нормальной формы.
Механистическая теория должна попытаться объяснить развитие через физические или химические взаимодействия между частями эмбриона. Дриш утверждает, что факт регуляции делает любую такую машиноподобную систему непостижимой, потому что она смогла сохранить целостность и произвести типичный конечный результат, в то время как ни одна сложная трехмерная машиноподобная система не может остаться единым целым после произвольного удаления ее частей.
Этот аргумент открыт для возражения, что он может быть сейчас или когда-нибудь в будущем признан недействительным и опровергнут развитием технологии. Но, по крайней мере, до сих пор он не был опровергнут. Например, хотя компьютеризованные кибернетические системы могут адекватно отвечать на функциональные нарушения некоторых типов, они делают это на основе фиксированной структуры. Но они не могут регенерировать свою собственную физическую структуру: например, если части компьютера разрушены наугад, сама машина не может ни заменить их, ни продолжать нормально функционировать. Другое создание современной технологии, имеющее отношение к делу, это голограмма, у которой могут быть удалены части, но при этом она все еще может давать полное трехмерное изображение. Однако голограмма способна это делать, только если она является частью большего функционирующего целого – лазера, зеркал и т. д. Эти структуры не будут регенерировать после разрушений произвольного характера, например после того, как лазер разбит.
Дриш полагал, что факты регуляции, регенерации и репродукции показывают, что в живых организмах есть нечто, что позволяет им оставаться целым, хотя части физического целого могут быть удалены; оно (это нечто) действует на физическую систему, но не является ее частью. Он назвал этот нефизический причинный фактор энтелехией. Дриш считал, что энтелехия организует и контролирует физико-химические процессы, протекающие при морфогенезе; по его мнению, гены ответственны за обеспечение материальных средств морфогенеза – направляемых для этого химических веществ, – но само направление их (в нужные места) производится энтелехией. Понятно, что на морфогенез могут влиять генетические изменения, которые изменяют средства морфогенеза, но это не доказывает, что его можно объяснить просто на языке генов или химических соединений, которые синтезируются с помощью этих генов. Подобным же образом нервная система обеспечивала средства для действий животных, но энтелехия организовывала активность мозга, используя его как инструмент, так же как это делает пианист, когда играет на фортепиано. Опять же, повреждение мозга может влиять на поведение, так же как повреждение фортепиано может влиять на музыку, исполняемую пианистом; но это доказывает только, что мозг является инструментом, необходимым для поведения, как фортепиано является инструментом, необходимым для игры пианиста.
Энтелехия[65]65
Греческое слово εντελεχεια происходит от εντεληζ – законченный, завершенный и εχω – имею, нахожусь в состоянии; энтелехия буквально означает – нахождение в состоянии полной завершенности или осуществленность. – Прим. пер.
[Закрыть] – это греческое слово, этимология которого (en-telos) указывает на нечто, содержащее свою конечную цель в самом себе; она «содержит» цель, к которой направляется контролируемая ею система. Таким образом, если нормальный путь развития нарушен, система может достичь той же цели другим путем. Дриш считал, что развитие и поведение находятся под контролем иерархии энтелехий, которые все в конечном счете выводятся из общей энтелехии организма и подчиняются ей.[66]66
Driesch (1929), с. 246.
[Закрыть] Как в любой иерархической системе, например в армии, возможны ошибки, так и в живом организме энтелехии могут вести себя «глупо», как это имеет место в случаях суперрегенерации, когда вырастает лишний орган.[67]67
Там же, с. 266.
[Закрыть] Но такие «глупости» опровергают существование энтелехии не; более, чем ошибки армии опровергают тот факт, что солдаты являются разумными существами.
Дриш описывал энтелехию как «интенсивное многообразие», непространственный причинный фактор, который тем не менее действует в пространстве. Он подчеркивал, что это естественный (в противоположность метафизическому или мистическому) фактор, влияющий на физико-химические процессы. Он не является формой энергии, и его действие не противоречит второму закону термодинамики или закону сохранения энергии. Но тогда как же он работает?
Дриш писал свои труды в эпоху классической физики, когда было принято считать, что все физические процессы строго детерминированы и в принципе полностью предсказуемы в терминах энергии, момента и т. д. Но он полагал, что физические процессы не могут быть полностью детерминированы, поскольку в этом случае на них не могла бы влиять неэнергетическая энтелехия. Поэтому он делал вывод, что, по крайней мере в живых организмах, микрофизические процессы не могут быть полностью определены с помощью физической причинности, хотя в среднем физико-химические изменения подчиняются статистическим закономерностям. Он предположил, что энтелехия влияет на подробное расписание микрофизических процессов путем «подвешивания» (приостановки) их и освобождения из такого подвешенного состояния, когда это требуется для достижения ее целей:
«Способность временной приостановки („подвешивания“) неорганического процесса становления следует рассматривать как наиболее существенную онтологическую характеристику энтелехии… С нашей точки зрения, энтелехия совершенно неспособна удалить какое-либо „препятствие“ для событий…, поскольку такое удаление потребовало бы энергии, а энтелехия неэнергетична. Мы утверждаем лишь, что энтелехия может освободить для действия то, чему она сама ранее помешала действовать, что она ранее «подвесила»».[68]68
Там же, с. 262.
[Закрыть]
Хотя столь смелое выдвижение концепции физического индетерминизма в живых организмах казалось совершенно неприемлемым с точки зрения детерминистской классической физики, оно выглядит гораздо менее вызывающим в свете квантовой теории. Гейзенберг вывел соотношение неопределенностей в 1927 году, и вскоре стало ясно, что положения и последовательность событий на микрофизическом уровне могут быть предсказаны только на языке вероятностей. К 1928 году физик сэр Артур Эддингтон мог уже предположить, что ум воздействует на тело путем влияния на конфигурацию квантовых событий в мозге через причинное воздействие на вероятность этих событий. «Если вероятность не противоречит смыслу своего названия, она может быть изменена (модифицирована) такими способами, которых не допустили бы обычные физические понятия».[69]69
Eddington (1935), с. 302.
[Закрыть] Подобные же идеи высказывал нейрофизиолог сэр Джон Экклз, который суммировал свое предположение следующим образом:
«Нейрофизиологическая гипотеза состоит в том, что „воля“ модифицирует пространственно-временную активность сети нейронов путем создания пространственно-временных „полей влияния“, которые становятся действующими благодаря этой уникальной детекторной функции активной коры мозга. Следует заметить, что „воля“ или „влияние ума“ сами имеют в какой-то степени пространственно-временной характер и потому могут оказывать столь эффективное действие».[70]70
Eccles (1953).
[Закрыть]
Позднее ряд подобных, но более конкретных предположений был высказан физиками и парапсихологами[71]71
Например, Walker (1975); Whiteman (1977); Hasted (1978); Lawden (1980).
[Закрыть] (раздел 1.8).
В согласии с этими предположениями современная виталистическая теория могла бы основываться на гипотезе, что энтелехия, используя терминологию Дриша, организует физико-химические системы путем воздействия на физически недетерминированные события в статистических пределах, устанавливаемых энергетической причинностью. Чтобы действовать подобным образом, она сама должна обладать пространственно-временной организацией.
Но тогда как энтелехия приобретает такую организацию? Возможный ответ предлагается интеракционистской теорией памяти, описанной в разделе 1.7. Если воспоминания физически не сохраняются в мозгу, но каким-то образом способны действовать непосредственно через время,[72]72
Сравните с концепцией «мнемонической причинности», обсуждавшейся Бертраном Расселом (Bertrand Russell, 1921).
[Закрыть] то они не должны быть ограничены индивидуальным мозгом, они могут переходить от человека к человеку, или своего рода «обобщенная» память должна наследоваться от бесчисленных индивидов прошлого.
Эти идеи можно обобщить, включив сюда инстинкты животных. Инстинкты могут наследоваться через коллективную память видов; инстинкт здесь выступает как привычка, приобретенная не только индивидом, но видом как целым.
Подобные идеи уже высказывались многими авторами,[73]73
Идея о том, что память и инстинкт есть два аспекта одного и того же явления, выдвигалась в числе прочих такими авторами, как Butler (1878), Semon (1921) и Rignano (1926); однако они предполагали, что наследование памяти осуществляется физически, через семенную плазму, что требует привлечения ламарковской концепции наследования (приобретенных признаков. – Прим. пер.).
[Закрыть] например исследователь психических явлений У. Карингтон предположил, что инстинктивное поведение, такое как плетение паутины у пауков, «может быть обусловлено тем, что индивидуальное существо (например, паук) включено в большую систему (или коллективное подсознательное, если угодно), в которой сохраняется весь опыт данного вида в области плетения паутины.[74]74
Carington (1945).
[Закрыть] Зоолог сэр Алистер Харди развил эту идею, предположив, что этот обобществленный опыт действует как своего рода «психический проект»:
«Могут быть два параллельных потока информации: код ДНК, обеспечивающий возможность действия отбора на изменяющуюся физическую форму органического потока, и психический поток обобществленного опыта – подсознательный «проект» вида, который вместе с окружающей средой будет отбирать тех особей в популяции, которые способны лучше продолжать жизнь вида».[75]75
Hardy (1965), с. 257.
[Закрыть]
В этих предположениях способ наследования, зависящий от нефизических процессов, подобных памяти, ограничен сферой поведения. Дальнейшее обобщение этой идеи с включением наследования формы привело бы к ее соприкосновению с концепцией Дриша об энтелехии: характерный рисунок, налагаемый на физико-химическую систему энтелехией, зависел бы от пространственно-временной организации самой энтелехии в результате процесса наподобие памяти. Например, эмбрион морского ежа развивался бы так, как он развивается, поскольку его энтелехия содержит «память» о процессах развития всех предшествовавших морских ежей; более того, «память» личиночных и взрослых форм предшествовавших морских ежей давала бы возможность энтелехии направлять развитие к соответствующим нормальным формам, даже если эмбрион был поврежден, что объясняет феномен регуляции.
Итак, возможная виталистическая теория морфогенеза может быть в итоге сформулирована следующим образом: генетическое наследование ДНК определяет все белки, которые организм способен синтезировать. Но организация клеток, тканей и органов, а также координация развития организма как целого определяется энтелехией. Последняя наследуется нематериальным путем от живших в прошлом представителей того же вида; она не является разновидностью вещества или энергии, хотя и действует на физико-химические системы контролируемого ею организма. Такое воздействие возможно, поскольку энтелехия работает как набор «скрытых переменных», которые влияют на вероятностные процессы.
Такая теория, безусловно, не бессмысленна и, воз можно, могла бы быть проверена экспериментально, но она кажется существенно неудовлетворительной просто потому, что она виталистическая. Энтелехия есть понятие существенно нефизическое по определению; даже несмотря на то, что она может, согласно гипотезе, действовать на материальные системы путем создания набора переменных, которые с точки зрения квантовой теории являются скрытыми, это все равно было бы действием чужеродного на чужеродное. Физический мир и нефизическая энтелехия никогда не могут быть объяснены или поняты на одном и том же языке.
Этот дуализм, присущий всем виталистическим теориям, кажется особенно условным в свете открытий молекулярной биологией «самосборки» таких сложных структур, как рибосомы и вирусы, что указывает на отличие от кристаллизации лишь в степени, но не в качестве. Хотя самоорганизация целостных живых организмов более сложна, чем у рибосом и вирусов, и приводит к значительно большей внутренней гетерогенности, здесь имеется достаточное сходство, чтобы предположить и в этом случае различие лишь в степени. Так, по крайней мере, предпочитают думать последователи как механистических, так и организмических теорий.
Возможно, виталистическую теорию следовало бы принять, если бы нельзя было себе представить другого удовлетворительного объяснения феноменов жизни. В начале этого века,[76]76
Имеется в виду XX век. – Прим. пер.
[Закрыть] когда казалось, что витализм является единственной альтернативой механистической теории, он пользовался значительной поддержкой, несмотря на присущий ему дуализм. Но развитие организмической теории в последние 50 лет предложило другую возможность, которая, включив многие аспекты витализма, но в более широкой перспективе, значительно превзошла его.
2.4. Органицизм
Организмические теории морфогенеза развивались под различными влияниями: некоторые – из философских систем, особенно теории А. Н. Уайтхеда и Дж. К. Сматса; другие – из современной физики, в частности из теории поля; третьи – из гештальт-психологии, которая сама испытывала сильное воздействие концепции физических полей; а некоторые – из витализма Дриша.[77]77
Обсуждение этих влияний и описание последующего развития организмических идей дает Haraway (1976). Наилучшее среди ранних изложений организмического подхода к объяснению морфогенеза содержится у Bertalanffy (1933).
[Закрыть]
Эти теории рассматривают те же проблемы, которые Дриш считал неразрешимыми с механистических позиций, – регуляцию, регенерацию и репродукцию, – но там, где для объяснения свойств целостности и направленности, проявляемых развивающимися организмами, Дриш предлагал нефизическую энтелехию, органицисты предложили морфогенетические (или эмбриональные, или свойственные развитию) поля.
Эта идея была выдвинута независимо А. Гурвичем в 1922[78]78
Gurwitsch (1922).
[Закрыть] и П. Вейсом в 1926 году.[79]79
Систематическое изложение идей Вейса дано в его книге «Принципы развития» («Principles of Development», 1939).
[Закрыть] Однако, помимо утверждения, что морфогенетические поля играют важную роль в контроле морфогенеза, ни один из этих авторов не определял, что такое эти поля и как они работают. Терминология полей вскоре была воспринята другими учеными, работающими в области биологии развития, но она оставалась слабо разработанной, хотя и служила для создания аналогий между свойствами живых организмов и неорганических электромагнитных систем. Например, если магнит из железа разрезан на две половинки, получаются два целых магнита, благодаря свойствам магнитного поля; подобно этому, морфогенетические поля предлагались как объяснение «целостности» отделенных частей организмов, которые были способны вырасти в целые организмы.

Рис. 5. Часть «эпигенетического ландшафта», иллюстрирующая концепцию хреоды как канализированного пути изменения (из Waddington, 1957)
К. X. Уоддингтон предложил более широкое толкование морфогенетических полей, включив в рассмотрение временной аспект развития. Он назвал эту новую концепцию хреодой (от греческого chrē – необходимо и hodos – путь) и иллюстрировал ее с помощью простого трехмерного «эпигенетического ландшафта» (рис. 5).[80]80
Waddington (1957), глава 2.
[Закрыть] В этой модели путь, по которому движется шарик, когда он катится вниз, соответствует истории развития определенной части яйца. По мере развития эмбриологии появляются разветвляющиеся серии альтернативных путей развития, представленные «долинами». Они соответствуют путям развития различных типов органа, ткани и клетки. В организме они вполне различимы: например, почка и печень имеют различные структуры и не переходят друг в друга через серию промежуточных форм. Развитие канализировано по направлению к определенным конечным точкам. Генетические изменения, или пертурбации, в окружающей среде могут «толкнуть» направление развития (представленное путем, по которому движется шарик) из глубины «долины» на соседний «холм», но, если оно не будет переброшено через вершину холма в соседнюю долину, процесс развития найдет путь назад. Он вернется не к начальной точке, а к более поздней позиции на канализованном пути изменений. Это представляет регуляцию.
Концепция хреоды очень близка идее морфогенетических полей, но она делает явным измерение времени, которое в морфогенетических полях присутствует в неявном виде.
Недавно обе эти концепции были существенно продвинуты математиком Рене Томом, который сделал попытку создать математическую теорию, описывающую не только морфогенез, но также поведение и язык.[81]81
Thorn (1975a).
[Закрыть] Его главной задачей было найти подходящий математический формализм для этих проблем, которые до сих пор не поддавались математической обработке. Конечная цель состоит в том, чтобы построить математические модели, соответствующие процессам развития настолько близко, насколько это возможно. Эти модели должны быть топологические, скорее, качественные, чем количественные, и не должны зависеть от какой-либо конкретной схемы причинного объяснения: «Одна существенная особенность применения нами локальных моделей состоит в том, что мы ничего не подразумеваем под „конечной природой реальности“; даже если она когда-либо обнаружится посредством анализа, слишком сложного для описания, только часть ее проявления – так называемые „наблюдаемые“ (observ-ables) в конечном счете пригодны для макроскопического описания системы. Фазовое пространство нашей динамической модели определено с использованием лишь таких „наблюдаемых“ и без ссылок на какие-либо более или менее хаотические базовые структуры».[82]82
Там же, с. 6–7.
[Закрыть]
Проблема с этим подходом состоит в том, что он является по существу описательным; он мало что дает для объяснения морфогенеза. Это характерно для всех существующих организмических теорий морфогенеза. Сравним, например, хреоду Уоддингтона и энтелехию Дриша. Обе заключают в себе идею о том, что развитие направляется и располагается (канализируется) в пространстве и времени чем-то, что само не может рассматриваться как принадлежащее определенному месту и времени; оба видят это что-то как содержащее в самом себе конец и цель процесса развития, и вследствие этого оба предлагают способ объяснения регуляции. Главное различие между ними состоит в том, что Дриш пытался разъяснить, как предложенный им процесс может работать на практике, а Уоддингтон этого не делал. Концепция хреоды была менее уязвима для критики, потому что оставалась столь неопределенной.[83]83
Уоддингтон даже не выразил ясно организмическую основу своей концепции по причине, которую он изложил в следующем месте своей книги, написанной в конце своей деятельности:
«Поскольку характер у меня не агрессивный, а жить мне довелось в агрессивный и антиметафизический период, я предпочел не выражать публично эти философские взгляды. Эссе, написанное мной около 1928 г., "Противоречие между витализмом и механицизмом и процесс абстрагирования" никогда не было напечатано. Вместо этого я стремился сделать точку зрения Уайтхеда пригодной для использования в условиях конкретных экспериментов. Тогда биологи, не интересующиеся метафизикой, не замечают, что лежит в основе, хотя они обычно реагируют так, как будто чувствуют смутную тревогу» (Waddington (ed.), 1969, с. 72–81).
[Закрыть] Фактически, Уоддингтон рассматривал концепции хреоды и морфогенетических полей как «по существу способ, удобный для описания».[84]84
Waddington (ed.) (1969), с. 238, 242.
[Закрыть] Подобно многим другим органицистам, он отрицал, что предлагает оперировать чем-либо другим, нежели известными физическими причинами.[85]85
Например, Elsasser (1966, 1975); von Bertalanfi (1971). Обсуждение такого «механистического органицизма» см. Sheldrake (1981).
[Закрыть] Однако не все органицисты это отрицали, некоторые оставляли вопрос открытым. Такое явно уклончивое поведение можно проиллюстрировать следующим обсуждением морфогенетического поля у Б. К. Гудвина:
«Один аспект поля состоит в том, что на него могут влиять электрические силы. Было обнаружено, что другие развивающиеся и регенерирующие организмы имеют интересную и значительную электрическую сеть, но я не хотел бы предположить, что морфогенетическое поле имеет по существу электрическую природу. Химические вещества также влияют на полярность и другие пространственные аспекты развивающихся организмов; но опять-таки я не хотел бы делать отсюда вывод, что морфогенетическое поле имеет по существу химическую или биохимическую природу. Мое убеждение состоит в том, что исследование этого поля должно проводиться при допущении, что оно имеет природу какую-либо из упомянутых, или никакую из них, или все сразу; но я считаю, что, несмотря на агностицизм в отношении его материальной природы, оно играет главную роль в процессе развития».[86]86
Goodwin (1979), с. 112–113.
[Закрыть]
Открытость этой позиции делает ее наиболее многообещающей отправной точкой для построения обстоятельной организмической теории морфогенеза. Но очевидно, что, если морфогенетические поля считаются полностью объяснимыми с помощью известных физических принципов, они представляют собой не что иное, как неясную терминологию, наложенную на усложненную версию механистической теории. Только если допускается, что они играют причинную роль, не признанную физикой сегодня, может быть построена теория, доступная проверке. Такая возможность исследуется в следующих главах.