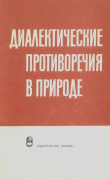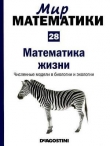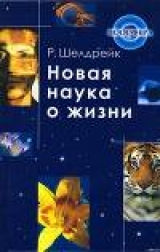
Текст книги "Новая наука о жизни"
Автор книги: Руперт Шелдрейк
Жанры:
Прочая научная литература
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 22 страниц)
12.3. Сознательное «я»
В противоположность философии материализма можно допустить, что сознательное «я» имеет реальность, которая не является лишь производной от материи. Можно, скорее, принять, нежели отвергнуть, что сознательное «я» одного человека обладает способностью делать свободный выбор. Тогда по аналогии можно допустить, что и все другие люди являются сознательными существами, обладающих такой же способностью.
Этот взгляд с позиции «здравого смысла» приводит к выводу, что сознательное «я» и тело взаимодействуют между собой. Но тогда как же происходит это взаимодействие?
В механистической теории жизни сознательное «я» должно рассматриваться как своего рода «дух в машине».[251]251
Ryle (1949).
[Закрыть] Для материалистов такое представление кажется абсурдным по своей природе. И даже защитники позиции интеракционизма оказались неспособны определить, как происходит это взаимодействие, высказывая лишь неопределенное предположение, что оно каким-то образом зависит от модификации квантовых событий в мозгу.[252]252
Например, Eddington (1935), Eccles (1953), Walker (1975).
[Закрыть]
Гипотеза формативной причинности позволяет увидеть эту давно существующую проблему в новом свете. Сознательное «я» может рассматриваться как взаимодействующее не с машиной, но с моторными полями. Эти моторные поля связаны с телом и зависят от его физико-химических состояний. Но это «я» не тождественно моторным полям, и его переживания не являются просто параллельными тем изменениям, которые вызываются в мозгу энергетической и формативной причинностью. Оно «входит» в моторные поля, но остается вверху и над ними.
Через эти поля сознательное «я» тесно связано с внешним окружением и с состояниями тела при восприятии и сознательно контролируемой деятельности. Но субъективный опыт, который не связан непосредственно с настоящим окружением (тела) или с сиюминутным действием – например, во сне, в мечтах или в бессвязных размышлениях, – необязательно должен иметь какое-либо особо близкое отношение к энергетическим и формативным причинам, действующим на мозг.
На первый взгляд такой вывод может показаться противоречащим фактам, свидетельствующим о том, что состояния сознания часто связаны с характерными видами физиологической деятельности. Например, сны могут сопровождаться быстрыми движениями глаз и электрическими ритмами определенных частот в мозгу.[253]253
Jouvet (1967).
[Закрыть] Но такие свидетельства не доказывают, что определенные детали сновидений происходят параллельно с этими физиологическими изменениями: последние могут быть просто неспецифическими следствиями вхождения сознания в состояние сна.
Этот момент легче понять с помощью аналогии. Рассмотрим взаимодействие между автомобилем и водителем. При некоторых условиях, когда автомобиль управляется водителем, движения автомобиля тесно связаны с движениями водителя и зависят от его восприятия дороги впереди, дорожных знаков, положения стрелок на шкалах приборов, указывающих на внутреннее состояние машины, и так далее. Но при других условиях эта связь является гораздо менее тесной: например, когда автомобиль стоит с работающим мотором, а водитель разглядывает карту. Хотя и существует общая связь между состоянием автомобиля и тем, что делает водитель – он не может читать, когда ведет машину, – здесь не будет специфической связи между вибрациями мотора и содержанием карты, которую он изучает. Подобным же образом ритмическая электрическая активность мозга не обязательно должна иметь специфическую связь с образами, переживаемыми в снах.
Если сознательное «я» имеет свойства, которые несводимы к свойствам материи, энергии, морфогенетических и моторных полей, нет причин, почему сознательная память – например, память об определенных событиях в прошлом – должна или материально сохраняться в мозгу, или зависеть от морфического резонанса. Такая память вполне может быть дана непосредственно от прошлых сознательных состояний через время и пространство, просто на основе подобия с настоящими состояниями. Этот процесс напоминает морфический резонанс, но отличается от него тем, что он зависит не от физических состояний, но от состояний сознания. Таким образом, здесь было бы два типа долговременной памяти: моторная (двигательная), или обычная, память, даваемая морфическим резонансом, и сознательная память, даваемая непосредственным доступом сознательного «я» к его собственным прошлым состояниям.[254]254
Обсуждение различия между моторной или обычной памятью и сознательной памятью да но у Бергсона (Bergson, 1911b).
[Закрыть]
Коль скоро допускается, что сознательное «я» имеет свойства, не похожие на свойства любой чисто физической системы, кажется возможным, что некоторые из этих свойств могут быть способны объяснить парапсихологические феномены, которые необъяснимы в рамках энергетической или формативной причинности.[255]255
См. дискуссию Pao (Rao, 1977).
[Закрыть]
Но если «я» имеет свои особые свойства, как оно воздействует на тело и внешний мир через моторные поля? Здесь кажутся возможными два пути: во-первых, выбирая между различными возможными моторными полями, в результате чего реализуется один из возможных способов действия, и во-вторых, играя роль творческого фактора, с помощью которого возникают новые моторные поля, например в обучении по типу «инсайта» (см. раздел 10.4). В обоих случаях оно действует подобно формативной причине, но такой, которая в определенных пределах свободна и неопределима с точки зрения физической причинности. Фактически его можно считать формативной причиной формативных причин.
В такой интерпретации сознательно контролируемые действия зависят от трех видов причинности: сознательной причинности, формативной причинности и энергетической причинности. Напротив, традиционные теории интеракционизма типа «духа в машине» признают только две причинности: сознательную и энергетическую, без формативной причинности между ними. Модифицированный материализм допускает две другие – формативную и энергетическую – и отрицает существование сознательной причинности. А традиционный материализм признает только одну энергетическую причинность.[256]256
В свете этой классификации можно выделить два различных типа дуалистической или виталистической теории. Первый, примером которого могут служить труды Дриша (1908, 1927), постулирует существование нового типа при чинности, ответственной за повторяющиеся и систематические биологические процессы, соответствующие формативной причинности в ее настоящем смысле. Второй, блестяще разработанный Бергсоном, выделяет, с одной стороны, сознательную причинность (в его «Материи и памяти») и, с другой стороны, эволюционное творчество (в «Творящей эволюции» («Creative Evolution»); ни то, ни другое нельзя было объяснить с помощью физических причин.
[Закрыть]
Связь между сознательной причинностью и формативной причинностью, вероятно, лучше всего представить с помощью аналогии со связью между формативной и энергетической причинностью. Формативная причинность не приостанавливает энергетическую причинность и не противоречит ей, но накладывает некий шаблон на события, которые неопределимы с энергетической точки зрения; она делает выбор между энергетическими возможностями. Подобным же образом сознательная причинность не приостанавливает формативную причинность и не противоречит ей, но делает выбор между моторными полями, которые в равной степени возможны на основе морфического резонанса.
Ситуации, в которых возможны несколько различных моделей деятельности, могут возникать, либо когда поведение под воздействием определенных моторных полей уже не канализировано врожденными или привычными хреодами, либо когда два или более моторных поля конкурируют за контроль над телом.
У низших животных сильная канализация инстинктивных моделей поведения, вероятно, почти или совсем не оставляет места для сознательной причинности; но среди высших животных относительно слабая врожденная канализация пищевого комплекса поведения вполне может обеспечить для нее некоторое поле деятельности. А у человека огромный диапазон возможных действий вызывает к жизни множество неопределенных ситуаций, в которых может быть сделан сознательный выбор, как на низших уровнях, между возможными методами достижения целей, уже заданных главными моторными полями, так и на высших уровнях, между главными моторными полями, конкурирующими между собой.
С этой точки зрения сознание направлено главным образом к выбору между возможными действиями, а его эволюция теснейшим образом связана с расширяющейся областью сознательной причинности.
На ранней стадии человеческой эволюции эта область должна была чрезвычайно сильно увеличиться с развитием языка как непосредственно, через способность производить бесконечное число наборов звуков при произнесении фраз и предложений, так и косвенно, через все действия, которые стали возможными благодаря этому обстоятельному и гибкому средству общения. Более того, в связанном с языком развитии умозрительного мышления на некоторой стадии сознательное «я» качественным прыжком должно осознать самое себя как проводника сознательной причинности.
Хотя сознательное творчество достигает своего высшего развития у человека как биологического вида, возможно, что оно также играет важную роль в развитии новых типов поведения у высших животных и даже может иметь некоторое значение у низших животных. Но сознательная причинность имеет место только в уже установившихся рамках формативной причинности, задаваемой морфическим резонансом от прошлых животных; она не может объяснить главные моторные поля, в области которых она проявляется, и не может также рассматриваться как причина характерной формы вида. Еще менее она может помочь объяснить происхождение новых форм в растительном царстве. Так что проблема эволюционного творчества остается нерешенной.
Способность к творчеству можно приписать либо нефизической творческой силе, которая проникает собой индивидуальные организмы, либо она может быть приписана случаю.
Принятие последней возможности делает вторую из метафизических позиций совместимой с гипотезой формативной причинности, в которой признается реальность сознательного «я» как причинного фактора, но отрицается существование какой-либо нефизической силы, выходящей за пределы индивидуальных организмов.
12.4. Творящая Вселенная
Хотя творческая сила, способная создавать в ходе эволюции новые формы и новые модели поведения, непременно должна выходить за пределы индивидуальных организмов, она не должна выходить за пределы всей природы. Например, она может быть имманентна жизни в целом; в этом случае она соответствует тому, что Бергсон называл elan vital /жизненный порыв. – Прим. пер.).[257]257
Bergson (1911а).
[Закрыть] Или она может быть имманентна планете в целом, или Солнечной системе, или всей Вселенной. Фактически может существовать иерархия имманентных творческих сил на всех этих уровнях.
Такие творческие силы могут создавать новые морфогенетические и моторные поля путем своего рода причинности, очень напоминающей сознательную причинность, рассмотренную выше. На самом деле, если такие творческие силы вообще признаются, тогда трудно избежать заключения, что они должны быть в некотором смысле сознательными сущностями.
Если такая иерархия сознательных сущностей существует, тогда те из них, кто стоит на высших уровнях, вполне могут выражать свою способность к творчеству с помощью тех, кто стоит на более низких уровнях. А если такая творческая сила высшего уровня действует через человеческое сознание, то мысли и действия, которые ею вызываются, фактически могут переживаться так, как если бы они происходили из внешнего источника. Такое переживание, называемое вдохновением, действительно хорошо известно.
Более того, если такие «высшие сущности» имманентны природе, тогда можно представить, что при некоторых условиях человеческие существа могут прямо осознать, что они заключены внутри этих сущностей или охватываются ими. И переживание внутреннего единства с жизнью, или с планетой, или со Вселенной на самом деле часто описывалось людьми до той степени, в какой его вообще можно выразить словами.
Но несмотря на то что иерархия сознательных сущностей вполне может объяснить эволюционное творчество Вселенной, она, вероятно, не могла положить начало самому существованию Вселенной. Также эта имманентная творческая сила не могла иметь какую-либо цель, если нет ничего за пределами Вселенной, к чему эта сила могла бы стремиться. Так что в этом случае вся природа развивалась бы непрерывно, но слепо и не имея направления.
Метафизическая позиция признает причинную действенность сознательного «я», а также существование творческих сил, выходящих за пределы индивидуальных организмов (трансцендентных по отношению к ним), но имманентных природе. Однако она отрицает существование какой-либо конечной творческой силы, трансцендентной по отношению к Вселенной в целом.
12.5. Трансцендентная реальность
Вселенная в целом может иметь причину и цель, только если она сама была создана превосходящей ее (трансцендентной ей) сознательной силой. В отличие от Вселенной, это трансцендентное сознание не могло бы развиваться в направлении к определенной цели; оно само было бы своей собственной целью. Оно не могло бы также стремиться к конечной форме, а имело бы завершение в самом себе.
Если бы это трансцендентное сознательное существо являлось источником Вселенной и всего, что в ней есть, то все сотворенные вещи были бы в каком-то смысле составляющими его природы. Тогда более или менее ограниченная «целостность» организмов на всех уровнях сложности могла бы рассматриваться как отражение трансцендентного единства, от которого они зависят и от которого в конечном счете произошли.
Таким образом, эта четвертая метафизическая позиция утверждает причинную действенность сознательного «я», а также существование иерархии творческих сил, имманентных природе, а также реальность трансцендентного источника Вселенной.
Приложение
(Публикуется с сокращениями)
1. Комментарии и полемика
Ко времени выхода первого издания «Новой науки о жизни» в 1981 году журнал «Нью Сайентист» опубликовал мою статью, в которой была кратко изложена гипотеза формативной причинности. К этой статье Колин Тадж написал следующее предисловие.
Научное доказательство того, что наука все это поняла неверноРуперт Шелдрейк в ближайшее время напечатает книгу. в которой на языке опровержимых аргументов утверждается, что западная наука, к сожалению, создала неверное представление о мире и населяющих его существах. Шелдрейк полагает, что формы вещей – кристаллов или организмов – и способ их поведения не определяются лишь физически «законами» и принципами, установленными наукой к настоящему времени. По его скромному мнению, представления, согласно которым все, что делает каждое существо, в конечном счете может быть объяснено свойствами составляющих его молекул – что биология в конечном счете есть химия, а химия (если бы знали достаточно) была бы физикой, – все это есть лишь ненужный хлам.
Вместо этого он выдвигает (или, скорее, повторяет, поскольку сам термин заимствован из эмбриологии) идею «морфогенетических полей», согласно которой, когда что-то (скажем, кристалл) образует форму или какое-либо животное обучается новой форме поведения, это влияет в дальнейшем на рост других кристаллов или на последующее обучение животных того же вида. Фактически он предполагает, что мир держится не потому, что «законы» предписывают, что должно случиться, но потому, что из всех вещей, которые могли бы произойти, реализуется лишь одна и эта одна затем влияет на все вещи того же рода, которые осуществляются впоследствии
Конечно, в контексте современной науки такая идея выглядит совершенно несостоятельной. Блонд и Бриггс, которые на будущей неделе выпускают в свет «Новую науку о жизни» Шелдрейка, и мы, публикующие его краткое эссе, очевидно, завершили соответствующие дела и должны вернуться к нашим пробиркам лишь по трем причинам.
Первая состоит в том, что Шелдрейк – прекрасный, истинный ученый, к тому же одаренный богатым воображением, из тех, кто в давние века открывал новые континенты и отражал мир в сонетах. Он физиолог растений, когда-то сотрудник, затем член Совета Клэр-Колледжа в Кембридже и стипендиат Королевского Общества. К началу 1970-х годов он имел все возможности достичь предела мечтаний наиболее честолюбивых ученых – получить должность профессора в университете по своему выбору, но он предпочел наблюдать растения, которые растут на полях, а не фрагменты растений в лаборатории. В 1974 году он отправился в Индию, в Хайдерабад, и там написал первый вариант «Новой науки о жизни».
Вторая причина, заставляющая принимать Шелдрейка всерьез, состоит в том, что в его идеях есть хорошая наука. Чтобы проглотить то, что он говорит, необходимо произвести, по определению Томаса Куна, сдвиг парадигмы, это значит отставить наши принятые допущения о том, как устроен мир. Это неприятная работа. Однако представление современной механистической науки, что мы действительно знаем все главные силы и поля, которые действуют в мире, является поразительно самонадеянным. Кроме того, оно не проверяемо и потому, согласно критерию Карла Поппера, ненаучно. Как полагают механицисты, если что-либо не объяснено (а к таким явлениям относится заметное число биологических феноменов), ответ может быть найден, если будет получено немного больше знания, проведено немного больше исследований по тем же направлениям. Это основано на утверждении, что будущее разрешит все проблемы, а такое утверждение не проверяемо и, следовательно, ненаучно.
То, что предлагает Шелдрейк, напротив, несомненно, научно. Это не значит, что он прав, но что его гипотеза проверяема, например, путем выяснения того, будет ли крыса легче обучаться некоему приему в Лондоне после того, как Другая крыса той же линии обучалась ему в Нью-Йорке. (Шелдрейк хотел бы сам проделать такой эксперимент, но для физиолога растений трудно добыть соответствующую лицензию для работы с крысами на дому, особенно если такая работа предполагает «сдвиг парадигмы».)
Третья причина для серьезного отношения к Шелдрейку – то, что другие его воспринимают вполне серьезно. Конечно, аргумент, что мы все должны обратиться в католичество, потому что Папа Римский – человек умный, не может привлечь многих сторонников. Но, как говорит Шелдрейк, наиболее серьезно его воспринимали и сидели ночами разрабатывая различные применения его гипотезы, именно физики, то есть те ученые, которые должны были быть его наиболее ярыми оппонентами. Никто из тех, кто работал с частицами, расстояниями или температурами, которые лежат вне пределов, постижимых человеческим разумом, не может сомневаться в том, что «морфогенетические поля», предполагаемые Шелдрейком, действительно существуют.
Если предложенные Шелдрейком эксперименты покажут, что его идеи не работают и продолжают не работать, будет ясно, что он ошибается. Как он говорит – такова, жизнь. И что более существенно – такова наука.
Колин Тадж («New Scientist», 18 июня 1981)
Обзор корреспонденции, последовавшей за публикацией статьи Шелдрейка, был дан Роем Гербертом в разделе «Форум»
Действие на расстоянииЧитатели, обвиняющие друг друга в помпезности, в писании чепухи и изощренных методологических фальсификациях, есть источник жизни для колонок корреспонденции, таковыми являются и эпистолярные следствия статьи Руперта Шелдрейка о «формативной причинности» (18 июня,1 с. 766) и обзора его книги (16 июля, с. 164), которые вызвали приятное оживление. Чтобы следить за обменом аргументами и вежливой бранью, требовалось некоторое пополнение словарного запаса такими словами, как «энтелехия» и «организмический», которые так и летали вокруг, не говоря уже о фразах типа «сдвиг парадигмы»; но в награду можно было наблюдать смесь неприятия, осторожности, уклончивости и откровенного одобрения, выраженную в письмах за последние несколько недель. Немалый интерес представляло заявление Ниньяна Маршалла, что такая же или чрезвычайно похожая теория уже была выдвинута 20 лет назад, хотя и сомнительно, что это действительно так. Возможно, это означает просто, что большинство людей умеет читать.
Колин Тадж, сказав примерно так, что, поскольку теория Шелдрейка может быть проверена, она есть наука, зашел слишком далеко; но Льюис Волперт намерен пойти еще дальше. У него имеется гипотеза, что Тадж свергнут марсианами, и для ее проверки он хотел бы, чтобы Тадж согласился быть изолированным в комнате, окруженной водой, на шесть месяцев, зловеще добавляя, что другие журналисты выиграют от этого с помощью космического резонанса.
Конечно, журнал не может печатать все письма, многие из которых носят сатирический характер…Некоторые погружаются в дебри семантики, другие – в необычные философские системы, большей частью собственные; согласно одной из них, допущение о существовании души полностью исчерпывает вопрос….
Многие корреспонденты отмечали, что, если бы формативная причинность действительно существовала, к настоящему времени она стала бы не только проверяемой, но и совершенно очевидной, и приводили примеры против этой гипотезы. Почему, когда такое множество людей в истории человечества научилось говорить по-китайски, мы все не можем с легкостью выучить этот язык или даже уметь говорить на нем от рождения? Или мы не «подобны» китайцам? «Языковый вопрос» поднимался не однажды; один из авторов писал, что, насколько он понимает, вследствие формативной причинности мы все давно уже говорили бы на одном языке. В одном выразительном письме из Плимута говорилось: не стоит беспокоиться о крысах; в скорости обучения детей в школах нет никакого ускорения, хотя они, поколение за поколением, год за годом, учат одно и то же…
Сравнительно легко относиться к формативной причинности с иронией, как это делают авторы большинства писем. В глазах некоторых людей это аргумент в ее пользу, так как они могут восклицать, что множество других идей сначала осмеивались, а затем оказывались верными. Только в одном письме было сделано исключение для аналогии Руперта Шелдрейка с телеприемником. Аналогия всегда опасна, поскольку почти невозможно найти достаточно точный пример. Читатель знает, что телеприемник испытывает влияния извне, и поэтому он предрасположен к принятию идеи формативной причинности. Но телеприемник есть телеприемник, а не модель Вселенной.
Рой Герберт («New Scientist», 6 августа 1981)
Между тем большинство главных британских газет высказали мнения о «Новой науке о жизни» в основном положительные. В качестве примера приводим статью Бернарде Диксона из «Сандэй Тайме».