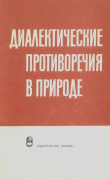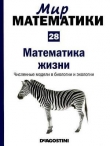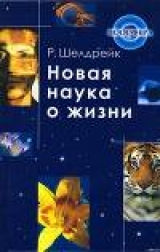
Текст книги "Новая наука о жизни"
Автор книги: Руперт Шелдрейк
Жанры:
Прочая научная литература
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 22 страниц)
4. Эксперименты
Следуя простому предложению д-ра Джентла, я проводил эксперименты в Англии и Соединенных Штатах: людей просили запомнить три японских стихотворения, что они и делали, произнося стихи нараспев таким же манером, как это делали поколения японских детей. Конечно, им не говорилось, которое из них было подлинным детским стихом, а какие были новые, сочиненные поэтом Шунтаро Таникава. Результаты, опубликованные в Бюллетене «Мозг/Ум» («Brain/Mind Bulletin») 12 сентября 1983 года, показали, что для 62 % испытуемых легче было выучить подлинный стих. Этот результат обладал высокой степенью статистической достоверности; при случайном выборе такого результата можно было ожидать только для 33 % участников. Однако главное возражение здесь состоит в том, что детский стишок изначально было легче выучить просто потому, что детскими стишками могли стать прежде всего такие стихи, которые легко выучить. Единственный способ исключить это возражение – провести эксперимент, в котором используются несколько новых стишков, например, на японском языке, сходных по размеру и звуковой структуре. Они могут быть испытаны, скажем, на англичанах, и из них могут быть выбраны три стиха равной степени сложности. Затем один из этих стихов, выбранный наугад, выучивается многими тысячами людей в США. Затем в Англии испытывается скорость заучивания всех трех стихов. Согласно гипотезе, стишок, который учили в Америке, в Англии теперь стало заучивать легче, чем два других. Но проблема с этим тестом может быть в том, что здесь требуется просить множество американцев заучивать стихотворение на иностранном языке, которое для них лишено всякого смысла, и у них будет, скорее всего, мало желания этим заниматься.
Когда я обсуждал такой эксперимент с д-ром Ником Хамфри, он выступил с практически более ценным предложением – использовать картины, содержащие скрытые изображения. Вначале часто кажется, что такие картины не имеют смысла или содержат лишь отдаленные намеки на определенный рисунок. Но видение скрытого образа включает внезапный гештальт-эффект, когда картина приобретает определенный смысл. Если это уже случилось, становится трудно не видеть смысл картины и представить себе, что другие не могут его увидеть.
Если гипотеза формативной причинности применима к распознаванию таких образов, а я думаю, что она должна работать и здесь, тогда должна существовать тенденция к более легкому распознаванию скрытого образа после того, как его уже увидели многие другие люди.
Летом 1983 года телевидение Темзы сделало возможным проведение эксперимента такого рода. Результаты были опубликованы в «Нью Сайентист» 27 октября 1983 года.
Формативная причинность: подтверждение гипотезыРеволюционная идея о том, что на форму вещей и поведение организмов оказывает влияние «морфический резонанс», исходящий от прошлых событий, бросает вызов современной науке и вызывает негодование многих ученых. Но прибавляются свидетельства того, что «гипотеза формативной причинности» может быть правильной.

Рис. 1

Рис. 2
В программе, названной «А Плюс», вышедшей в эфир в Англии по каналу ITV днем 31 августа, с 2 до 2.30, картинку-загадку, содержащую скрытый образ, показали почти двум миллионам зрителей. Через небольшой промежуток времени был дан ответ, который затем был «встроен» обратно в картинку-загадку, так что образ, ранее скрытый, теперь было легко увидеть. Та же картинка показывалась снова в конце программы.


На самом деле эксперимент включал две картинки (рис. 1 и 2), которые были специально созданы Морганом Сендаллом. Они специально были сделаны трудными, так чтобы лишь очень небольшое количество зрителей могло отгадать скрытые изображения. В течение августа я послал их коллегам на Британских островах, в континентальной Европе, Африке и в обеих Америках. Каждый экспериментатор показывал две картинки одной группе испытуемых в течение нескольких дней до передачи в Англии 31 августа, а затем в течение нескольких дней после нее другой подобной же группе; например, если в первой группе были студенты, то и вторую набирали из студентов. Каждую картинку показывали одну минуту, всегда сначала первую, и записывалось число людей, отгадавших каждую из них. В большинстве групп люди записывали свои ответы, но в некоторых случаях экспериментаторы опрашивали каждого отдельно. «Отгадками» считались только совершенно четкие ответы, например «женщина в шляпе» для первой картинки или «казак с большими усами» – для второй. Принимались меры предосторожности, чтобы воспрепятствовать передаче ответов от субъектов одной группы к другой.
Экспериментаторы не знали, какая из картинок будет показана по телевидению, и я сам этого не знал. Контролем служила картинка, которая не была показана. Таким образом, для опытной (показанной) картинки должен был наблюдаться эффект увеличения процента людей, отгадавших ответ после показа по телевидению, тогда как для контрольной картинки должно было быть либо небольшое увеличение, либо никакого.
По телевидению была показана картинка на рис. 2, а картинка на рис. 1 служила контролем. Результаты эксперимента приведены в таблице 1. Если обобщить все данные, доля отгадавших картинку 2 увеличилась на 76 %. Это увеличение статистически значимо с уровнем вероятности 1 % (то есть вероятность того, что такой результат был получен случайно, составляет 0,01). Доля отгадавших контрольную картинку увеличилась лишь на 9 %, что статистически незначимо.
Очевидное возражение здесь может быть таково: некоторые из субъектов, тестируемых после передачи по телевидению, могли видеть ответ к рис. 2, несмотря на меры, принятые, чтобы исключить кого-либо, кто видел эту программу или кому ответ мог быть подсказан кем-либо еще. Более того, если кто-нибудь из экспериментаторов видел эту программу, они могли влиять на испытуемых с помощью тонких намеков или могли быть пристрастными в своих оценках результатов. Такие возражения имеют силу в отношении данных из Англии и Ирландии, где транслировалась телепрограмма. Однако, если данные из Англии и Ирландии исключаются, результаты из оставшихся стран все равно демонстрируют увеличение процента людей, отгадавших рис. 2; действительно, этот процент увеличился почти втрое (см. таблицу 1). Это увеличение статистически значимо на уровне вероятности в 1 %. Опять-таки контроль показал гораздо меньшее увеличение (22 %), которое статистически незначимо.
Никто из экспериментаторов, а также испытуемые вне Британских островов не видели телепередачу и не знали о том, какая из картинок будет показана по телевидению. Так что для этих результатов не могут выдвигаться возражения, справедливые для экспериментов, проводившихся на Британских островах. Конечно, можно предположить, что в других странах экспериментаторы или кто-либо из испытуемых узнали, какая картинка была показана, например позвонив кому-либо из знакомых в Британии; но все экспериментаторы вне Британских островов сообщили мне, что они не знали ответ, и мне кажется очень маловероятным, что здесь мог быть вольный или невольный обман.
Очевидно, что этот эксперимент можно рассматривать лишь как предварительный, и положительные результаты можно объяснить влиянием других факторов, а не только морфического резонанса. Тем не менее итоги можно считать достаточно обнадеживающими, так что такой эксперимент кажется разумным провести в более широком масштабе.
Я очень благодарен экспериментаторам, собиравшим данные: без них этот тест был бы невозможен. Если его повторять в большем масштабе, понадобится больше экспериментаторов по всему миру…
Я благодарен д-ру Нику Хамфри и д-ру Патрику Бэйтсону за плодотворные обсуждения постановки экспериментов и их результатов.
Второй эксперимент (с использованием картинок-загадок) только что закончен; он проводился с помощью Джека Вебера, продюсера программы Би-Би-Си «Завтрашний мир» («Tomorrow's World»), и с участием более сотни добровольных экспериментаторов, многие из которых написали мне после того, как прочитали о предыдущем эксперименте в «Нью Сайентист». Результаты второго эксперимента описаны ниже.
Эксперимент со скрытым изображением на телевидении Би-Би-СиЭксперимент по проверке гипотезы формативной причинности был проведен в сотрудничестве с Би-Би-Си в ноябре 1984 года. Постановка была такой же, как и в предыдущем случае, и включала две картинки, содержащие скрытые изображения. Эти картинки были посланы экспериментаторам по всему миру, и они тестировали группы людей, чтобы выяснить, какая часть из данной группы правильно угадала скрытое изображение, при этом картинка была им показана на 30 секунд. Такие тесты проводились в течение 5 дней до телепередачи и на других испытуемых в течение 5 дней после передачи. В программе «Завтрашний мир» восьми миллионам зрителей показали одно из скрытых изображений, а затем был показан ответ. После того как зрители научились узнавать скрытый образ, им показывали его снова. Цель эксперимента заключалась в том, чтобы выяснить, стало ли после этого легче узнавать скрытое изображение другим людям в других частях света, где они не могли видеть передачу Би-Би-Си.
Экспериментаторам сказали, что передача будет либо 8, либо 15 ноября и что картинку, которая будет показана, будут выбирать наугад. Некоторых просили провести эксперимент до и после 8 ноября, а других до и после 15 ноября. На самом деле передача была 15 ноября, а тесты около 8 ноября служили контролем. Картинка, выбранная наугад в телепередаче, была рис. 1 (ковбой на лошади), а рис.2 (танцующая пара) служил контрольным.
Тесты проводились в 121 месте, и всего в них участвовало 6265 человек.
Результаты оказались удивительными: они показали странное расхождение между Европой и Северной Америкой. Положительный эффект был получен в Европе (Финляндия, Франция, Германия, Италия, Швеция, Швейцария и Югославия), где суммарное увеличение доли угадавших рис. 1 составляло 32 %. С рис. 2 увеличения практически не было.
В Южном полушарии (Австралия, Новая Зеландия и Южная Африка) был получен общий положительный эффект с увеличением доли участников, отгадавших рис. 2, но это увеличение не было статистически значимо.
В Северной Америке (Канада и США) вообще не было сколько-нибудь значительного эффекта.
Расхождение между Европой и Северной Америкой весьма загадочно. Я не могу ожидать, что действие морфического резонанса зависит от расстояния. Одно из возможных объяснений мне предложил Ник Хамфри: возможно, что в Европе, где разница во времени с Англией всего один час, люди были более «в фазе» с аудиторией британского телевидения, чем люди в Америке, где разница во времени составляет 5–8 часов. Важно выяснить, очевидно, воспроизводим ли этот эффект.
В контрольном тесте, проводившемся до и после 8 ноября (эти тесты проводились только в Америке), было некоторое увеличение процента участников, отгадавших рис. 1, но оно не было статистически значимым.
Обобщенные данные показаны в таблице 2. Ясно, что такой эксперимент нужно повторить, и следующий тест, с другими картинками, на самом деле планируется в Германии. Передача ответа на одну из картинок будет сделана для 6 миллионов зрителей северогерманским телевидением (Norddeutscher Rundfunk). Тесты «до» и «после» будут проведены в континентальной Европе вне поля вещания этого телевидения, а также на Британских островах и в Северной Америке.
Я благодарен д-ру Нику Хамфри и д-ру Иеремии Черфасу за помощь в организации экспериментов и анализе результатов.
Март, 1985
Тэрритаунский приз был присужден в июне 1986 года. Детали этого эксперимента описаны в моей последней книге «Присутствие Прошлого» (Collins, 1988).
Таблица 1. Как передача повлияла на результаты
Приводится количество участников эксперимента, видевших скрытые образы на рис. 1 и 2 до и после показа рис. 2 по телевидению. Данные из семи участков в Британии и Ирландии (Кембридж, Дублин, Эдинбург, Лондон, Ньюарк, Норвич и Оксфорд) и семи участков в других странах (Давос, Швейцария; Лукка, Италия; Кейптаун и Стелленбош, Южная Африка; Санта Мария, Колумбия; Канзас Сити, Миссури и Пэлм Бич, Флорида, США).

Таблица 2. Результаты эксперимента со скрытым изображением

Послесловие
Выход в свет книги Руперта Шелдрейка на русском языке кажется нам событием значительным, во всяком случае для тех российских читателей, кто неравнодушен к проблемам перестройки научного мировоззрения и не удовлетворен традиционной материалистической идеологией в современном естествознании вообще и в биологической науке в особенности. Потому что, как очевидно из содержания книги, она являет собой попытку предложить альтернативу ортодоксальному, или, как его называет Шелдрейк, «механистическому», подходу в биологии. С нашей точки зрения, наиболее важными в гипотезе Шелдрейка являются два момента: во-первых, утверждение о реальности действия высших причин на уровне физических явлений и, во-вторых, предложения конкретных экспериментов для проверки этого утверждения. Заслуживает внимания прежде всего сама идея о существовании высших причин как антитеза традиционной научной идеологии, которая в принципе такие причины отрицает и все явления стремится объяснять «снизу», через свойства и взаимодействия элементов вещества – атомов, молекул, клеток и т. д.
Мы не беремся сейчас анализировать концепцию Шелдрейка с философских и историко-научных позиций. Возможно, такой анализ найдет свое место в трудах будущих исследователей. Заметим только, что, на наш взгляд, уровень изложения, логика, тщательность и объективность рассмотрения проблем свидетельствуют о весьма широком кругозоре и высокой научной эрудиции автора. Несомненно, что мы имеем дело с ученым, обладающим большим опытом и глубокими знаниями в своей специальной области (как следует из его биографии – в биохимии и физиологии растений) и одновременно хорошо осведомленным как в общебиологических вопросах, так и во многих смежных областях. Высокий уровень автора как ученого выделяет его концепцию среди многих подобных попыток, сделанных за последние десятилетия; и это же явилось главной причиной того, что его «Новая наука о жизни» привлекла к себе внимание западной читающей публики.
Несомненно также, что Шелдрейк не только большой ученый, но и весьма достойный человек, способный отстаивать свои убеждения в самых разных, в том числе критически настроенных, аудиториях. Всякий, кто пытался выступать с идеями, противоречащими общепринятому мнению в данной области науки, хорошо знает, сколько мужества и силы воли требуется для того, чтобы защищать свои позиции, какие удары порой приходится испытывать и от ближайших коллег, и от более далеких оппонентов. Чем сильнее потрясает основы новая идея, тем большее сопротивление она встречает. Более 20 лет назад, в начале 80-х годов теперь уже прошлого века, когда Шелдрейк впервые выступил со своей гипотезой формативной причинности, ортодоксальная механистическая идеология в биологии была очень сильна, особенно в тех направлениях, которые занимались исследованием механизмов биологических процессов на молекулярном и клеточном уровнях – в биохимии, биофизике, молекулярной биологии, молекулярной генетике. Многие свидетельства тех лет, в том числе и наш собственный опыт работы в области биофизики мембран, говорят о том, что механистический подход являлся тогда не только господствующей идеологией. Фактически, в официальной науке он фигурировал как единственно возможный. Живые организмы рассматривались исключительно как физико-химические машины, и считалось, что все биологические явления в принципе могут быть объяснены только на языке физики и химии. Отсюда вытекал подход к исследованию – объяснение свойств живого организма или его части через свойства составляющих их элементов вещества: клеток, мембран, молекул и т. д. – с соответствующей постановкой задачи, методами, способами анализа и интерпретации результатов. Только такой путь и считался научным. Иначе говоря, ставился более или менее явный знак равенства между механистическим подходом и наукой как таковой.
Можно себе представить, как нелегко было Шелдрейку решиться на столь революционный шаг, как выдвижение концепции определенно антимеханистического содержания с неизбежной при этом критикой идеологических основ механистического подхода. Но убежденность в своей правоте и желание сказать новое слово истины в науке были, вероятно, сильнее всех опасений.
«Новая наука о жизни» была опубликована впервые в Англии в 1981 году. Выход ее в свет вызвал волну возмущения и протестов со стороны ортодоксально мыслящих ученых, с особенно резкими нападками выступил влиятельный американский журнал «Нейчур». В то же время автор получил поддержку достаточно известного научно-популярного журнала «Нью Сайентист». Развернулась полемика в печати, на радио и телевидении; были объявлены конкурсы на лучшие эксперименты, позволяющие проверить гипотезу Шелдрейка; отобранные эксперименты использовались для таких проверок на телевидении разных стран.
Бурная реакция на книгу Шелдрейка принесла ему (как он пишет, неожиданно для него самого) огромную популярность и немало способствовала распространению его идей как в научном мире, так и среди широкой читательской аудитории. «Новая наука о жизни» выдержала несколько изданий и была переведена на ряд европейских и японский языки. Русский перевод сделан со второго английского издания (1985 г.), в которое кроме текста первого издания вошло также приложение, содержащее материалы дискуссий, комментарии в прессе, а также описания и результаты некоторых экспериментов, поставленных для проверки его гипотезы. Основное содержание книги (введение и двенадцать глав) в нашем переводе с небольшими сокращениями ранее было опубликовано в журнале «Дельфис» (2002–2004 гг.). В настоящем издании даны полный текст автора и приложение. Так что наш читатель может познакомиться не только с концепцией автора, но и с реакцией на нее западной, главным образом английской и американской, публики.
После «Новой науки о жизни» Шелдрейк выпустил еще несколько книг [1–4], причем каждая из них выдержала не одно издание. Кроме того, за последние 10 лет вышло еще 4 книги [5–8], в которых он является соавтором. Все эти работы посвящены углублению и развитию тех или иных аспектов гипотезы формативной причинности, а также обсуждению возможностей объяснения с ее помощью различных явлений природы, особенностей поведения живых существ, загадок человеческой психики и интеллекта, духовных устремлений человека, жизни человеческих сообществ, космических явлений. В последние годы идеи Шелдрейка распространяются и самыми современными средствами: у него есть сайт в Интернете, выпускается множество аудио– и видеокассет, в которых в популярной форме излагаются те или иные аспекты его теории.
Насколько можно судить по литературе, за время, прошедшее после опубликования первой книги Шелдрейка, интерес к его гипотезе не угас; напротив, она приобрела многих сторонников или сочувствующих ей как из числа ученых, так и среди читателей, занятых в других областях. Можно сказать, что сейчас речь идет уже не столько о концепции жизни, выдвинутой одним из зарубежных ученых, сколько о направлении западной научной мысли, опирающемся на гипотезу Шелдрейка. Это направление предлагает свои объяснения многих явлений, принципиально отличные от тех, которые дает официальная наука, а кроме того, способно указать причины и таких явлений, которые вообще не поддаются объяснению с позиций официальной научной парадигмы.
Таким образом, публикация «Новой науки о жизни», в которой излагается существо гипотезы формативной причинности, в какой-то степени восполняет существенный, на наш взгляд, пробел в представлениях российских читателей о попытках западных ученых выйти за рамки механистических представлений, до сих пор активно действующих в области наук о живом. Разумеется, сейчас эта книга будет восприниматься нашим читателем иначе, чем если бы она вышла 15–20 лет назад. Заметим, что тогда ее публикация на русском языке была бы просто невозможна в силу давления механистической идеологии и, соответственно, официальной научной цензуры. За последние 20 лет развитие в нашей стране неортодоксальных теорий, в том числе и в биологии, а также появление ряда экспериментальных данных, в особенности в области исследований сверхслабых излучений биологических объектов и действия сверхмалых доз веществ и излучений, немало способствовали укреплению позиций не механистически мыслящих ученых. Несомненно, что работы по неортодоксальным направлениям в науке развиваются все более активно и интерес к таким направлениям явно возрастает. Об этом свидетельствуют, например, рост числа соответствующих публикаций, а также «параллельных» семинаров и конференций, стремительное расширение круга их участников и слушателей. Именно здесь, как мы полагаем, идет основная работа по формированию нового научного мировоззрения, которое со временем преодолеет рамки узкоматериалистических представлений.
Ясно, однако, что на сегодняшний день позиции неортодоксальной науки у нас еще не столь сильны, чтобы можно было говорить о реальной альтернативе механистическому подходу. И каждый весомый вклад в построение основ новой науки является ценным приобретением для российского читателя. Таким вкладом, несомненно, является книга Шелдрейка.
Разумеется, это не значит, что мы видим в ней одни достоинства, что в ней не может быть спорных утверждений и она не может быть подвергнута критике как по основным позициям, так и по тем или иным частным вопросам. Но при этом нам кажется важным иметь в виду, что, во-первых, всем нам свойственно ошибаться, особенно когда мы отрываемся от привычного «якоря» все еще господствующего механистического подхода и пытаемся объяснять явления, исходя из более объемных представлений. И во-вторых, критика оправдана, если она продвигает нас вперед, к лучшему, более полному пониманию, к устранению противоречий, к отысканию более строгих аргументов, позволяющих закрепить то, что уже удалось понять, и найти лучшие способы проверки новых предположений.
Именно в таком ключе и следует рассматривать критические соображения по содержанию книги Шелдрейка, которые высказываются в следующем разделе.