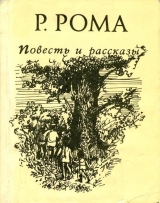
Текст книги "Повесть и рассказы"
Автор книги: Руфь Рома
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 11 страниц)
Уже взрослым человеком он встретил на Невском знаменитого профессора Ланга, который лечил его когда-то и считал безнадежным.
– Неужели это вы? – с удивлением спросил старый профессор и, не удержавшись, добавил: – Неужели живы?
Аркадий был не только жив, он кончал в то время театральный институт, женился, чувствовал себя здоровым, был полон надежд, уже сыграл в театре при Эрмитаже роль глухонемого слуги в опере «Служанка-госпожа» Перголези, уже его учитель Владимир Николаевич Соловьев ждал от него многого и прочил ему большое будущее.
Жизнь продолжалась.
1974
2. КАК РАЙКИН БЫЛ ОФИЦИАНТОМОднажды, когда готовилась программа «Любовь и три апельсина», Райкин пришел в гостиницу «Астория» к писателям Массу и Червинскому, и они сразу же заспорили о будущем спектакле. В этом споре они затронули тему актерского перевоплощения: Райкин должен был играть, как всегда, несколько ролей. Пока они спорили, дверь осторожно приоткрылась, и вошел официант Николай Иванович – пора было обедать.
Тогда Владимир Захарович Масс, сощурив хитроватые веселые глаза, шутливо сказал:
– Аркадий, а вы могли бы сыграть официанта?
– Конечно, – ответил Аркадий.
– Нет, не на сцене, а в жизни.
– Конечно, смог бы, – так же шутя повторил Райкин.
Неожиданно для всех официант снял свой белый форменный пиджак и сказал:
– Пожалуйста, попробуйте…
Райкин охотно надел пиджак, нащупал в кармане штопор и открывалку, перекинул через локоть салфетку, расчесал волосы на прямой пробор, выпустил на лоб черный чубик, чуть-чуть задрал брюки и, подойдя к зеркалу, стал себя разглядывать. По мере того как он всматривался в свое странное отражение, ощущение легкой шутки прошло, и его охватила тревожная неуверенность.
«Что же это я делаю? – думал он. – Ведь в театре, приподнятый над зрителем на полтора метра, я живу условной жизнью. Зритель верит мне лишь в условности театра. Но, играя не на сцене, я должен быть достоверным безусловно. Я должен быть безусловно профессиональным официантом, точным до мельчайших деталей. А если меня видели по телевизору или на сцене? И вдруг узнают? Я буду выглядеть просто идиотом».
Он стал лихорадочно вспоминать официантов, которые его обслуживали, их характерную походку, ловкие движения, обычные вопросы. Он оглянулся. Все молча смотрели на него. Отступать было поздно, и он взялся за ручку двери. В коридоре Николай Иванович, посмеиваясь, дал Райкину меню и назвал номер, который надо было обслужить.
Аркадий бодро проследовал по коридору, остановился у нужной двери и, хотя очень хотел повернуть обратно, все-таки заставил себя постучаться. Послышалось: «Войдите».
Он сжал кулаки, чтобы успокоиться, потом решительно вошел, поздоровался, стал кончиком салфетки сбивать со скатерти крошки, поставил на стол прибор с солью, перцем и горчицей. Больше делать было нечего, и он остановился у стола в почтительной позе.
На диване сидели две пожилые дамы, живописно освещенные заоконным солнцем. Райкин протянул им меню, что-то посоветовал, чего-то не посоветовал. Они были увлечены беседой, обед заказывали небрежно. Правда, одна из них, сначала скользнув по его лицу безразличными глазами, сразу снова посмотрела на него, на этот раз с интересом.
Его бросило в жар… Но через секунду глаза старой дамы потухли, и она о чем-то тихо заговорила со своей подругой. Да, они его не узнали… А возможно, им и в голову не пришло, что это Райкин, – могучая формула «этого не может быть» взяла верх.
Он принял заказ, не торопясь, с достоинством вышел и только в коридоре перевел дух. Там его уже ждали с веселым любопытством оба автора и официант, который сразу убежал на кухню заказывать обед. Масс и Червинский с Аркадием вернулись в номер.
– Ну как? Кто там был? Узнали вас?
– Было очень страшно, – ответил Райкин. – Я весь дрожал.
Пока он рассказывал, официант сбегал на кухню и снова вернулся.
– Аркадий Исаакович, – сказал он, входя, – раз начали, давайте уж и несите обед, а то мне придется объяснять, что вы с лестницы свалились.
Он дал Райкину тяжелый поднос с обедом, и тот снова очутился в номере у двух пожилых дам.
Аккуратно разложив приборы и салфеточки, он разлил по тарелкам первое, прикрыл крышками второе, откупорил минеральную воду, забрал с окна пустую бутылку из-под кефира, поставил на стол хлеб, спросил, не надо ли чего еще, получил отрицательный ответ: «Спасибо, голубчик, не надо», – и вышел.
На этот раз он чувствовал себя более уверенным. «Кажется, все в порядке», – подумал он.
В коридоре у двери стояли уже трое официантов.
Странный поступок Райкина был для них развлечением. Они весело улыбались и переглядывались.
– Не хотите ли еще один номер обслужить? – спросил Николай Иванович и оглядел присутствующих, как бы присоединяя их к своей просьбе.
На Райкине еще был надет пиджак официанта, в котором звенели штопор и открывалка. Все сошло благополучно, и он расхрабрился.
– Давайте попробую. Ведь кое-чему я уже научился.
Во втором номере все было иначе. По комнате ходил высокий полный человек восточного типа. Когда вошел официант, человек остановился, удивленно и внимательно посмотрел на вошедшего черными гипнотическими глазами. Толстые брови его приподнялись, усы под круто загнутым носом зашевелились.
«Э-э-э, – подумал Райкин, с трудом сохраняя невозмутимый вид, – здесь будет труднее…» – и сразу оробел, но взял себя в руки.
– Вы меня вызывали? – спросил он, как Мефистофель у Фауста, и подошел к столу самой независимой походкой, на которую был способен в эту минуту.
– Вас? – переспросил клиент и сел за стол, не сводя изумленных глаз с бледного райкинского лица.
Между тем Райкин, все время чувствуя на себе пристальный взгляд, проделал те же пассы, что и в предыдущем номере: смахнул салфеткой со скатерти, хотя на столе и так было чисто, установил посредине поставец с солью, перцем и горчицей, взял с пола у батареи пустые бутылки из-под боржоми и одну из-под сухого вина.
Усатый неподвижно сидел за столом и провожал каждое движение официанта своими яркими медленными глазами.
– Что будете заказывать? – обмирая, спросил Аркадий, и ему показалось, что слова его застряли в глотке.
Человек молчал.
Райкин откашлялся и повторил свой вопрос, протягивая меню.
– Простите, дорогой, но вам никто не говорил, что вы поразительно похожи на…
– Да, говорили, говорили, как же. Меня здесь все так и называют.
Человек смотрел серьезно, недоверчиво и не давал бедному «официанту» ни секунды передышки.
– Но голос, голос! Это удивительно! Скажите, дорогой, а вы сами его видели? – спросил незнакомец, продолжая как бы ощупывать лицо Райкина цепким взглядом слегка прищуренных глаз.
– Нет, на сцене не видел никогда, – ответил Райкин и сказал сущую правду. – Нет никакой возможности, – добавил он и тоже не солгал.
– Обязательно посмотрите, обязательно!
– Постараюсь, – ответил Райкин и пошел к двери, чтобы скрыть неуместную улыбку: он все время чувствовал на себе сверлящий спину острый взгляд усатого клиента.
Потом он принес заказанный обед, и усатый снова завел свою волынку про сходство:
– Вы себе представить не можете, как вы на него похожи! И черные волосы, и седая прядь, и глаза, и выражение лица, и голос у него такой своеобразный, и у вас, понимаете, тоже…
Райкин заметил, что переминается с ноги на ногу, как в школе у доски, когда плохо выучен урок, – такое далекое воспоминание вдруг промелькнуло у него в голове.
Наконец клиент опустил глаза в тарелку и с выражением голодного нетерпения стал резать бифштекс.
Райкин понял, что победил, быстро повернулся, чтобы уйти, но голос за спиной остановил его.
– Дорогой, давайте рассчитаемся, а то я спешу. – Он рассчитался, щедро дал «на чай» и добавил: – Вот вам еще деньги на два билета, обязательно пойдите посмотрите, я вас уверяю, дорогой, просто со стула упадете, когда увидите.
– Спасибо, – ответил Райкин, – денег мне не надо. Я обещаю вам, что обязательно буду на первом же представлении.
И опять он был честен и сказал правду.
В коридоре Райкина ждали все официанты и оба писателя.
Молча отдал он пиджак с открывалкой, штопором и деньгами.
Только в номере у Масса и Червинского он смог произнести:
– Это была просто пытка.
На другой день вечером на спектакле, привычно распахнув занавес, Райкин быстро вышел на авансцену, начал говорить, но, как бы поперхнувшись, на секунду остановился, снова взял дыхание и продолжал свой монолог.
В первом ряду он сразу увидел знакомые усы и пристальные черные глаза. Его вчерашний клиент сидел, скрестив руки на груди, и смотрел на него, не мигая.
Весь спектакль Аркадий старался, чтобы взгляды их не встретились. Предупрежденные актеры прильнули к дырочкам и щелкам, следя за этой дуэлью.
На последнем поклоне Райкин не выдержал и, так же пристально глядя в глаза усатому, заговорщицки крепко ему подмигнул, отчего тот откинулся на спинку стула, открыл рот, вскочил, стал что-то быстро рассказывать своим соседям, и те, в свою очередь, уставились на Райкина.
А зрители так и не поняли, почему артист вдруг подмигнул и засмеялся.
Вот какой был странный случай.
1974
ТОГДА, В СОРОК ТРЕТЬЕМ
Из записок актрисы
1
Крым был сдан. Флот базировался в небольших портах Черноморского побережья Кавказа. Моряки смеялись редко.
Наш театр уже около месяца играл на кораблях, на базах подплава, на береговых батареях, в госпиталях и для 18-й армии, пришедшей через горы на помощь морякам. Это был передовой рубеж обороны Кавказа. В Новороссийске стояли немцы.
Тяжелая береговая батарея, где мы жили в подземных блиндажах вместе с моряками, находилась в поселке Фальшивый Геленджик, в двенадцати километрах от Новороссийска. Возвращаясь ночью в блиндаж, моряки снимали обувь, чтобы нас не будить. Мы поступали так же после дальних поздних концертов.
Много интересного можно рассказать об этом грозном времени. Я расскажу одну историю, похожую на выдумку, но это правда, это действительно было.
Однажды артиста Аркадия Райкина вызвал к себе адмирал Холостяков.
– У меня к вам есть просьба, – сказал он, – именно просьба, потому что приказать вам я не могу, вы не военный, а это, по существу, боевое задание, связанное с опасностью для жизни. Откажетесь – не упрекну, ваше право. Выполните – сделаете нужное дело. Будем вам благодарны.
– Я слушаю вас, товарищ адмирал, – сказал Райкин.
– Необходимо обслужить две батареи тяжелой артиллерии, расположенные под Новороссийском. Люди на батареях – герои. Отлучиться не имеют возможности. Приглашают вас в гости. Попробуйте их рассмешить. Ехать к ним придется ночью. Дорога простреливается. Людей с собой можно взять самых необходимых – человек пять, не больше.
– Поедем, товарищ адмирал, – сказал Райкин.
– Спасибо, – ответил адмирал.
Когда артисты узнали о задании адмирала, начался бунт. Все захотели ехать. В споре прошла половина ночи. Выехали на нашем желто-голубом автобусе в двенадцать часов дня, при ярком солнце.
Оба концерта прошли хорошо. Райкин был в ударе, и моряки хохотали вовсю. Потом в блиндаже зазвучал хриплый детский голосок – это была Рина Зеленая. После нее начали танцевать Мирзоянц и Резцов. Наш пианист, о котором речь будет ниже, играл на аккордеоне. Вдруг раздался противный вой, и глухой взрыв потряс воздух. Обстрел! Каждый раз, когда выл пролетающий снаряд, аккордеон, растянутый судорожным движением, испускал резкий, истерический вопль. Никто не обвинял музыканта. У всех были напряженные лица и сосредоточенные глаза. А танцоры продолжали плясать с застывшими улыбками, сами подпевая себе негромкими прерывистыми голосами. Когда танец кончился, командир сказал:
– Артисты, в машину! Быстро. Спасибо, братцы! Уезжайте, сейчас мы им ответим, заткнем глотки.
Мы уехали, благополучно проскочили опасные места.
На следующий день пианист подошел ко мне.
– Хочу с тобой поговорить, – сказал он.
Это был прекрасный аккомпаниатор, образованный музыкант и композитор. Специально для того, чтобы поехать с театром, он научился играть на аккордеоне: во фронтовых условиях это было необходимо. К сожалению, он любил выпить; долго, неделями крепился, а потом вдруг страшно напивался, но никогда не срывал концерта, потому что обладал странным свойством, повергавшим нас в величайшее изумление: стоило ему сесть за рояль, иногда даже с чужой помощью, как пальцы его снова приобретали гибкость и железную твердость. Он играл, будто ничего не случилось. Музыка привязывала его к роялю неразрывными, невидимыми нитями. Как только кончался концерт, он валился со стула. Его уносили спать. Добавлю еще, что человек этот никогда не опаздывал, был хорошим товарищем, и мы его любили.
– Пойдем, – сказал он мне, и мы пошли к морю через кусты держидерева.
Был утомительный солнечный день. В траве, в кустах что-то трещало, посвистывало, хрустело. Далеко внизу, под обрывом, волны по-кошачьи играли с прибрежной галькой. Пианист молчал. Лицо его, обычно добродушное и улыбчатое, было серьезным, нахмуренным, а в глубине маленьких, заплывших глаз я заметила какое-то смущение и уклончивость.
– Вот что, – начал он. – Разговор серьезный, без шуток. Я уже пытался говорить с Аркадием, он меня не слушает и смеется. – Помолчав немного, он спросил: – Скажи, тебе очень хочется, чтобы он стал калекой?
– Я не понимаю вопроса.
– А ты думаешь, что этого не может случиться? Почему мы здесь столько времени? Зачем испытываем судьбу? Мы не солдаты. Ты должна его уговорить, чтобы мы отсюда уехали, поняла? Ну пойми, кому он будет нужен, если останется без руки или без ноги? А если погибнет? У тебя ребенок.
– Не пугай меня.
– Уговори его, чтобы мы отсюда уехали. Хватит. Я, например, вообще невоеннообязанный.
– Ну и уезжай!
– Как я уеду? Не могу же я вас подвести.
– Вот видишь? Раз не можешь, не надо об этом и думать. Вместе приехали, вместе и уедем.
– Зря я с тобой говорил. И с ним зря.
Он стал смотреть на море. Там вертелись и кувыркались дельфины.
– Послушай, – сказала я ему, – ты очень хороший и смелый человек. Что это на тебя нашло после вчерашнего концерта? Мне тоже было очень страшно. Всем было страшно. Но подумай, кем был бы Аркадий, если бы он вдруг пришел к командующему и сказал: «Здесь очень страшно, здесь стреляют, пустите меня лучше в Москву…»? Что ты мне советуешь? Ты же специально учился играть на аккордеоне, чтобы ехать с нами на фронт! А почему ты вчера больше всех кричал, что хочешь ехать на батарею?
– Ну ладно, – сказал пианист. – Считай, что этого разговора не было.
Он вытащил из кармана большой холостяцкий носовой платок. Посыпались крошки, бумажки, огрызок карандаша. Нагнулся за карандашом, уронил очки. Потом стал шарить в траве, пытаясь их найти. Когда мы с ним вместе искали очки – без них он таращил глаза и плохо видел, – я вдруг вспомнила одну иранскую сказку.
– Однажды к иранскому шаху, – начала я, – прибежал первый визирь и сказал: «Разреши мне взять твоего лучшего коня, мне срочно нужно бежать из Тегерана в Мешхед». – «Что случилось?» – спросил шах. «Я вышел в сад и увидел на скамейке Смерть. Она сердито на меня посмотрела». – «Скачи», – ответил шах, и визирь ускакал в Мешхед. А шах пошел в сад взглянуть, правда ли, что там сидит Смерть. Она действительно сидела на скамье под деревом, даже улыбалась и смотрела на шаха. «Скажи мне, Смерть, – спросил шах, – почему ты, глядя на меня, улыбаешься, а на моего визиря смотрела сердито?» – «А как же я могу смотреть на твоего визиря, – ответила Смерть, – если он у меня по спискам числится в Мешхеде, а сам все время в Тегеране вертится?»
Тут как раз блеснули очки. Они повисли на толстом сучке держидерева. Музыкант надел их, посмотрел на меня искоса сквозь толстые стекла, потом завязал на платке четыре узла по углам и натянул его на голову:
– Жарко, боюсь, голову напечет.
Навстречу нам шел Аркадий.
– Где вы были? – спросил он. – Я искал вас.
– У моря. Сказки рассказывали, – ответил пианист.
Больше об этом разговоре мы не вспоминали. Через месяц нас вызвали в Москву. Пианист был москвичом и с волнением ожидал возвращения в город, где у него в комнате стоял, как он говорил, «родной рояль».
Вечером на следующий день после приезда в Москву мы все собрались на премьеру в Эрмитаже. Пианиста не было. Никто не волновался, все знали его аккуратность, что он точен и будет с минуты на минуту. Но когда к третьему звонку он не появился, начали волноваться. Пришлось задержать спектакль и вызвать другого пианиста. Мы забеспокоились, не случилось ли несчастья. Оно случилось. На следующий день мы узнали, что наш товарищ в первый же вечер в Москве попал под трамвай и погиб.
2
Был такой странный период нашего пребывания на фронте, когда мы все время опаздывали к своей смерти. Это звучит непонятно и требует разъяснения.
Дело в том, что нас всегда очень ждали в частях армии и флота, поэтому было составлено четкое расписание наших переездов и спектаклей. Но однажды, когда мы спешили в тот же самый Фальшивый Геленджик, где должны были остановиться в специально приготовленном здании небольшого санатория, нас на Михайловском перевале задержала пурга.
Мокрые хлопья снега шмякались об автобус. Мы поминутно вылезали, чтобы толкать его то туда, то сюда. Колеса, плавая в месиве, буксовали, мотор натужно выл, шофер тихо и разнообразно матерился. Наконец он заглушил мотор и сказал:
– Все… Не поеду… Нельзя.
Сопровождавший нас молодой морской офицер требовал, чтобы шофер сел за баранку, но тот упорно отказывался.
– Без цепей нельзя, – говорил он спокойно, хотя офицер настаивал, кричал, даже делал вид, что берется за оружие. – Ну что вы грозитесь? – лениво сердился шофер. – Без цепей вниз ехать нельзя: спуск крутой. Поедем на стоячих колесах. Я же всем артистам шеи посворачиваю.
– Мы должны быть в двадцать один ноль-ноль там. Кровь из носу.
– Будем. Не спешите. В ноль-ноль. А крови из носу – этого я не допущу. И кверху колесами ездить я не привык.
– Вы слышите? – вмешался Аркадий. – Василий Иванович не привык ездить кверху колесами. По правде сказать, я тоже. Это все-таки аргумент.
– Но там для всего театра ужин приготовлен. Начальник приказал прибыть вовремя. Ужин же остынет, – горевал провожающий.
– Главное, чтобы было кому есть ужин. Переждем до утра погоду. Можно и утром поужинать.
Рассвело сразу, как всегда на юге. Яркое солнце быстро растопило снег, и автобус осторожно, как бы нюхая крутую влажную дорогу, стал спускаться на ту сторону Михайловского перевала.
Оказалось, что, пока мы стояли на горе, ночью был налет на Геленджик и дом, приготовленный для нашего ночлега, начисто снесло вражеской бомбой.
Из-за этого опоздания все наше расписание передвинулось, и мы также «опоздали» к выступлению на передовой – Кабардинке, где днем снаряд попал в эстраду, на которой мы должны были в это время играть спектакль.
В тот день, о котором я хочу рассказать, мы выступали на Черноморской базе подплава.
Спектакль шел вяло. Райкин, как всегда, играл в полную силу, но подводники сидели тихо, мало смеялись, было молчаливы и подавленны. Мы искали причину такой непривычной реакции, считали, что, очевидно, играем хуже, стали «нажимать», на ходу перестраивать программу. Ничего не помогало. К концу спектакля в зале возник какой-то шумок, движение, кто-то вышел из задних рядов, потом, пригнувшись, начали выходить и из передних.
Огорченные, мы закончили спектакль, не понимая, в чем дело.
Внезапно за кулисы вбежал молодой матрос. Лицо его сияло.
– Ребята! – закричал он нам с порога. – Лодка вернулась! А мы их уже было похоронили, можно сказать, оплакали. Четверо суток ни слуху ни духу. А они вернулись! Живые! Целые!
Мы, не разгримировавшись, как были, выбежали к морю. Там моряки молча обнимали, передавая из рук в руки, своих вернувшихся товарищей. Одного быстро пронесли на носилках.
Мы были потрясены этим зрелищем и стояли кучкой, еле сдерживая слезы.
Начальник базы подплава, крупный, полный человек, фамилия его была, по-моему, Гус, подошел к нам.
– Товарищи, – сказал он, – вот у нас какая радость! Под водой чинили лодку, на последнем дыхании. Ну, это ж молодцы! Потопили два вражеских транспорта, а потом и их зацепило глубинной бомбой. К вам, товарищ Райкин, и ко всем вам просьба, товарищи: сыграйте им снова. Для них. Сейчас они побреются, чаю выпьют, а? Хотят смотреть. Да и мы все еще раз посмотрим. Ведь, по правде сказать, нам глаза застило. Не до того было.
Мы побежали за кулисы, чтобы снова начать спектакль.
Зал быстро заполнился, и все стали терпеливо ждать прихода товарищей. Они вошли один за другим, смущенные и улыбающиеся.
– Ура-а-а-а! – стоя, кричала наша публика. И мы кричали тоже.
Что это был за спектакль! Что за радость была играть его!
В первом ряду сидела команда вернувшейся подлодки. Изжелта-бледные матросы хохотали, и с ними хохотал, качаясь, весь зал.
А Райкин вспоминал все новые и новые свои сценки, монологи, песенки, стараясь развеселить людей, которые победили смерть.
1968










