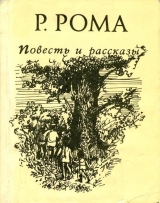
Текст книги "Повесть и рассказы"
Автор книги: Руфь Рома
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 11 страниц)
СКАЗКА ВЕРОЧКИНОЙ МАМЫ
Верочкина мама всегда страдала отсутствием воображения.
– Я с тобой скоро с ума сойду! – говорила она Верочке, когда надо было придумывать очередную сказку.
– Нет, ты не скоро сойдешь с ума, – успокаивала Верочка, присаживаясь на маленькую скамеечку у маминого чертежного стола.
Верочкина мама была чертежница и работала в конструкторском бюро. Иногда она брала работу на дом.
– Ну, откуда я тебе возьму сказку? – жалобно спрашивала Верочкина мама, прикалывая бумагу к чертежной доске.
– Из головы, – твердо отвечала Верочка.
– У меня уже от этих сказок голова пухнет.
– Не выдумывай! – строго говорила Верочка и придвигалась на своей скамеечке к самой маминой ноге.
– Ну про что тебе рассказать?
– Расскажи про зайчика.
– Ну тогда слушай. Жила была одна зайчиха. Она была уже немолодая зайчиха. Шерсть у нее потускнела, хвостик повис и глаза уже видели не очень хорошо. В молодости она была веселая и хорошая, а к старости стала сердитая и завистливая. Если бы она рассказывала молодым зайчикам сказки, помогала бы им, учила бы их, они бы ее любили, а она только все время сердилась на молодых за то, что они молодые.
Вот однажды эта зайчиха…
– Ну? – спросила Верочка.
– Не туда провела линию…
– Какую линию?
– Нет, это я неправильно линию провела из-за твоих зайцев.
– Ну и что эта зайчиха?
– А эта зайчиха пришла однажды в гости к одному зайчику с белым пятном на голове и сказала ему: «Я к вам очень хорошо отношусь, и я вам вот что скажу: вы знаете худенькую зайчиху, у которой трое зайчат? Она живет на Криволодыженском переулке?» – «Знаю», – сказал зайчик с белым пятном на голове. – «А вы знаете, что она про вас говорит?» – «Нет, не знаю», – сказал зайчик с белым пятном на голове. – А что она про меня говорит?» – «А она говорит, что когда капусту убирали, то вы половину к себе домой свезли и что вы всегда так делаете и потому ковер купили такой красивый». – «Это неправда! – закричал зайчик с пятном на голове. – Я ковер на премию купил, а премию мне дали за хорошую работу», – и заплакал. – А зайчиха уже убежала…
– Ну? – сказала Верочка.
– Не толкай мой столик, а то я ничего не буду тебе рассказывать.
– Ну? – снова сказала Верочка и отодвинула свою скамеечку. – Ну, куда она убежала?
– А она побежала к худенькой зайчихе, у которой трое зайчат и которая живет на Криволодыженском переулке. Угостила ее худенькая зайчиха чаем с конфетами, а старая зайчиха попила чаю, поела конфет и спрашивает: «А вы знаете, что про вас говорит зайчик с белым пятном на голове?» – «Нет, не знаю, – ответила худенькая зайчиха и покраснела (она была очень нервная). – А что он про меня говорит?» – «Я к вам очень хорошо отношусь и потому расскажу. Он говорит, что вы плохая хозяйка, и что ваши дети всегда голодные, и чулочки у них рваные, и ушки простуженные, и что ваш муж у всех по капустному листочку занимает и никому не отдает». – «Это неправда! – закричала худенькая зайчиха. – Я даже работу бросила, только и делаю, что ухаживаю за моими зайчатами. Они у меня всегда чистенькие, сытые и здоровые. И про мужа неправда!» «Это неправда! Неправда! – закричали трое зайчат худенькой зайчихи. – У нас ушки не простуженные, чулочки целые и мы сытые!» А пожилая зайчиха сразу убежала…
– Ну? – снова сказала Верочка.
– Ты на меня не нукай.
– А ты в самом интересном месте не останавливайся.
– И это интересное место?
– Интересное. Она убежала, а куда – неизвестно.
– А убежала она на работу. На работе она подозвала к себе серого зайца и говорит: «Вы знаете, как я к вам хорошо отношусь. Я хочу предупредить вас, что плешивый заяц, который сидит у окна, говорит, будто вы без конца торчите возле красноглазой зайчихи, и ей сказки рассказываете и что лучше бы вы рассказывали сказки своей жене Белохвостке и дочке Морковочке». – «Это безобразие! – закричал серый заяц. – Я ей объяснил, как работу сделать: у нее что-то не клеилось!»
И все зайцы стали ссориться и выяснять отношения. А старая зайчиха только хихикала у себя под кустом. Зайцы ссорились, ссорились, но в конце концов выяснили, кто всех перессорил. Тогда они в один прекрасный день собрались, окружили старую зайчиху и, как она ни вертелась, запихали ее в мешок, потащили этот мешок в лес и бросили на муравьиную кучу. Зайчиха захотела из мешка вылезти, а он завязан капроновой веревкой. Но муравьи через завязанное место все-таки в мешок пролезли и стали зайчиху кусать. Знаешь, когда один муравей укусит – и то как больно.
– Да, я не люблю, – сказала Верочка.
– И она не любила. А тем более муравьев было много. И зайчиха закричала: «Ай, ай, ай! Я больше не буду!» – «Ты чего кричишь?» – спросил ее жук-олень, он случайно попал в мешок вместе с зайчихой. «Я больше не буду ссорить зайчиков, не буду сплетничать, не буду одним на других наговаривать!». – «Ах, вот за что тебя наказали!» – «Жучок, жучок, прокуси мешок, я его лапками разорву и убегу, а то у меня зубки притупились… Ой, ой, ой! Больно! больно!» – «Нет, не прокушу, – прогудел жук, – сиди в мешке, раз ты такая вредная».
– Нет, пускай прокусит, – сказала Верочка, – она больше не будет!
– Да, зайчиха так просила и обещала исправиться, что жук тоже поверил ей, прокусил дырочку, она лапками разорвала мешок, вылезла да пустилась бежать без оглядки! С тех пор зайчиха стала такая хорошая, такая тихая – никого не ссорила. А уж если хотела что рассказать, то говорила: «Все говорят», а на кого-нибудь одного не указывала. И если кто начинал сплетничать, ему сразу грозили: «Смотри, посадим тебя в мешок и отнесем на муравьиную кучу, как ту зайчиху». И это очень помогало… А теперь я рассказала тебе сказку, и ты иди с бабушкой гулять, а то я так не могу работать.
И Верочка ушла с бабушкой гулять.
А через несколько дней к Верочкиной маме пришли гости по случаю ее дня рождения.
Гости сели за стол и сразу заговорили про винтики, шайбы и про какую-то машину, которая не клеится.
А потом Верочка вылезла из-за кресла в углу, и ее все сразу заметили, потому что она была такая румяная, большеглазая, рыжеволосая, как ее мама, а голубое капроновое платье из «Детского мира» ей очень шло.
Гости сразу схватили Верочку, стали ее очень хвалить, гладить, целовать и передавать из рук в руки.
Верочка очень стеснялась, а Верочкина мама была на кухне и не могла отнять Верочку у гостей. Потом все стали просить Верочку что-нибудь спеть или станцевать, но она молчала и только застенчиво посматривала то на одного, то на другого своими круглыми зеленоватыми глазами.
Но когда кто-то сказал, что девочка, наверное, не знает ни стихов, ни сказок и вообще не умеет говорить, Верочка прошептала:
– Нет, я умею говорить.
Тогда вся опять стали просить Верочку рассказать что-нибудь, а одна гостья посадила ее на свои толстые теплые колени. И хотя Верочка очень стеснялась своего нового нарядного голубого платья из «Детского мира», все-таки она начала рассказывать сказку про зайчиху.
Верочка считала, что эта страшная сказка, и не понимала, почему все вдруг начали переглядываться и смеяться, а толстая гостья спустила Верочку с колен и стала сердиться, что в комнате очень накурено. Тогда Верочка сказала, что дальше самое интересное и страшное – как зайчиху завязали в мешок и бросили на муравьиную кучу. А толстая гостья вдруг нахмурилась, сказала, что пахнет горелым, и убежала на кухню. В это время вошла Верочкина мама с пирогом и сказала, что Верочке хватит болтать. Но сказка уже кончилась.
Все еще долго смеялись и спросили Верочку, кто ей рассказал эту сказку.
– Мама, – ответила Верочка.
– А какие она тебе еще сказки рассказывала?
Тут Верочкина мама сделала четырехугольные глаза и сказала:
– Нет, нет, уже поздно, – и увела Верочку спать.
1968
МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ
В воскресенье Поля встала чуть свет, чтобы приготовить мужу завтрак, потом с досадой вспомнила, что выходной и можно было поспать. Она писала дипломную работу и, просиживая за книгами, потеряла счет дням. Спать уже не хотелось. Поля встала на стул и открыла форточку. В комнату потекла холодная струя весеннего воздуха. В передней раздался неуверенный звонок. Поля пошла открывать. За дверью стояла тетя Маруся, которую трудно было узнать не только потому, что Поля не видела ее почти десять лет, а еще и потому, что тетка была закручена в теплые платки и шали, из которых торчал только знакомый курносый толстый нос, украшавший лица всех трех Полиных теток. Старуха крепко обняла Полю и сказала:
– Кабы не годы прошли, приняла бы я тебя за Наталью. Ну вся ты в мать!
– Тетя Маруся! – опомнилась Поля. – Наконец-то выбрались! Заходите в комнату. Как же вы телеграмму не дали? Мы бы с Васей вас встретили, как раз он сегодня выходной.
– Да сама я не знала – поеду, не поеду… – сказала тетя Маруся, выкручиваясь из своих платков и утирая пот с крупного добродушного лица. – Не ко времени мне ехать-то было: сама знаешь – весна, как тут уедешь?
Действительно, тетка Маруся, колхозная доярка, никак не могла выбраться в Москву, несмотря на то что Поля не раз звала ее погостить. Она благодарила в коротких письмах, написанных шатучим почерком, обещала приехать, но так и не была в Москве ни разу.
– Насилу я вас нашла. Ну и забрались вы!
– Зато здесь воздух хороший. Сокольники близко, Лефортово, зелени много.
Поля рассматривала постаревшее, доброе лицо тетки, ее полураскрытые мужские кулаки, лежащие на коленях, и вспоминала, как тетка мыла ее по утрам ключевой водой, царапая щеки шероховатыми сильными жесткими ладонями, как неструганые доски.
– Нет, не выбралась бы я ни за что, да председатель вызвал, говорит, езжай, Мария, в Москву, покажись профессорам, что-то ты прихварывать стала часто, а ты нам человек нужный. Да, так и сказал – нужный, говорит, человек. Хороший у нас председатель, из города, но сам деревенский, правда, не нашей местности.
– А что с вами, тетя Маруся?
– Да не знаю я, что со мной. Фершал сказал – язва. Вроде обругал. Язва, говорит. Обидно как-то. Никогда я ничем не болела, а тут – язва…
– Что же тут обидного? – сказала Поля, накрывая на стол. – Есть такая болезнь – язва желудка, ее вылечить можно. И профессор у нас есть хороший. Вася у него после ранения в госпитале лежал… Вася! – крикнула она в соседнюю комнату. – Вставай-ка, погляди, кто к нам приехал.
Пока Поля с тетей Марусей вспоминали деревенских соседей и Полиных сверстников, Вася – Полин муж – оделся и вышел в столовую.
– Знакомься, Васенька, это тетя Маруся, мамина сестра, а это мой муж Вася.
Только что все уселись за стол и Поля разлила чай, как за окном показалась похоронная процессия, – дом стоял недалеко от большого московского кладбища. Тетя Маруся вдруг замолчала, поставила на стол чашку и подошла к окну.
– Кого ж это хоронят? – спросила она, и короткие светлые брови ее поднялись над глазами домиком.
– Не знаю, тетя Маруся, здесь ведь кладбище рядом, так что процессии постоянно мимо дома ходят.
– Как это – постоянно? – тихо спросила тетя Маруся и, не отрывая глаз от окна, нашарила свою шаль, торопливо накинула ее на плечи и вышла, сказав на ходу, ни к кому не обращаясь: – Кого ж это хоронят?
– Тут уж ничего не поделаешь, – сказала Поля, – тетя Маруся всегда у нас была жалостливая.
– Не потерялась бы она, – встревожился Вася.
– Что ты, это же рядом, она сейчас вернется.
Но тетя Маруся вернулась только через час, вся в слезах, с разгоревшимися щеками.
– Генерала хоронили… – сказала она, тяжело опускаясь на стул у двери. – Не старый еще… Ордена несли… Музыка играла… жена плакала… А уж я с теткой его так наплакалась, что в ушах шумит. Какой-то, говорят, у него в голове нерв лопнул.
– Ну что вы, тетя Маруся, так расстраиваетесь? Ведь теперь уж все равно ничего не поделаешь. Садитесь к столу, чайку попейте, отдохните вы с дороги.
Тетя Маруся сняла шаль и села к столу.
– Правда, налей-ка ты мне, дочка, чаю, что-то устала я.
– Значит, так, тетя Маруся, – сказал Вася, – сегодня воскресенье, будем отдыхать, а завтра я договорюсь на вторник, и покажем вас профессору.
Но последних слов тетя Маруся недослышала. Она опять опустила блюдце на скатерть и смотрела в окно. Мимо медленно двигались похороны…
– Вы погодите немножко, я сейчас… – виновато перебила она Васю, – пойду узнаю, кого хоронят…
Расстроенная и серьезная, тетя Маруся вышла, завязывая платок на спине. Поля с Васей видели в окно, как она что-то спрашивала у отставшей женщины, потом догнала процессию и скрылась в воротах кладбища.
Поля уже приготовила обед, когда тетка вернулась. По щекам ее текли слезы, глаза и нос распухли подушками, платок свалился на плечи, волосы растрепались.
– Что же это такое? – прорыдала она, рухнув на диван. – Девушку мы хоронили, студентку, потом старуху одну, дети у нее остались, внуки. Я так плакала, что в голове как колокол гудит. Мне гражданин говорит: «Вы ей кем будете?» – «Никем, – говорю я, – милый, ей не буду». – «Чего же вы, говорит, так убиваетесь, прямо больше всех, может, хорошая знакомая вам была покойница?» – «Да нет, говорю, не знала я ее. Просто жалко мне, что умер человек…» Что же это у вас, в Москве, мрут как мухи? – спросила она строго, перестав плакать и глядя на племянницу испуганными глазами.
– Что вы, тетя Маруся! Ведь это Москва, огромный город, здесь миллионы людей живут, люди не бессмертны, ясно, что кто-то умирает.
– Нет, у нас в деревне не так. Раз в год кто умрет, так мы целую неделю плачем, а здесь всех и не проводишь – вон уж у меня ноги не ходят. Нет, не поеду я к вашему профессору! Если здесь генерала важного такого не вылечили, то на меня, старуху деревенскую, и вовсе не посмотрят. Меня наш фершал вылечит. Достаньте мне обратный билет, я домой поеду.
Поля и Вася не стали спорить с тетей Марусей. Они уложили ее спать и на следующий день, пошептавшись с соседкой, отвели тетю Марусю к ней в комнату, расположенную через коридор.
Старуха уселась у окна и стала рассеянно смотреть на весеннюю улицу, думая о своем… Снег уже стаял, день был солнечный, но ветреный, воробьи молодцевато скакали под окнами.
Вдруг тетя Маруся стала сосредоточенно всматриваться в подъезд противоположного дома. Она проводила кого-то глазами раз, другой, потом, беспокойно повозившись на стуле, встала и, приоткрыв дверь, позвала Полю:
– Полюшка, что это за дом у вас напротив? – спросила она. – Все оттуда с младенцами выходят. Я и часу не просидела, а уже восьмого сосчитала.
– А это родильный дом, тетя Маруся, – сказала Поля и рассмеялась. – За целый день больше насчитаете.
– Ну? Вот это да! Что-то больно много! У нас в деревне не так…
– Да что вы, тетя Маруся! Это же Москва, здесь миллионы людей живут.
– Ладно, – сказала тетя Маруся, помолчав, – ведите меня к профессору.
1968
ДВА РАССКАЗА О РАЙКИНЕ
1. НАЧАЛОДесятилетним ребенком он убегал в Александринский театр. Он проскальзывал в толпе под руками контролеров. Его вылавливали, тащили к выходу, но в глазах мальчишки горела такая мольба, он так широко открывал рот, готовясь к воплю, что контролеры оставляли его в покое. А потом привыкли и стали пускать на галерку. Его черная голова с начала до конца спектакля торчала над бархатным барьером последнего яруса. Он навсегда запомнил манеру игры, интонации, облик прекрасных актеров Александринского театра: Певцова, Готин-Горяинова, Юрьева, Вольф-Израэль, Вивьена и Корчагиной-Александровской.
Однажды Юрий Михайлович Юрьев, уже в преклонном возрасте, был на спектакле у Райкина и зашел за кулисы поздравить его с успехом. Аркадий, тогда уже известный актер, стал вспоминать Юрьева в какой-то пьесе. Тот, изумленно подняв брови, сказал своим бархатным голосом:
– Помилуйте, друг мой, вы не могли этого видеть, вы тогда были ребенком!
– Да, мне было десять лет, – ответил Райкин, – но я видел почти все спектакли вашего театра начиная с 1921 года.
Когда мальчик, потрясенный, ошарашенный, поздним вечером возвращался из театра один, со страхом пробираясь по переулкам, вдоль остывших стен домов, к себе на Троицкую улицу, там его ждали неприятности. Отец драл за уши, не раз хватался за ремень, пытаясь отучить ребенка от такой ранней и непонятной страсти. Когда это не помогало, не велел отпирать. Мальчик торчал на лестнице, пока дверь наконец не открывалась и тяжелый отцовский подзатыльник не вталкивал его внутрь темного, душного коридора.
В комнате на кроватях сидели младшие сестры и молча глядели на него круглыми черными глазами, полными сна и страха. Мать, всегда сдержанная и молчаливая, бесшумно двигаясь по комнате, робко обнимала его, гладила жесткие волосы, поила молоком, укладывала спать.
Он долго не мог заснуть: все вспоминал и вспоминал стремительную походку, властный баритон, длинные, узкие глаза Певцова, и свой страх за него, и радость, и восхищение его искусством. Он тогда не мог разобраться в своих впечатлениях, все делил на простейшее: этот плохой, этот хороший. И только позже он понял, что в раннем возрасте прошел настоящую школу вкуса и мастерства. Все, что делал впоследствии, он интуитивно примеривал к далекой вершине, открывшейся ему в детстве.
А однажды в Театр миниатюр пришла знаменитая Екатерина Павловна Корчагина-Александровская. Ее привели под руки, она уже плохо ходила, усадили в ложу, и Аркадий объявил публике:
– Сегодня у нас на спектакле присутствует Екатерина Павловна Корчагина-Александровская.
Весь зал встал и устроил ей овацию. Старая актриса медленно поднялась, низко поклонилась людям и произнесла тихим, но звучным голосом:
– Спасибо, родные, а я думала, что вы меня уже забыли. Спасибо, Аркаша, спасибо, дружок.
Она не знала, сколько раз заставляла плакать и смеяться маленького мальчика, следившего с галерки Александринского театра за каждым ее словом и каждым жестом.
Вообще увлечение театром началось еще в Рыбинске, куда семья Райкиных переехала в 1916 году из Риги. Аркадию исполнилось пять лет, его сестрам Белле и Софье – два и три, а брата Максима тогда вообще не было. Они были беженцы. В то время не знали трудного иностранного слова «эвакуированные», знали горькое, точное слово «беженцы».
Они бежали во время первой мировой войны из Риги, где отец работал бракером по лесному делу в рижском порту на огромных лесных складах.
В Рыбинске первое время спали на полу вповалку и жили трудно, пока отец не устроился на работу под Рыбинском на лесопильный завод.
Все дети быстро перезнакомились, их было много вокруг.
Развлечений было мало, и кому-то из старших ребят пришла в голову мысль играть в театр.
Оборудовали сцену в дворовом сарае. Занавес из старых мешков обшили елочными игрушками, сохранившимися у кого-то от мирного времени.
Блестящие шишки, сердца, бусы, звериные фигурки, шары и гирлянды сверкали, звенели, шелестели и побрякивали, когда раздвигался занавес. Было ошеломляюще красиво.
Шестилетний Аркаша приходил раньше всех, он вертелся среди участников, всюду совал свой нос, на все таращил блестящие любопытные глаза, без конца задавал вопросы и даже советовал. Он тоже хотел участвовать и все время просил принять его в игру.
Наконец, не выдержав натиска, ребята дали ему роль убитого купца в какой-то горбуновской пьесе. Никто эту роль не хотел играть, и Аркаша, счастливый, лежал на полу с кинжалом под мышкой. Вокруг кипели страсти, а убитый купец внимательно следил за действием широко раскрытыми глазами.
Спектакль заканчивался шумовым эффектом: на ниточке был привязан боевой винтовочный патрон, под ним ставилась свечка. К концу спектакля ее зажигали, раздавался громкий выстрел. Все – и актеры и зрители – сначала разбегались, а потом возвращались и искали дырку от пули, но так ни разу ее и не нашли.
В Рыбинске впервые Аркадий пошел в театр. Это было большое здание с многоярусным залом. Первый спектакль, который он увидел в жизни, был «Шантеклер» Ростана. Но больше поразило его то, что на сцене среди артистов, изображающих петухов и кур, сидел его друг Витя Голохвастов и, ни на кого не глядя, спокойно строгал палочку. Тогда впервые у Аркадия зародилась мысль, что он тоже так может. Он завидовал Вите изо всех сил. Ему очень хотелось сидеть у всех на виду и строгать палочку.
Воображение Аркаши разыгралось. Ему хотелось играть петухов и кур, которые между собой разговаривали стихами, захотелось побыть там, где все необычно, странно, интересно. У Вити во дворе жили две актрисы этого театра. Они и предложили ему строгать палочку.
Во время первой мировой войны театр в Рыбинске сгорел, несмотря на то что стоял на берегу реки, впадающей в Волгу, и напротив городской каланчи.
Рыбинск был театральным городом, и после пожара появилось много любительских трупп. Они играли в разных залах, и однажды Аркаша, подхватив сестер, отправился на детский спектакль. Две его крошечные сестры тоже были большими театралками. Дети ушли к пяти часам. Спектакль начинался в семь, а в девять вернулся с работы отец и, не застав дома детей, в ужасном волнении отправился на поиски.
Во время какой-то веселой песенки зрители услышали выстрелы и грохот. Время было тревожное, все повскакали с мест, кто-то завизжал, и кто-то заплакал.
Дверь распахнулась, и в зал влетел отец Аркадия. Это он грохотал в дверь своими мощными кулаками, создавая впечатление выстрелов.
– Где мои дети? – кричал он. – Мыслимое ли дело играть в пьесы с пяти часов до девяти? Это же можно и взрослым людям задурить голову! Кто это выдумал балаболить четыре часа, не сходя с места! А ну, марш домой!
Он схватил своих ревущих детей за руки, младшую взял под мышку и, возмущенный, удалился.
В 1922 году семья Райкиных переехала в Петроград. И когда Аркадию исполнилось тринадцать лет, с ним случилось несчастье.
Он любил кататься на коньках, и мать всегда тщательно проверяла, достаточно ли он тепло одет.
Покорно надевая все, что она велела, он на катке разогревался, постепенно снимал пальто, шарф, свитер и, наконец, оставался в легкой рубашке. Однажды он сильно простудился. Началась тяжелая ангина.
Потом все прошло.
Но через несколько дней острые боли в опухших суставах снова уложили мальчика в постель. Он бредил. Ему казалось, что кто-то черный, чужой все время стоит у его постели. Потом сдало сердце. Оно болело и замирало, как у глубокого старика. Мальчик спал, сидя в кресле: лежа он задыхался. Мать подолгу смотрела на его желтое, исхудавшее лицо.
Врачи считали его обреченным. Но родители, шушукаясь и плача по ночам, приглашали все новых и новых врачей, лучших профессоров города. Вокруг исчезали вещи; в одной из двух комнат остался только шкаф среди голых стен. Больного надо было усиленно кормить, профессорам, которых приглашали на шестой этаж, надо было платить, а работал один отец. Работал с утра до вечера в двух местах, чтобы прокормить семью и спасти сына. Он был родом из города Полоцка, вырос в многодетной семье, где братья и сестры поднимались как дубы, один здоровей другого. Дед Аркадия дожил до девяноста лет и умер, танцуя на свадьбе. А отец Аркадия был широкоплечий, приземистый, с крупными, жесткими руками. Одним ударом открытой ладони он вдребезги колол грецкие орехи.
– Нечего болеть, – бывало, говорил он. – Надо встать и работать, тогда не будешь болеть.
Он считал больных ленивыми и виноватыми в своей болезни. Он был уверен, что здоровье полностью зависит от самого человека.
И вдруг болезнь ворвалась в дом, как хозяйка. Всегда веселый и подвижный мальчик лежал, боясь пошевелиться, чтобы не растревожить боль, притихшую в суставах. Он много думал по ночам, сидя в темноте с открытыми глазами. И днем он думал, наблюдая за пауком, и не разрешал снимать в углу паутину. А паучок деловито строил вокруг себя маленькое серое солнце, коварно притаившись на самом виду, в центре своей страшной, прозрачной ловушки. И Аркадий представил себе, что его суставы опутал паутиной боли маленький злой паучок, что он подбирается к сердцу, трогая его своими мохнатыми лапами.
Всю зиму приходили товарищи по школе. Они приносили книги, рассказывали об уроках и учителях. Они жалели своего друга, удивляясь перемене в его характере. Ни смеха, ни шуток, ни споров. Серьезно, без улыбки слушал он своих товарищей, как бы отгороженный от них какой-то стеной, только изредка задавал вопросы.
…Через много лет, сидя у постели искалеченного академика Ландау, Райкин пытался развеселить его. Но острое чувство горькой, непоправимой потери мешало ему. Ландау, недавно еще полный могучей энергии, ума и жизнелюбия, сейчас лежал на своей последней постели, не улыбаясь, изредка поводя глазами, бесконечно грустный, погруженный в себя, замкнувшийся.
Аркадий останавливался, у него перехватывало дыхание, он не мог взять себя в руки.
И вдруг Ландау, не поворачивая головы, глядя перед собой, спросил:
– Вы помните эти стихи? – и начал читать стихотворение Симонова «Жди меня».
Жди меня, и я вернусь,
только очень жди…
Жди, когда наводят грусть
желтые дожди.
Жди, когда снега метут,
жди, когда жара…
Жди, когда других не ждут,
позабыв вчера…
Он прочел стихотворение до конца. Потом с трудом встал и вышел из комнаты неровной, прихрамывающей походкой. Все молчали. И жена Ландау, измученная Кора, и доктор Симонян, и Райкин, и я, рассказывающая это.
Через несколько минут Ландау вернулся и снова лег. Молчание длилось, и никто не в силах был его прервать.
И тут он снова заговорил.
– Я помню английские стихи, – сказал он и начал читать Байрона и Бернса, очень твердо, не запинаясь. Потом глубоко вздохнул и умолк. Он устал.
Когда мы возвращались, Аркадий сказал мне:
– Какая беда! И какое тяжкое ощущение болезни! Ты знаешь, я вспомнил, как в детстве болезнь держала меня в постели. Я не мог пошевельнуться от ужасной боли в суставах, сердце останавливалось. Я чувствовал, как оно останавливалось, понимаешь? И в это время ко мне приходили ребята из школы и хотели меня рассмешить. Но они не могли этого сделать, потому что не могли скрыть от меня свой страх и сочувствие.
Он никогда не забывал того далекого времени. Болезнь наложила отпечаток на всю жизнь. Он сильно изменился. Много читал. Научился сосредоточенно думать. Неподвижно работать, когда трудоспособен только мозг, изобретающий целые спектакли, диалоги, монологи, когда мысль заменяет движение. Память воспроизводит самое яркое из того, что увидел и услышал, когда был здоров. Часто вспоминался Рыбинск. Лесопильный завод, куда отец однажды возил его, чтобы показать свою работу. Надо было ехать полтора часа на маленьком поезде, состоящем из паровоза и одного вагона. Аркадий запомнил бревна, рабочих в высоких сапогах с раструбами, вооруженных баграми с крючьями на концах. Они, как древние рыцари, двигались между бревен, подхватывали их крючьями и валили на конвейер, ползущий к блестящим на солнце круглым пилам. Пилы пели и фыркали, плескались белесыми опилками. Из круглых бревен получались плоские, гибкие доски.
Все это гремело, жужжало, повизгивало и шипело. Звуки были ритмичны, сливаясь в неслыханную шумную музыку. Пахло лесом, смолой, грибами, дождем… Вспомнил Аркадий, как ему захотелось показать все это сестрам. Он всегда любил делиться радостью. В один прекрасный день он повел обеих девочек на дощатую платформу заводской ветки, усадил в вагончик, и через полтора часа дети вышли из него к неширокому мосту. По нему надо было пройти над рекой, чтобы попасть на завод. Сестры устали, а маленькая все время присаживалась и пыталась заснуть. Она не привыкла к таким далеким прогулкам. Старшая была гораздо бодрее, но и она начала спрашивать через каждые десять шагов: «Скоро мы придем?», «А это далеко?» И наконец, началось неизбежное: «Хочу домой».
Но вот заскрипела заводская калитка, и сторож спросил:
– Вы куда?
– Мы дети Райкина. Мы к папе, мы хотим посмотреть.
– Папы вашего здесь нет: он уже месяц как работает в Рыбинске. А посмотреть – пожалуйста, – сказал сторож, – но только без прыготни, стойте на месте, а то разрежет вас пила на доски, будете знать.
Девочки громко заплакали: слово «разрежет» показалось им очень страшным.
Аркадий вспоминал, как успокаивал их, а самому было страшно из-за того, что отца не оказалось, а денег нет: ведь он рассчитывал обратно ехать с отцом. Подавляя тревогу, он сказал сестрам:
– Да что вы, дядя шутит! Перестаньте реветь! Вы что, маленькие, что ли?
Он потащил их, всхлипывающих, дальше, туда, где ходили рыцари с баграми, где гремели бревна и звонко визжала пила.
Девочки остолбенели, захлопнули рты, слезы их высохли…
Обратно шли, когда уже смеркалось. Маленькую пришлось тащить на руках. И тяжесть ее тела, и цепкость рук, обвивших шею, и теплое, сонное дыхание у самого уха – все это явственно помнилось, как будто было сейчас.
Старшая все время отставала, ноги ее цеплялись одна за другую, глаза туманились, ее приходилось окликать. Тогда она, хныча, догоняла брата.
Так они наконец дошли до платформы, и оказалось, что заводская ветка уже кончила работу, теперь первый рейс только утром. Аркадий явственно помнил ужас, охвативший его, когда он понял, что сегодня не может вернуться домой, а главное – привезти сестер. Что придется где-то в неизвестной черноте провести ночь и спать, может быть, здесь, на траве, у паровоза, похожего на самовар с трубой, что девочек нечем накормить! А они уже отчаянно голодные и все время просят хлеба.
Он понимал, что отец накажет его так, как никогда не наказывал.
И это будет справедливо.
Машинист оказался на паровозике. Мальчик стал умолять его отвезти их обратно в Рыбинск. Слизывая слезы с губ, он уговаривал и уговаривал, поддерживаемый испуганным плачем сестер, пока машинист не сказал:
– Ну что с вами делать, садитесь. – И отвез их в Рыбинск.
Так, лежа, он вспоминал и вспоминал. В неподвижности воображал себя скачущим на лошади или бегущим наперегонки с товарищами. Но стоило войти в комнату кому-нибудь из близких, он вскрикивал от боли, просил уйти, – его нервы, поврежденные болезнью, делали его раздражительным, резким, нетерпимым. Он привык к одиночеству.
Но постепенно, медленно он начал поправляться. К весне, когда боль ушла, он, шатаясь, встал и оказался на голову выше матери. Ходить он не мог: за девять месяцев болезни ослабел.
Отец сажал его, как маленького, на спину и сносил вниз с шестого этажа во двор. Дети сбегались к нему, выросшему, а он пытался, ходить на своих неловких, непривычно длинных, каких-то новых ногах.
Когда уходило солнце, отец опять взваливал его на спину и нес обратно на шестой этаж, тяжело отдуваясь и останавливаясь на площадках.
Летом Аркадий почувствовал, как каждый день прибавляет ему здоровья. Он окреп и поправился. Осенью пошел в школу.











