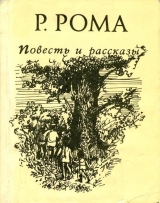
Текст книги "Повесть и рассказы"
Автор книги: Руфь Рома
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 11 страниц)
Я помню высокое крыльцо дома, в котором мы жили. Уже неделя, как мама больна. В доме суетливая тишина и незнакомые запахи. Бегают сиделки в белых халатах. Ходят врачи, папины товарищи. Папа ни на кого не смотрит. Бабушка не выходит из маминой комнаты. Нас туда не пускают. Лена целыми днями стоит у двери.
Я сижу на улице у ворот нашего дома, свесив ноги в канаву, поросшую травой. Прохожие оглядываются на наши окна и тихо спрашивают, наклоняясь ко мне:
– Ну, как мама?
– Ничего, – отвечаю я, щелкая семечки и болтая ногами, – ничего, поправляется. А папа сказал, что скоро встанет.
Я помню, как распахнулась дверь и на лесенке показалась молодая заплаканная женщина-сиделка.
– Иди, иди скорей, – позвала она меня.
И я побежала наверх.
Нас с младшей сестрой Маней привели в спальню. В комнате было душно, полутемно, и я не могла рассмотреть мамино лицо, провалившееся в подушку.
Мама положила мне на голову горячую руку. Рука не удержалась на моей голове и, вяло скользнув по лицу, задела за губы, как бы в шутку.
– Хочу к тебе, – сказала вдруг Маня. Ей было полтора года, и она иногда спала с мамой. – Хочу к тебе, – повторила она и подняла ручки, чтобы маме было удобнее ее взять.
Нас быстро увели. Передо мной мелькнуло искаженное папино лицо и растрепанные седые волосы бабушки.
Потом я услышала отчаянный крик Лены:
– Неправда! Не может быть! Посмотрите еще раз. Она спит, она просто заснула. Посмотрите еще раз…
– Ты не можешь помнить ее, как я, – говорила Лена, глядя мимо моего лица, куда-то в угол. – Я была не права, когда сердилась на тебя. Просто я не могу слышать, как вы называете ее мамой, и папа…
– А за что ты обижаешься на папу?
– Я не обижаюсь на него.
– Нет, обижаешься.
– Об этом я не хочу с тобой говорить.
Открывается дверь, на пороге стоит мама. Лена называет ее «Софья Петровна».
– Почему вы так поздно не спите?
Я думаю, что она сейчас погасит свет, но она входит и садится в кресло у стены. Ее крупные коричневые глаза устало прищурены. Гладкие темные волосы собраны в небольшую прическу, лежащую на шее под круглым затылком. Мы смотрим на маму и молчим – при ней нельзя продолжать наш разговор.
– Я вам помешала? – спрашивает мама и берется за ручку кресла.
– Нет, что ты, – говорю я, – ты совсем не помешала. Просто я сказала, что няня ушла, мы ребят уложили и теперь к ним в комнату нельзя входить, чтобы они не разбуркались.
Лена встает с моей постели и быстро выходит.
– Куда ты? – спрашивает мама.
– Разогреть вам ужин.
– Не надо, я ужинала в детдоме, – говорит мама, но Лена не возвращается. Мама смотрит ей вслед, и лицо ее покрывается неровными розовыми пятнами.
– Ничего, мама, – говорю я ей, – ничего, ты не расстраивайся. И не сердись на Лену. Просто она… она не может… А я тебя очень люблю.
Мама садится ко мне на постель, обнимает меня, прижимает мою голову к своей груди…
К Лене в гости стал приходить военный. Я его уже видела. Он из Инженерного замка, там военная школа. Эта школа шефствует над детским домом. Мы бываем в Инженерном замке на вечерах и концертах. Курсанты приходят в детдом – помогают выезжать на дачу, устраивают выставки и беседы.
– Правда, он чем-то похож на д’Артаньяна? – как-то спросила меня Лена.
– Да, конечно, – ответила я, запинаясь. – Конечно, д’Артаньян был когда-нибудь таким маленьким, но я думаю, что он никогда не был таким белобрысым и курносым.
– Ехидина, – говорит Лена.
– Чем же я ехидина? Ну хорошо, я скажу: он похож на д’Артаньяна – такой же стройный, высокий, брюнет с усиками. Кто я тогда буду?
– Он очень хороший человек.
– Я его не знаю.
– Он очень хороший и добрый.
– Ну и пускай добрый. Я его совсем не знаю. Он приходит, и ты сразу запираешь дверь.
Лена вспыхивает и говорит:
– Что ты выдумываешь? Я никогда не запираюсь. Просто ты не входишь. Если бы ты вошла, то увидела бы…
– Я увидела бы, что вы целуетесь.
– Убирайся из комнаты, мне надо заниматься.
Я продолжаю сидеть и показываю Лене язык. Она хватает меня за шиворот и тащит из комнаты. Я упираюсь, волочу за собой стул, но сестра сильнее – она вышвыривает меня в коридор. Щелкает задвижка. Я кидаюсь на дверь, стучу в нее ногами и ору:
– Все равно он противный! Рот как у щуки! Он головастик! Головастик!
Лена сидит в комнате притаившись. Мне надоедает стучать, и я иду к младшим сестрам. Они набрасываются на меня, валят на пол, теребят за волосы, а я думаю: «Какой, правда, неприятный жених у Лены, какой-то пожилой, наверное, ему уже лет двадцать пять. Приходит – не здоровается со мной, как будто меня нет, уходит – не прощается. Встретил в коридоре маму, почему-то вдруг испугался».
– Ты будешь лошадь! – кричит Маня.
Я становлюсь на четвереньки, она лезет мне на спину, и мы едем. «Почему он испугался мамы? – думаю я и ползу вокруг комнаты. – А когда мама приглашает его чай пить, он всегда…» Маленькая Наденька плачет – она тоже хочет покататься. Я катаю Наденьку, а Маня бежит сбоку и лает. «Почему он всегда отказывается пить с нами чай?» Я падаю на спину и лежу. Маня говорит что-то про Гулливера и лилипутов. Пока они с Наденькой связывают мне ноги скакалкой, я думаю, что Лена ужасно переменилась. Она стала раздражительная, веселая и тревожная какая-то и все время уходит, редко бывает дома. Наденька лезет ко мне на живот и сидит тихонько, а Маня привязывает мои волосы к ножке кровати. «И почему она с ним целуется? Я сама видела с улицы большущую тень на нашей занавеске. И все прохожие могли видеть. Лена никого не целует, ни меня, ни маму, ни папу, и вдруг с таким чужим человеком?..»
Хлоп! Наденька опрокинулась назад, я только успела схватить ее за ногу. От этого она еще стукнулась головой об пол. Я трясу ее на коленях и пою:
Едем, едем к бабушке,
Едем, едем к дедушке
По кочкам, по кочкам,
По ямкам, по ямкам!
Она успокаивается, смеется, а я все думаю, думаю…
Ночью я пыталась заговорить с Леной, но она лежала, отвернувшись к стене, и не отвечала. Рано, рано – когда первые шаги простучали по тротуару у наших окон – я услышала шепот Лены:
– Ты спишь?
– Нет.
– Тиночка, я уезжаю.
– Куда?
– В Москву.
Я перелезла к Лене. Она укрыла меня своим одеялом.
– Зачем ты уезжаешь?
– Так нужно.
– Как ты будешь без нас, одна?
– Я все обдумала. Сначала я буду жить у тети Тани.
– А вдруг она не захочет?
– Что ты! Тетя Таня – мамина сестра.
– А университет?
– Потом когда-нибудь буду учиться. Я не могу здесь жить. Я здесь чужая.
– Неправда, неправда!
Я смотрю на Лену. Она рядом. Она моя сестра. Я люблю ее. Совсем близко, на подушке, лицо Лены. Я вижу профиль, и дрожащие губы, и глаз, из которого скатилась слеза и упала в ухо.
– Лена, – тихо сказала я. Мне было страшно начинать говорить, но Лена молчала, глядя в потолок. – Лена, не надо уезжать. Мама тебя любит. А как же папа? Что он скажет? Как ты будешь жить одна?
– Ничего, проживу, – ответила Лена, – проживу. Она мне не мать. А папа привыкнет.
– Лена, не уезжай. Я буду тебя слушаться. Почему я молчала, когда вы с мамой говорили!
Я обняла Лену, повернула ее к себе, и вдруг она заплакала, беззвучно и горько, уткнувшись лицом в мои волосы.
И вот Лена уезжает. Мы стоим в передней. Папа едет с Леной в Москву. Вот он еще раз, последний, говорит ей: «Останься, доченька». Она подходит к маме, протягивает ей руку для прощания.
– Лена, что ты делаешь? – говорит мама. – Ты должна учиться. Куда ты едешь? Оставайся.
– Не забывай меня, Тина, – говорит Лена и быстро идет к выходу.
Я догоняю ее, она прижимается к моему лицу мокрой щекой, потом отрывает от себя мои руки.
Вот хлопает дверь – Лена навсегда уходит из нашего дома.
Мы с мамой стоим у окна и смотрим ей вслед.
– Я не нашла к ней дороги, – говорит мама.
Я возвращаюсь в нашу комнату. Теперь я старшая.
Книги Лены стоят на полке. Она взяла с собой только «Дон Кихота». Недочитанный «Монте-Кристо» лежит на столе. Читать не хочется. Очень много в моей голове разных мыслей. Надо в них разобраться…
СТРЕКОЗА, КУЗНЕЧИК И АПТЕЧКА
После школы я часто забегала в детский дом к подругам. Я оставляла дома школьную сумку, переходила через двор, поднималась по лестнице на второй этаж и открывала дверь большого зала.
В этот день я увидела за роялем старую пианистку, с волосами серыми, как пыльная паутина, скорбную и неряшливую. Она говорила нам, свесив руки и глядя на клавиши:
– Я потеряла все. И некому жаловаться. Никого нет, и ничего нет…
Она до сих пор продолжала все терять – то сумку, то ноты, то шляпку, как бы висящую в воздухе над ее высокой прической. Пианистка была худенькая и плохо одетая, а ходила величественной походкой, как королева.
– Татьяна Александровна, у вас штаны видны! – услужливо кричали мы ей.
Она оборачивалась, высоко подняв голову, глядела на нас из-под пенсне и говорила:
– Дамы не носят штанов. Это панталоны.
Чаще всего она играла «Где гнутся над омутом лозы», а девочки, стриженые, с сосредоточенными лицами, старались изобразить, как гнутся лозы и трепещут былинки. «Дитя, подойди, подойди же», – подманивали они кого-то растопыренными пальцами.
Учительница смотрела на них тусклыми презрительными глазами, ничего не объясняя и никого не поправляя. Она несла свой крест.
Дверь открылась, в зал вошел вожатый – в детдоме недавно организовался пионерский отряд.
– Знакомьтесь, девочки, – сказал вожатый, указывая на высокого немолодого человека, вошедшего вместе с ним, – знакомьтесь – это товарищ Трубин. Участник взятия Зимнего.
Учительница вскочила и стала собирать дрожащими веснушчатыми пальцами сумку, ноты, шляпку…
– Вы извините, товарищ Долгорукая, что прервал занятия. Товарищ Трубин расскажет девочкам о том, как рабочий класс брал власть в свои руки.
Татьяна Александровна с испуганным лицом продолжала хватать вещи. Она роняла ноты, поправляла пенсне и, наконец, вышла из зала своей высокомерной походкой, неся перед собой сумку и держась за нее обеими руками, как за перила.
– Не научился еще пролетариат на роялях играть, – сказал вожатый, – приходится приглашать бывших.
Товарищ Трубин внимательно оглядел нас. Мы стояли посредине зала и тоже его рассматривали. Лицо у него было крупное, заросшее густой сизой бородой. Он как бы пересчитал нас широко расставленными ласковыми глазами. Потом сказал грубовато:
– Вот что, девочки, грех вам здесь сидеть, в доме, и слушать про взятие Зимнего, когда он от нас рукой подать. Пойдемте на воздух, на площадь, ко дворцу.
Через несколько минут мы были на площади.
Много раз после этого мне приходилось слышать рассказы о взятии Зимнего. Но навсегда мне запомнился этот теплый, безветренный денек, это белесое небо и красота строгих ампирных домов, окружавших нас.
Мы стояли у Александровской колонны. Сзади мчалась в небо буйная шестерка Главного штаба. Перед нами был дворец – красный, украшенный раковинами, завитками, колоннами и бесчисленными статуями на крыше.
Мы слушали рассказчика. Он не кричал, не бегал, не размахивал руками. Ни малейшей аффектации не было в его спокойном низком голосе.
Мы представили себе безлюдную настороженную площадь, баррикаду, юнкеров и девиц, одетых в военную форму, за узорными чугунными воротами дворца. Мы представили себе, как постепенно темнело, площадь стала заполняться вооруженным народом, как ударила пушка из-под арки Главного штаба, прогремел выстрел с «Авроры». Мы представили себе людей, бегущих на штурм Зимнего, туда, где засели враждебные народу министры.
– И с этого времени, девочки, – продолжал рассказчик, – и с этого времени началась в нашей стране Советская власть. Не все вернулись домой с площади. Вот там, где ты стоишь, черненькая, упал мой дружок Ваня Степанов. Да. Упал – и не встал.
Я быстро отошла в сторону.
– Не бойся, нет там его крови. Давно уже ее дожди смыли. Но мы про нее помним. И вы помнить должны. Потому что для вас мы эту революцию делали – для счастья наших детей, внуков, правнуков и далеких потомков. Вот какое дело, товарищи молодые пионеры.
Вечером я сказала маме:
– Я хочу записаться в пионеры.
– Посмотри, какие у тебя руки, – сказала мама, – в твоих тетрадях одни кляксы. Учительница говорит, что на уроках ты вертишься и разговариваешь. Арифметику учишь перед самыми экзаменами. Пионер – человек сильной воли.
– У меня сильная воля. Мы в гляделки играли – кто кого переглядит, – я всех победила.
– Тина, ты понимаешь, какую глупость говоришь?
– Понимаю. А еще щипалки…
– Послушай меня, Тина, разве гляделками и щипалками определяется сила воли? Делом докажи, что ты достойна быть пионеркой. А иначе я не советую тебе и заявление подавать – тебя не примут. Только окажешься в глупом положении. Помни: пионеры – это лучшие из лучших.
Всю зиму я пыталась стать лучшей из лучших.
Мне это никак не удавалось. Руки мои как-то сами пачкались, волосы растрепывались, первый урок начинался слишком рано. Всегда мне больше хотелось прочесть не то, что было задано. Я прочла много книг, не предусмотренных школьной программой, но при этом плохо знала таблицу умножения. Я боролась как могла с кляксами – они неизвестно откуда попадали в мои тетради. Когда я делала уроки за столиком у окна, таинственные шарканья, крики, грохот телег по булыжнику, всплески на Мойке надолго отрывали мое воображение от двух кранов, одновременно наполняющих водой бассейн.
Я была трудным ребенком, что и говорить, – непоседливым, своевольным и слишком жадным до новых впечатлений.
И все же мне так хотелось быть тем новым поколением, на которое старшие оставляют страну. Мне хотелось быть тем потомком, для которого рабочие брали Зимний дворец, и носить красный галстук, и стучать в барабан, и дудеть в серебряную трубу, и разводить костры, и ходить в далекие походы, и открывать в недрах земли неизвестные богатства, и мчаться на Северный полюс, и изобретать немыслимые машины, и драться с врагом, и всюду быть с первыми из первых, с лучшими из лучших…
Но пока я стала только немножко лучше учиться и записалась в школьный драмкружок.
Кружок вел бывший актер Сергей Сергеевич Дарилов. Это был высокий худой человек с вьющимися бровями, с бледной лысиной, как лесное озерко, утонувшее среди вздыбленных волос. Глаза его всегда удивительно улыбались, и углы рта были закручены кверху, как усы.
– Коллеги! – сказал он нам однажды голосом, гудящим, как рояль с нажатой педалью. – Коллеги, я принес вам немыслимо прекрасную пьесу. Все дети мира будут мечтать о том, чтобы увидеть ее у нас в школе в вашем исполнении. Роли – одна другой лучше. Играть вы будете хорошо. Играть хорошо – естественное желание актера. Такое же естественное, как желание выплыть – у человека, брошенного в море. Пьеса эта – «Том Сойер» по Марку Твену.
– Ур-р-ра! – заорали мы, так как все знали и любили Тома Сойера и Гекльберри Финна.
«– Том! – Никакого ответа. – Том! – Никакого ответа», – начал читать Сергей Сергеевич, а мы стали слушать, усевшись в кружок. Уставая, он давал каждому по очереди читать дальше.
Все мальчики хотели играть Тома, а девочки – Бекки. Я не успела ничего захотеть, когда Сергей Сергеевич сказал, кто кого будет играть. Он дал роли всем, кроме меня, и вдруг добавил:
– Тина, ты будешь играть Тома Сойера.
Девочки ахнули, а мальчики сердито зашушукались.
– Но ведь я же… – начала я, замирая от счастья.
– Ты настоящий мальчишка, – ответил Сергей Сергеевич.
Больше всех сердился на меня Толя Захаров. Он мечтал быть артистом. Он выступал на всех школьных вечерах: читал стихи, жилясь и закидывая голову. И вдруг вместо Тома Сойера ему дали играть какого-то мальчика без имени.
– У тебя концертный номер, – сказал ему Сергей Сергеевич своим педальным голосом, – сцена драки. Великолепная роль. Больше ко мне с этим не подходи.
И вот после долгих репетиций наступил день спектакля.
В зале собрались ученики, педагоги и родители. Сквозь тонкий занавес я слышала, как шевелится, двигает ногами, стучит стульями, взвизгивает и разговаривает публика.
Я подошла к большому зеркалу, чтобы посмотреть на себя.
Меня не было. Я смотрела на худенького смуглого мальчика в широкополой шляпе, а он испуганно рассматривал меня, то отступая, то приближаясь. Он хотел убежать домой, пока не поздно. Ему было страшно. «Нет, – думал он, – ты не убежишь. Как говорит мама? Надо воспитывать силу воли, чтобы стать пионером. Где твоя сила воли?»
Сергей Сергеевич схватил меня за руку и сказал взволнованно:
– Самое главное – не волноваться.
Спектакль начинается. Раскрывается занавес. На нас дышит теплом темная пасть зала.
Я не вижу никого, меня видят все. Я – Том Сойер.
– Том!
Я молчу.
– Том!
Я молчу.
– Куда же запропастился этот мальчишка?.. Том!
Это кричит тетя Полли. Как мне надоела тетя Полли со своими бесконечными нравоучениями, лекарствами, наказаниями и молитвами.
В зале смеются…
Наступает сцена драки. Я вижу злое Толькино лицо.
– Ты трус и щенок! Я скажу своему старшему брату, он отколотит тебя одним мизинцем!
– Очень я боюсь твоего старшего брата! Мой старший брат швырнет тебя через тот забор!
– Врешь!
– Трусишь!
– Только стращаешь, а сам трус!
– Проваливай!
– Сейчас я оторву тебе голову!
Толька очень хорошо играет. Он накидывается на меня, вытаращив глаза и закусив язык. С размаху он больно бьет меня в ухо. Мне очень обидно. Он должен был промахнуться, а попал в ухо. Я размахиваю кулаками и колочу мимо, как было условлено, но Толька колотит меня по-настоящему. Я начинаю защищаться. Меня приводит в ярость Толькино вероломство. Бац! Толька схватился за нос. Я вцепляюсь ему в лицо обеими руками и деру его за волосы, и мы валимся на пол.
Драка затянулась. Я уже укусила Тольку за палец. Толька завизжал: «Ах, ты кусаться!» – и стал драться ногами.
Под бурные аплодисменты мы укатились за кулисы. Там нас растащили. В зале стоял невероятный шум. Толька ревел. Мне надо было играть дальше.
Ухо горело, нос стал тяжелым, как чужой. «Сейчас убегу домой…» «А где твоя сила воли? – слышала я спокойный мамин голос. – А еще хочешь быть пионеркой!..»
Сергей Сергеевич вытер мне лицо мокрой тряпкой.
– Иди на сцену. Возьми себя в руки.
И вот Том красит забор. Спектакль идет дальше. Вот школа, Бекки Тэчер, кладбище с Гекльберри Финном, заклинания с черной кошкой, прогулка в пещере, найден клад индейца Джо, сцена суда. Конец!
И снова стою у зеркала. Нос мой распух. Под глазом синяк, два красных уха, как две розы, украшают мое лицо. Но я счастлива…
Мама говорит мне у самого дома:
– Я сразу заметила, что он колотит тебя по-настоящему.
– Ничего, – отвечает папа, – она хорошенько дала ему сдачи. Я чуть не вылез на сцену, когда вы расквасили друг другу носы.
Мы приходим домой, и я говорю маме:
– Я подаю заявление в пионеры.
– Подожди, – говорит мама, – летом окрепнешь, поправишься и осенью подашь заявление.
Она берется за мои худые ключицы, как за ручки от ящика.
– Видишь, какая ты худющая. Пионер должен быть сильным и выносливым…
Летом детский дом выехал за город, под Лугу.
Мама после долгих поисков нашла там брошенную дачу купца Полудина – большое, запущенное двухэтажное здание. Инженерная школа – наши шефы – прислали комсомольцев, и в две недели здание приняло живой вид, во всяком случае, летом в нем можно было жить.
Место было чудесное. Вокруг, схватившись за песок корнями, похожими на лапы громадных птиц, стояли сосны. Мимо дачи протекала небольшая речушка. Она была запружена, и водопад летел вниз из большого зеленого пруда, полного ручейков, головастиков и лягушек. По его поверхности бегали длинноногие ломкие пауки, жуки-плавунцы просвечивали сквозь воду.
Изгороди из ежевики и боярышника окружали дачу. В липовых аллеях жужжали тяжелые пчелы.
Я бегала на пионерские сборы, на костры, куда меня пускали потому, что я умела рассказывать сказки.
Девочки детского дома собирали для школы гербарий. У меня в спичечных и папиросных коробочках шевелились и трещали жуки, пестрые волосатые гусеницы пугали моих сестер, расползаясь по комнатам.
Однажды я ловила сачком стройную синюю стрекозу. Она неподвижно стояла надо мной в воздухе, как вышитая. Как только я замахивалась сачком, стрекоза изящно отскакивала в сторону и останавливалась поодаль, как бы поддразнивая меня. Ее крылья испуганно трепетали, блестя на солнце. Я все бежала за стрекозой, глядя вверх, и мне хотелось взлететь за ней и взять ее из воздуха двумя пальцами за синие прозрачные крылышки.
И вдруг – я лечу! Стрекоза стремительно поднимается вверх и исчезает. Я шагнула в водопад, и он потащил меня спиной по сучьям и камням.
Я лежу на животе в мягкой болотной жиже на низком берегу речушки. Опять мама скажет мне, что у меня нет сдерживающих центров и я ни в чем не знаю меры. Почему я не остановилась вовремя? Почему я дала ничтожной стрекозе перехитрить меня? Зачем мне эта стрекоза? Я бы могла поймать другую. Нет, все-таки эта стрекоза была мне нужна для коллекции. Ничего, заживет спина – поймаю. Все равно я ее поймаю, эту стрекозу.
Но что же все-таки там случилось? Двигаться я могу. Вот я встала на четвереньки. Вот поднялась на ноги. Мое мокрое платье измазано болотной грязью. Что-то здорово щемит на спине. Ну-ка, потрогаю… Кровь… Ну что ж, ничего не поделаешь, надо идти домой.
Пионеры в детдоме готовятся к походу. Они собираются пойти в деревню Жаворонки, на озеро Белое, за пятнадцать километров от нас.
Они берут с собой продукты, они будут разводить костры, они идут с ночевкой в лесу. Идут самые крепкие, здоровые и самые старшие, младшие остаются дома.
Я ни о чем не прошу. Я только хожу за мамой хвостом.
– Ты знаешь, мама, – говорю я ей, – как это интересно – идти по лесу в поход.
– Да, – говорит мама.
Она идет на кухню брать пробу обеда. Я иду за ней.
– Как это интересно – идти по лесу в поход, ночевать в лесу, сидеть у костра…
Мы с мамой стоим у широкой плиты.
– Суп недосолен, – говорит мама.
– Как это интересно, правда? Как Миклухо-Маклай…
– Ты не пойдешь, – говорит мама. – Посмотри-ка лучше, сколько Зорька сегодня дала молока для слабых.
Мы с мамой идем в коровник смотреть Зорьку. Зорька сама слабая – молока дает мало. Она смотрит на меня грустно и многозначительно, как будто понимает мои мысли. Мама выходит из коровника, я за ней.
– И не проси, пожалуйста, – ты не пойдешь. Здесь тоже можно развести костер, а завтра вскопаем клумбы, будем сажать цветы.
– Я не прошу, я только рассказываю, что поход – это интересно. Мне кажется, что это интересно очень.
– Да, это интересно, но ты не пойдешь.
– Я знаю, что не пойду, я ничего и не говорю, но почему бы мне и не пойти? Все идут, а я…
– Ты не пойдешь, доченька, – говорит мама. Она обнимает меня и объясняет, что мне это не под силу. – Как я могу тебя пустить? Ты очень устанешь, потом, ты такая неосторожная, свалилась в водопад и ободрала спину. За тобой еще надо следить – отстанешь, потеряешься…
– Я не буду теряться, я буду очень осторожная, я буду послушная.
– Нет, Тина, нет и нет.
В шесть часов утра пионеры ушли в поход.
Когда я проснулась, вокруг дачи было безлюдно. Младшие девочки играли в лапту возле липовой аллеи. Я бросилась в высокую траву, перевернулась на спину и долго лежала, глядя в небо.
Мне казалось, что жизнь моя с этой минуты стала неинтересной и серой. Ничего не радовало меня.
Солнце лежало на небе, как брошенный в море подсолнух. Крапива, лопух и кружевные зонтики дудок качались надо мной. По стеблю лопуха полз длинный красный жук. На спине его были нарисованы два черных глаза. Кто-то все время возился и хрустел в траве у моего уха. «Можете хрустеть, ползать, трещать, летать, скрипеть. Мне вас не нужно. Больше никогда я не буду собирать вас в коробочки. Не буду читать книг, не буду умываться, не буду качаться на двери, не буду чистить зубы… Все кончено…»
– Софья Петровна! Ребята аптечку забыли!
Я вскочила и увидела на террасе Асю Варравину. Она держала в руках небольшой чемоданчик и растерянно оглядывалась. Я подбежала к ней.
– Не кричи, – сказала я, – обожди, не зови никого.
– Так ведь нужно…
– Я их догоню, я отнесу!
– Вот так так – догоню! Они в шесть часов утра ушли, а сейчас десять скоро.
– Ничего, они ведь отдыхать будут. Дай мне аптечку. Ася! Дай, пожалуйста. Ведь кто-нибудь мог поранить ногу или руку, у них даже йода нет, ты подумай. Даже нет ни одного бинтика! А потом, знаешь, мама мне сказала, что я не могу в пионеры подавать, что меня не примут потому, что…
– Как это – не примут? У тебя родители не буржуи.
– Нет, мама говорит, что я не выносливая и что у меня нет силы воли, а у меня есть. Дай аптечку, Ася. Вот увидишь, я донесу. Еще как они обрадуются!
– Это-то да, – Ася посмотрела на меня искоса, завязывая косичку, – да ты не дойдешь.
– Почему это я не дойду? Все дойдут, а я не дойду!
– А что я Софье Петровне скажу?
– А ты не говори маме. Я сама скажу, когда вернусь.
– А искать начнут!
– Когда хватятся, скажи, что я аптечку понесла.
– Попадет мне, пожалуй.
– А ты-то при чем?
– Да я, если хочешь знать, сама бы пошла, если бы не дежурство. И потом, нога у меня наколотая – на пятке хожу. Ну ладно, иди. Держи чемодан. Подожди, я тебе хлеба дам – проголодаешься по дороге. А как идти, знаешь?
– Конечно, знаю! Все туда и туда – по дороге, а потом свернуть на тропу через лес. Я знаю.
Ася вынесла мне пакетик, завернутый в газету.
– Возьми. А на ногах что?
– Сандали-и-и! – Я уже бежала по липовой аллее, потом скосила кусок через кусты, чтобы не попасться маме на глаза, выскочила на мягкую проселочную дорогу и пошла по ней все прямо и прямо…
Солнце палило в макушку. Тень моя съежилась и спряталась под подошвы. Стало жарко. Я сошла на узкую тропинку между лесом и дорогой. По ней было прохладней идти. Я проходила мимо зеленых лесных пещер, чешуйчатых рыжих сосен и мимо темных елей, как бы одетых в колючие широкие юбочки. В траве мелькали черника и земляника – щедрые лесные ягоды. Тихая собака прошла невдалеке и скрылась за деревьями. Долго я шла, глядя по сторонам. Из-под моих ног вылезла косая тень и побежала рядом.
Я устала, села в холодок на траву и развернула Асин пакетик. В нем оказался большой ломоть хлеба и огурец. Когда я начала есть, то нащупала три леденца, прилипших к хлебу. Это Ася отдала мне свои конфеты.
Я быстро съела завтрак. Очень хотелось пить. Вокруг было много черники. Я стала переползать от куста к кусту и рвать ягоды, пытаясь утолить жажду.
Неожиданно черничник кончился, и я увидела перед собой гадюку, свернувшуюся, как диванная пружина. Она лежала на солнечной тропинке, бежавшей по черничнику. Скользкая плоская головка змеи была приподнята, неподвижные глаза, перечеркнутые узким зрачком, смотрели на меня с равнодушной жестокостью.
«Сейчас укусит. Сейчас укусит. Вот она меня сейчас укусит», – говорил во мне кто-то тоненьким голоском.
Лежа на животе с зажатой в руке черникой, я смотрела в отвратительные мрачные глаза змеи, боясь пошевельнуться.
Внезапно змея начала медленно развинчиваться и темным ручейком влилась в черничник на другой стороне дорожки…
Когда перестала шевелиться трава, раздвигаемая упругими зигзагами змеиного тела, у меня забилось сердце, и я выдохнула воздух, судорожно зажатый в легких.
Я осторожно встала и долго шла по лесу на цыпочках, без дороги…
Деревья стали редеть, и лес кончился. Передо мной открылось большое пространство, поросшее вереском. Пахло разогретой землей и душистым запахом цветов. Нежный и мягкий на вид сиреневый ковер оказался жестким и колючим, а земля – неровной и каменистой. Ноги цеплялись за упругие густые кустики, сандалии скользили по ним. Я шла осторожно, чтобы не упасть и не разбить чего-нибудь в аптечке.
Из-под ног вылетели невиданные черные кузнечики. Они на лету раскрывали крылья на красной подкладке, с треском совершали полукруг и скрывались в вереске.
Красные трескучие полукруги мелькали передо мной, и я не смогла удержаться. Я поставила чемоданчик возле заметного кустика с высокой верхушкой и погналась за кузнечиком. «Поймаю только одного», – подумала я и хлопнулась на него всем телом, зарываясь в колючий душистый вереск. Но в ту же минуту красная мантия мелькнула у меня перед глазами и исчезла. Наконец, после нескольких неудачных попыток, я поймала одного зазевавшегося кузнечика. Он сучил сухими ножками и все время что-то жевал. «Отнесу его в аптечку, заверну в вату и покажу девчонкам», – думала я. Но где же кустик с высокой верхушкой? Его нет. Вернее, их много. Под которым из них стоит моя аптечка?
Долго я шарила по кустам, спускаясь с холмиков, поднимаясь на холмики, и наконец села на землю.
«Нет, я не гожусь в пионеры! Мама права. Мне надо было нести аптечку. Мне надо было идти все время прямо и прямо по дороге, а потом свернуть на тропинку и идти через лес. У меня нет никакой силы воли и сдерживающих центров. Где они находятся, эти центры? Почему у меня их нет? Почему я, вместо того чтобы съесть свой завтрак, отдохнуть и идти дальше, почему я вместо этого стала рвать чернику, ползать по земле как бог знает кто? Если бы я не ползала, я бы не встретилась со змеей, не помчалась бы как одурелая по лесу, не потеряла бы дорогу и не выскочила бы на это горячее розовое поле с кузнечиками. Какой-то дурацкий кузнечик отвлек меня от цели, и вот я сижу, усталая, исцарапанная, посредине вереска. Неизвестно, где мой дом, неизвестно, где наши ребята, неизвестно, где мой чемоданчик, из-за которого я пошла. Никогда из меня ничего не выйдет! Нельзя, чтобы все было интересно. Наверно, мимо чего-то надо проходить и делать вид, что тебе совсем неинтересно…»
Так я сидела под жарким солнцем на теплом жестком вереске, ругала себя и думала, как быть.
«Может быть, лечь и умереть здесь, чтобы через много лет люди нашли мои белые кости?» Но умирать не хотелось, и я пошла на крайние меры.
Я вспомнила, что кухарка детдома, тетя Маша, когда потеряла поварешку, привязала платок к ножке стола и сказала: «Черт, черт, поиграй и обратно отдай!» Поварешка нашлась, когда съели суп, – она оказалась на дне кастрюли.
Стола не было, и я привязала платок к своей ноге.
– Черт, черт, поиграй и обратно отдай! – тихо сказала я. Говорить неизвестно с кем было страшновато. Голос мой прозвучал незнакомо, как будто со стороны. Чемоданчика все равно нигде не было.
Я еще долго искала его, присаживаясь и поднимаясь. Нет, не найти мне его больше никогда!
В отчаянии я упала на землю… И сквозь кусты неожиданно увидела свою аптечку. Она спокойно стояла на месте, не шевелясь и не подавая голоса. Она, наверное, хихикала и пряталась за куст каждый раз, когда я проходила мимо.
Я бросилась к ней, схватила ее за ручку и, счастливая, побежала по вереску, как по воде, к далекому лесу, туда, где кончалось поле и где мне чудилась близкая дорога.








