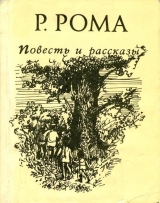
Текст книги "Повесть и рассказы"
Автор книги: Руфь Рома
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 11 страниц)
ТОНКИЙ ЛЕД
На Невском было трудно думать. Приходилось отвлекаться на перекрестках – смотреть налево, потом направо. Отвлекали люди – шли мимо, обгоняли, выныривали из-за плеча в ту самую минуту, когда удавалось сосредоточиться. Пришлось свернуть на тихий канал Грибоедова, идти мимо Дома книги, мимо больницы Перовской, мимо длинного скучного здания, строгая красота которого неожиданно открылась ей с противоположной стороны улицы, мимо огромных чугунных листьев и цветов, застывших в левых поворотах на решетке Михайловского сада. Здесь на ходу можно было рассуждать в поисках решения. Решать надо было самой. Она уже знала, что, когда о семейных неурядицах рассказывают вслух, они выглядят мелко, пошловато. Она знала, что так называемые страдания ревности надо терпеть в одиночку. Они ни в ком не вызывают сочувствия. Обманутый человек всегда немного смешной.
Когда рассеялось романтическое облако влюбленности, она обнаружила, что последний человек в их семье – «жена сына», а первый – свекровь с ее житейскими формулами: «Зачем вам дети?», «Мужчина должен развлекаться», «Деньги – залог здоровья».
Из комнаты, где она раньше жила с матерью, она переселилась в просторную квартиру с красным деревом, портьерами, безделушками, сервизами, с глупой, задыхающейся от жира собакой, похожей на кудрявого поросенка.
«Боже мой, – думала она, – еще какой-нибудь месяц, и я раскусила бы этого человека, а теперь он мой муж. Что же делать?» Прошло три года. Детей нет. «Зачем вам дети?» Подлый какой вопрос. Все трудно. Трудно сговориться, трудно побороть самолюбие. Трудно привыкнуть к снисходительному тону мужа, к словам: «Что ты там малюешь?», «Художник – это не профессия», «Пойдем в кино, мадам Рубенс». «Почему, – продолжала она думать на ходу, любуясь сквозь решетку сада и светлыми стенами Русского музея, – почему я среди всей этой красоты, среди удивительных, современных зданий должна думать о рассуждениях свекрови? Думать о подтяжках мужа, брошенных на мои эскизы? Вспоминать, как он стоит перед зеркалом и завязывает галстук с миной героя из ковбойского фильма? Да, именно так он и стоит на длинных жестких ногах, выдвинув вперед челюсть. Свекровь с пыльной тряпкой в руке смотрит на него с восхищением. И сама какая-то пыльная, плюшевая, ротик бантиком, и слова из него вылетают, похожие на бантики: «Витютюсик, Витетенчик…» А когда приходит мама, свекровь зовет ее пить чай в кухню: «У нас уютненько на кухнечке, правда?» – хотя никто у них в кухне не ест. А мама все понимает, но улыбается и не показывает виду. Устало садится на белый кухонный стул у окна и пьет чай из тяжелой щербатой фаянсовой чашки. Руки ее в марганцовке, ногти коротко острижены, от нее пахнет йодом, наркозом, больницей. Много лет она подает инструменты профессору у операционного стола, гипсует, накладывает повязки.
Свекровь смотрит на маму брезгливо, после ее ухода открывает форточку, кипятит ложку и чашку…
Нет, надо кончать, давно надо было решиться…»
Глазам делается холодно. Ветер катит слезу косо по щеке. Какой хороший был морозец неделю подряд, а сегодня все расквасилось, потекло. Привычная ленинградская дымка висит в воздухе.
Яркий, упругий снег превратился в бесшумную скользкую мякоть. Нулевая температура после двадцатиградусного мороза. Свекровь с утра шуршит порошками.
Как сказать? Как решиться?
Подруги завидовали – вышла замуж за крупного инженера. Начнут ужасаться, весело сочувствовать, сплетничать, советовать. Уехать из города? Куда? А училище? Так трудно было поступить, и сейчас, когда окрепла рука, стал точным глаз, уезжать просто глупо. Что же делать? Уйти к маме? Пойдут причитания, слезы, зашушукаются соседи, обе матери станут мирить, начнутся обычные доводы свекрови: «Сама виновата, надо было его держать в руках». От одних этих разговоров можно удавиться. Как их избежать? Как уйти, чтобы никто ничего не спрашивал? Раз ушла, значит, плохо было, значит, невмоготу.
О Викторе думать не хотелось.
Она вышла на крутой мостик и внезапно увидела на рыхлом, покрытом лужами льду Мойки мальчишку лет десяти. Он катался на коньках, и каждый его шаг сопровождался хлопаньем мокрого снега.
– Эй, парень! – крикнула она, бросаясь к решетке. – Вылезай оттуда, живо!
– Чего? – спросил мальчик, поднимая к ней лицо, до удивленья похожее на лицо васнецовской Аленушки, нежное, большеглазое, иконописное.
«Иванушка», – подумала она. – Лед слабый, провалишься!
– А тебе-то что? – простуженно ответил парнишка и промчался мимо. У самого моста он лихо развернулся, и, когда тормозил, от пяток его разлетелись крылышки, как у Меркурия в Эрмитаже.
«Что делать, никого нет? – растерянно думала она, оглядываясь. – Ведь провалится, утонет прямо у меня на глазах…» И вдруг заорала незнакомым, сдавленным голосом:
– Вылезай сейчас же, хулиган такой, а то милицию позову!
– Вали отсюда! – нахально прохрипел мальчишка. – Чего привязалась?
Однако повернул к спуску и тут, у берега, сразу провалился по самые плечи. Она судорожно вобрала в себя воздух открытым ртом и, срывая на ходу шубу, побежала вниз по лестнице. Мальчик уже выкарабкался на гранитную площадку спуска. Он стоял в углу, маленький, мокрый, и смотрел на нее своими бесстрашными глазами. Смотрел неприязненно, независимо, как ни в чем не бывало.
– Ты чего разделась? – спросил он, выжимая на себе рукава мокрого пальтишка. – С ума сошла! Надевай, простудишься!
Пытаясь завернуть его в шубу, она приговаривала:
– Вот видишь! Ну ничего, ничего, все хорошо… Ты где живешь? Я тебя провожу.
– Чего ты? Не надо!
Мальчишка резко отшатнулся и, брякая коньками о ступеньки, побежал мимо нее вверх. Там он снял коньки, обхватил себя руками, притоптывая мокрыми ботинками, крикнул: «Ух, жарко!» – потом попытался свистнуть, но замерзшие на ветру синие губы не слушались его. Тогда он показал ей язык и пошел, не торопясь, своей дорогой. Сначала вдоль ограды Мойки, потом перешел через улицу и исчез за углом, ни разу не оглянувшись.
Она подняла шубу с мокрого снега. Темная вода бесшумно качалась в маленькой полынье у самого берега Мойки. Какой-то прохожий и дворничиха, вышедшая из подворотни, с удивлением смотрели на нее, когда она одевалась. «Наверное, думают, что я собираюсь купаться». Она прошла мимо дворничихи, застегивая шубу. Перед глазами стояло замерзшее, озорное, упрямое лицо паренька. Она представила себе, как он открывает дверь своим ключом – родители, наверное, еще на работе, – ставит чайник на газ, переодевается, развешивает по стульям мокрые вещички, потом пьет горячий чай, обжигаясь и шмыгая носом. А может быть, захлопнув за собой дверь, плачет, когда никто его не видит. Плачет, освобождаясь от пережитого страха, ревет, всхлипывая, как полагается мальчишке его возраста. Нет, вряд ли ревет, заревел бы сразу, Она опять мысленно увидела его прямую спину, торчащие вразновес уши его шапки, независимый вид, когда он, не оглянувшись, заворачивал за угол…
Внезапно ее мысли тоже как бы завернули за угол. «Значит, так – думала она, – сейчас сложу чемодан, вызову такси, поеду к маме. Если свекровь начнет спрашивать, скажу – уезжаю домой. Начнет кричать, скажу – не кричите, дело решенное. Внизу ждет машина».
1968
ПОДРУГА
Было то время осеннего ленинградского дня, когда в город медленно и неуклонно вползает вечер. За крыши, купола и шпили города еще цепляется свет, а в нижних этажах домов и на воде каналов уже лежит сырая предвечерняя тень.
В дальней аллее Летнего сада на скамье сидел мужчина. Сначала он сидел боком, как бы собираясь уходить, потом встал и задумался, машинально встречая и провожая глазами прохожих, потом опять сел, удобно прислонившись к спинке и широко раскинув сильные руки, потом вскочил и стал ходить вокруг скамейки как привязанный.
Быстро темнело. Прохожих становилось все меньше и меньше. Между черными стволами старинных залатанных лип далеко на Марсовом поле мелькали машины.
Мужчина медленно опустился на скамейку и безнадежно свесил руки меж колен.
В конце аллеи показалась женщина. Ее высокие острые каблуки бесшумно вонзались в песок, светлые волосы отклонялись под ветром, как пламя свечи.
Он не вскочил, а, наоборот, еще плотнее уселся на скамейке. Только в напряженном повороте головы чувствовалось нетерпеливое ожидание.
Каждый шаг, приближавший к нему эту женщину, был маленькой неизбежной частью того большого шага, который сделал он после долгих раздумий и все-таки очертя голову.
– Что случилось? – сразу спросила женщина, присаживаясь на скамейку рядом с ним.
– Ничего. Ничего не случилось, – ответил он, с восхищением разглядывая знакомое лицо – большие прозрачные глаза, короткий нос и маленький бледный рот.
– Что случилось? – ее губы шевелились так, будто она все время выпускала изо рта колечки дыма. – Почему такая таинственность? Вот твоя записка. Что-нибудь с Леной?
– Да ничего не случилось. Просто… Просто я хотел тебя видеть, – мягко сказал мужчина и виновато улыбнулся.
– Но почему здесь? В конце концов, я могла прийти к вам. Что за секреты? Где Лена?
– Лена, наверное, уже дома. А может быть, куда-нибудь ушла. И вообще, при чем здесь Лена?
– То есть как это – при чем? – возмутилась женщина. – Лена моя подруга. Могу я встревожиться, если ты вдруг вызываешь меня сюда, в такую даль, на третью скамейку слева. Могу?
– Ты могла и не прийти. В такую даль.
– Могла, конечно. Я и не хотела приходить, но потом подумала: а вдруг что-нибудь случилось? Я даже хотела позвонить Лене.
– И позвонила?
– Нет.
Он обнял ее за плечи как бы невзначай и сказал:
– Было бы глупо, если бы ты позвонила.
– Но почему глупо? – обиделась она. – Ведь я волновалась. Лена моя лучшая подруга, самая близкая. Я бываю у вас почти каждый день, а ты вызываешь меня сюда. Я подумала – что-нибудь случилось и ты хочешь сказать мне это без нее. Ведь Лена такая нервная, может быть, ты не хочешь при ней говорить.
Мужчина притянул женщину к себе, и ее голова оказалась у него на плече.
– Она нервная, но очень выдержанная, – сказала женщина, устраиваясь поудобнее. – Одна я знаю, сколько ей приходится волноваться то из-за Димки, то на работе. Мне-то она все говорит. Ты тоже заставляешь ее страдать. А она такая умница, такой чудесный человек…
– Помолчи, – тихо сказал мужчина, запуская руку в пышные волосы женщины, так что ее затылок лег на его ладонь.
– Я ничего такого и не говорю, – ответила женщина. – Я много раз думала о Лене – она такая чудесная, добрая, столько сил отдает тебе и Димке, а о себе часто забывает. У нее нет времени даже причесаться как следует. Вечно растрепанная. Прибежит из своей школы, руки в чернилах, – сразу за обед, а потом за тетрадки. Нет, ты ужасный эгоист. Зачем ты меня позвал? Все-таки странно.
Он провел указательным пальцем по ее теплой тонкой шее, закрыв глаза, нарисовал кружок на плоском месте у ключицы и почувствовал, как под его рукой едва ощутимо бьется робкая жилка.
– Нет, ты мне все-таки скажи, зачем ты меня позвал? – снова спросила она вялым голосом. – Не может быть, чтобы у вас с Леной что-нибудь случилось. Ты привык к ней и ничего не замечаешь. Тебе все равно, в конце концов, как она причесана, как одета, как выглядит. Но это, пожалуй, лучше, чем…
Он внезапно наклонился к ней и поцеловал в губы. Она надолго замолчала, а потом снова заговорила, переведя дух:
– Ты с ума сошел! Совсем с ума сошел! Что ты делаешь? А Лена так тебе верит! Она такой чуткий, настоящий человек! А как она помогала тебе, когда ты учился! Все-таки вы, мужчины, никогда этого не цените. Ну, как тебе не стыдно?!
– Замолчишь ты или нет? – хрипло прошептал он и стал целовать ее лицо и шею, а она, покорно поворачивая голову, продолжала говорить:
– Нет, я за нее возьмусь! Я заставлю ее пойти к портнихе – нельзя быть такой распустехой. Если бы у меня были ее возможности, разве я так одевалась бы? И потом, у нее ужасно блестит лицо.
– Перестань, – мрачно сказал мужчина. – Перестань болтать!
– Но ведь когда-то она была самая хорошенькая в классе. Хотя она и сейчас очень интересная женщина, если ее как следует причесать и одеть.
– Оставь в покое Лену, слышишь?
– Но она должна думать об этом. Ты такой красивый. Нельзя ей так распускаться. Я всегда была уверена, что ты когда-нибудь увидишь и других женщин вокруг себя. Всегда была уверена, все эти годы, с самой вашей свадьбы…
Он внимательно и остро посмотрел ей глубоко в зрачки и, отодвинувшись, привалился спиной к скамейке. Она закинула руки ему на шею и, робко заглядывая в глаза, спросила:
– Ты что-то хотел мне сказать? Зачем ты меня позвал?
Мужчина разомкнул руки женщины и быстро встал. Он подумал: «Она похожа на нашего кота – такой же недобрый прозрачный взгляд и маленький розовый нос».
– Прости меня, – сказал он, – я виноват перед тобой. Я действительно не знаю, зачем я тебя позвал. Прости.
– Я не понимаю, – растерянно протянула женщина, – куда же ты? Когда мы встретимся? – крикнула она ему вслед.
– Как всегда – каждый день у Лены, – ответил мужчина и быстро, не оглядываясь, пошел по аллее.
1968
ТРЕТЬЕ ГАДАНЬЕ
Не раз в жизни я сталкивалась со странными историями, загадочными для всех, кто не знал их причины. Но в нескольких случаях простая разгадка была мне известна. Одну из таких историй я попробую рассказать.
Это было, наверное, в 1943 году. Театр, в котором я работала, гастролировал в одном из городов Северного Кавказа. Все поселились на частных квартирах. Мы с мужем оказались в доме, где хозяйкой была интеллигентная вдова со взрослой дочерью.
Жили мы в маленькой квадратной комнате с широким окном. Стены ее были сплошь завешаны картинами, писанными маслом. Видно было, что автор их – человек одаренный, но дилетант. На картинах этих, очень ярких, сине-зеленых по цвету, повторялись пейзажи с низким горизонтом, когда много неба и мало земли. В углу, как икона, висел портрет хозяйской дочери Раисы, очень похожий, старательно выполненный, но не так, как пишут мастера – от главного к второстепенному, а как-то вкривь и вкось, без соблюдения пропорций, когда одна деталь приставляется к другой, а в общем, неизвестно почему, все получается очень похоже.
Большие длинные глаза с испуганным выражением, прямой нос, похожий на стрелу, направленную вниз, прекрасный крупный рот, расположенный несколько кривовато, – все это было любовно заключено в овальную линию щек и подбородка. Черная гладь волос низко лежала над круглыми бровями. Просыпаясь, я каждый раз видела этот портрет и находила в нем все больше сходства с оригиналом.
В первый же день, несмотря на радушие наших гостеприимных хозяек, я почувствовала, что атмосфера в доме тревожная, – между матерью и дочерью как бы натянуты тугие нити, готовые вот-вот лопнуть.
Наше присутствие мешало возникновению открытой ссоры, но тем не менее было видно, что мать недовольна дочерью, а дочь это раздражает и злит. Она металась, именно металась по комнатам, плоским ударом ладони распахивая двери, и за ней летел, не поспевая, серый пуховый платок, накинутый на плечи.
Мать молча следила за дочерью осуждающим взглядом, и один раз я услышала, как она тихо сказала: «Опомнись».
К вечеру дочь убегала куда-то и возвращалась поздно, прикрывая платком лицо.
Однажды утром я доставала из-под кровати туфли и нечаянно выгребла деревянную ногу с ремнями и застежками. Нога, выкрашенная розовой масляной краской, лежала передо мной на полу, бесстыдно и страшно. Я сразу затолкала ее далеко под кровать и вышла на улицу.
Солнце стояло над городом. Тени не было. Сушь шуршала в безветренных листьях деревьев. Вместе со мной и навстречу шли люди, озабоченные, редко улыбающиеся, отчужденные.
И вдруг в этом залитом солнцем городе я увидела застенчивое, прозрачное северное лицо и узенькую фигуру нашей ленинградской знакомой – балерины из мюзик-холла. Мы обрадовались друг другу, как сестры, в этом незнакомом городе, возле которого, не дотянувшись, рычала война.
Больше часа, наверное, мы расспрашивали друг друга и рассказывали о том, что произошло с нами за такие короткие в мирной жизни и такие невыносимо долгие годы и месяцы войны, отделявшие нас от Невского проспекта, Невы – от всего, что дорого и свято, от близких людей, с которыми неизвестно когда придется свидеться.
Уже прощаясь, она спросила, удобно ли мы устроились.
Я ответила, что жить нам в этом городе всего неделю, так что особенных удобств нам и не нужно, просто хочется отдохнуть от бесконечных переездов – вагонов и машин. И, как это иногда бывает, неожиданно для себя я рассказала, что в доме, где мы остановились, неспокойно, хозяйка недовольна дочерью, а сегодня утром я нечаянно вытащила из-под кровати чью-то искусственную ногу.
– Это протез ее мужа, – вдруг сказала балерина. – Они очень хорошие люди, но она запуталась!
– Кто? – не поняла я.
– Раиса. Ее муж – бывший боевой летчик. Ас. Был сбит. Она полстраны объездила – искала его по госпиталям. Привезла полуживого, без ноги. Сидела около него дни и ночи – выходила. С тех пор осталась в госпитале сестрой. А он теперь начальник автоколонны, надолго уезжает. Возвращается, а конвейер уже передвинулся. Ведь жизнь, знаешь, как конвейер, – время прошло, и все стало другим. Опять надо приспосабливаться к этому другому, что-то пропущено.
– Ну, не совсем так, – возразила я.
– А в этом случае так, – ответила моя знакомая и скороговоркой, стесняясь и брезгливо морщась, стала рассказывать мне про отношения Раисы и какого-то ленинградского скрипача, женатого, пьющего человека, который приехал к своим родителям с женой и ребенком. Не закончив рассказа, она горестно добавила: – Как она могла… такой стыд… такая пошлость. Все страдают. Я к ним и ходить перестала. Не хочу вмешиваться. Скажет, не твое дело, или как еще говорят в таких случаях.
– А ты все-таки поговори с ней.
– Нет, нет, не могу решиться.
Моя знакомая заторопилась, видимо жалея, что рассказала мне эту историю. Мы попрощались и больше никогда не виделись. Но разговор этот имел самые неожиданные последствия.
Бытие наше шло своим чередом. Мы каждый день играли спектакли, возвращались поздно. По первому звонку хозяйка открывала нам дверь, говорила разочарованно: «А вот и вы!» – вносила шумящий самовар, садилась с нами к столу, была приветлива и внимательна. Но я чувствовала глубокое раздвоение этого внимания. Она как бы ходила мысленно вокруг дома и по городу. Воображение рисовало ей другие комнаты, других людей и дочь в дурной компании, с дурным человеком. Она отвечала нам, но в глубине ее глаз таилась чуткая настороженность. Ее лицо, когда-то, наверное, красивое, а теперь старое и все-таки красивое живописной смуглой резкостью морщин и теней, отражало, невольно для нее, тоскливую готовность бежать куда-то – то ли к двери, по звонку, то ли в темноту, за дочерью.
Так и в этот вечер, поужинав с нами, она подсела к остывшему самовару, взяла книгу, и глаза ее остановились между строк.
Я стала раскладывать пасьянс. Кто-то из друзей научил меня его раскладывать, и тогда был самый разгар моего им увлечения. Раздался звонок. Хозяйка кинулась к двери. Раиса вошла и остановилась перед нею, придерживая платок обеими руками странным жестом, как бы схватив себя за горло. Некоторое время мать и дочь – обе стройные, высокие, с яркими чернобровыми лицами – глядели друг на друга не отрываясь, глаза в глаза.
– Молчите, мама! – выкрикнула дочь навзрыд. – Не говорите мне ничего.
– Я-то молчу… – ответила мать, отворачивая лицо. – Я-то молчу… – повторила она и, не глядя на нас, быстро прошла в свою комнату.
Я чувствовала себя неловко. Раиса, по-прежнему кутаясь в платок, остановилась у стола.
– Все гадаешь? – неожиданно спросила она.
– Нет, не гадаю, это пасьянс.
– Погадай мне.
– Я же говорю – это не гаданье…
– Мне очень нужно.
– Не умею я гадать, правда.
– Ну что ж, – протянула она, укоризненно подняв брови, опустив глаза, – раз не умеешь, ничего не поделаешь. А жаль, очень жаль.
Она налила себе остывшего чаю, не стала пить его за столом, помедлив у двери, обернулась, хотела сказать что-то еще, но удержалась и ушла в комнату матери.
Глядя ей вслед, я подумала, что мы сверстницы и ей хотелось, наверное, поделиться со мной как с чужим человеком, именно как с чужим, которому легко рассказать то, что от близкого надо скрывать, что тяжело кипит на сердце в молчании, а высказанное – облегчает душу. Мне хотелось встать и вернуть ее, но я удержалась, боясь показаться навязчивой, и вернулась к своему пасьянсу.
На следующий день, когда я собиралась уходить, в дверь позвонили. У порога стоял широкоплечий мужчина лет тридцати, с твердым лицом и внимательным взглядом. Он был бледен и весь, с головы до ног, покрыт мелкой светлой пылью. Она набилась в тонкие морщины у крыльев носа, у глаз, сделала махровыми ресницы и матовой потертую кожаную куртку.
– Раисы нету, – сказал он утвердительно, прошел в комнату и сел на диван, вытянув одну ногу.
– Вы ее муж, – сказала я.
– А вы у нас живете? – спросил он и взглянул на меня из-под густых запыленных бровей.
– Да, живем.
– Давно?
– Нет, дня четыре.
– Ну, я пошел, – неожиданно сказал он и стал тяжело подниматься с дивана, пытаясь скрыть свою неловкость.
– Куда же вы? – спросила я. – Рая скоро придет.
Я хотела задержать его, испытывая не жалость, а скорее участие и потребность сделать что-то хорошее для этого человека.
– Нет, не могу, ждать не могу. Вот передайте, пожалуйста, Раисе или матери. – Он протянул пакет, завернутый в газету. – Здесь деньги, – добавил он, а потом, уже прощаясь, сказал: – Послезавтра, ко дню рождения, приеду.
День рождения Раисы праздновали скромно. Кроме нас, все равно присутствовавших в доме, была еще тетка Раисы, удивительно непохожая на свою сестру, – быстренькая, кривоногая, с каким-то смыленным лицом, без ясных черт, с розовыми глазками и маленьким круглым пучком чуть пониже макушки. Она суетилась больше всех – что-то резала, пекла, расставляла на столе.
Муж Раисы пришел поздно, к самому ужину. Он сразу стал умываться с дороги, и Раиса подбежала к нему с полотенцем. Оно развевалось сзади как белый флаг.
Мать пригласила к столу. Муж Раисы вышел последним, сел на один из свободных стульев рядом со мной – ему было все равно, где сидеть. Держал он себя как-то буднично, помалкивал, только изредка взглядывал на жену, когда она не смотрела в его сторону.
С удивлением я поняла, что он жалел ее. Жалел, замечая ее скованность, смущение, прижатые к телу локти, встречая робкий, уклончивый, виноватый взгляд.
Было невесело. Раису поздравляли, минорно звенели рюмками, она принимала поздравления, сверкала зубами, улыбаясь своим красивым ртом. Тетка не переставая жевала и охотно пила водку. Она следила за Раисой круглыми осоловевшими глазками и время от времени укоризненно покачивала головой, ведя сама с собой безмолвный разговор.
Мать наклонилась к зятю и спросила:
– Тебя завтра будить или сам встанешь?
– Спасибо, мама, я ночевать не буду. За мной приедут через час. В ночь выезжаем – срочное задание.
– Может, останешься? – спросила она, пытаясь заглянуть ему в глаза, а он, скользя взглядом по комнате, ответил рассеянно и тихо:
– Нет, не могу. Не могу – не имею права. – Потом поднял рюмку и сказал: – Поздравляю тебя, Рая. Спасибо за все. Желаю тебе счастья и здоровья.
Раиса вскочила и выбежала из комнаты.
Я долго не могла заснуть и решила погадать Раисе. Я не имела права ни советовать, ни подсказывать и вообще вмешиваться в жизнь незнакомых мне людей. Но то, что я не могла сказать ей прямо, могло быть высказано косвенно, через гаданье, основанное на случайной моей осведомленности.
Утром, когда мы остались вдвоем, я сказала Раисе, что согласна ей погадать.
– Вот видишь, – сказала она и быстро села к столу. – Я так и знала, что ты умеешь.
Я никогда не умела гадать, и мне пришлось выдумать целую историю.
– Понимаешь, – отважно начала я, тасуя карты, – этому гаданью меня научила одна испанка. Она предупредила, что им можно воспользоваться только три раза в жизни. Тебе я буду гадать в последний раз. И никому про это не рассказывай. Поняла?
– Что ты! Разве можно…
Раиса смотрела на меня с отчаянием, доверчивым ожиданием.
Мне стало страшно. Я почувствовала, что несу ответственность за каждое сказанное мною слово. Надо было играть роль равнодушного человека, которому не известно ничего из жизни этой женщины и людей, ее окружающих. Любая фальшь могла меня выдать. Но отступать было поздно.
Я подняла колоду над столом и бросила вверх рисунком. Одна из карт упала вниз лицом. Я открыла ее. Это был король пик.
– Вот твой темный король, – сказала я, и сердце у меня заколотилось.
Собрав карты, я стала раскладывать их улиткой, положив в середину червовую даму.
– Это ты, – сказала я уверенно.
– Я? – протянула Раиса дрожащим голосом и хотела сказать что-то еще.
– Молчи, не задавай вопросов.
Мне надо было собраться с мыслями, распределить все карты по ролям пьесы, которую разыгрывала жизнь, и перевести все на малознакомый мне «марьяжный» язык. Передо мной лежал пестрый хоровод глуповатых королей, нахальных валетов и надменных дам. Черная масть – отрицательные персонажи, красная – положительные.
– У тебя на сердце два короля. Темный король – обман. Вот рядом черная десятка – его неправда и твоя печаль. Погоди… вот еще чья-то печаль… ага, это плачут две дамы… пожилые. А вот еще одна, молодая. Но не ты. А эта черная двойка – твои слезы.
По моему гаданию все дамы плакали. Ничего не поделаешь, так было в жизни.
– У тебя какой-то стыд на сердце. Он уйдет, когда будешь со своим добрым королем. Вот он. Твоя судьба с ним. Около него красная десятка – это его правда и твое счастье. А это что? – Я показала ей туз пик и спросила, не поднимая глаз: – Была какая-то большая болезнь?
– Была, – ответила Раиса чуть слышно. – Он умирал. Был тяжело ранен.
– Вот видишь, – сказала я, – значит, правда.
– Да, удивительно… – снова прошептала Раиса.
– Молчи. Отвечай только, когда буду спрашивать, – сказала я, тоже невольно переходя на шепот.
– Слушай. Вот что говорят карты. Ты ошиблась. Все пройдет и забудется только с твоим королем. Он страдает. Не хочет тебе мешать. Думает, это произошло потому, что он раньше был здоров, а теперь болен. Думает, что ты его больше не любишь. А карты показывают, что любишь. Ведь любишь, правда?
– Люблю, – ответила Раиса, не отводя от карт завороженных глаз.
– А тот, темный, – твоя ошибка. Он плохой человек. Нечестный, легкомысленный. С ним у тебя не будет счастья. И потом, там у него жена… то есть дама. Вот… какой-то ребенок… валет.
В подтверждение я протягивала ей первые попавшиеся карты. Я уже совсем запуталась и начала говорить Раисе, что думаю обо всей этой истории. Она или не заметила, или ей все равно было, какими словами сказано то, что ей важно было услышать от кого-нибудь без наставления, без укоризны. Услышать то, что давно, наверное, было решено ею самой.
– Но как же, – шептала она, – какими глазами… Ведь он не простит меня никогда…
– Простит. Увидишь. Он настоящий человек. И не вспомнит ни разу. И ты забудь, если можешь, как страшный сон.
Она подсела ко мне, обняла крепко и заплакала.
Мы долго сидели, обнявшись, как будто знали друг друга с детства. Потом она, приподняв голову, взглянула на меня и спросила тихо:
– А откуда ты знаешь…
– Да карты, карты, – перебила я, смущенно собирая в кучу дам, королей и валетов. – Это гаданье такое – особенное. А теперь вот что сделаем.
Я швырнула карты в печь, на угли, где они долго не загорались и тлели, корчась и чернея, а потом вспыхнули ярко и превратились в серый пепел.
Назавтра мы уехали.
1968











