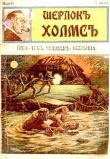Текст книги "Семья Тибо (Том 2)"
Автор книги: Роже Мартен дю Гар
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 41 страниц)
Утолив голод, он выпил подряд два стакана пива и огляделся. В зале почти никого не было. Напротив него на таком же диванчике, только в другом ряду сидела в одиночестве женщина перед пустым стаканом и смотрела, как Жак расправляется с едой. Была она брюнетка, широкоплечая, еще молодая. Жак поймал ее соболезнующий взгляд и почувствовал легкое волнение. Одета слишком скромно для тех профессионалок, что бродят вокруг вокзала. Может, начинающая?.. Глаза их встретились. Жак отвел взгляд: достаточно только знака с его стороны, и она усядется за его столик. Выражение лица ее было наивное и в то же время грустно-умудренное, и было в этом что-то влекущее, притягательное. Поддавшись искушению, Жак с минуту колебался: как бы его освежило нынче вечером это простое, близкое к природе существо, ровно ничего о нем не знающее... Она открыто следила за ним, казалось, она угадывала его колебания. А он всячески избегал встречаться с ней взглядом.
Наконец он взял себя в руки, расплатился с гарсоном и быстро вышел, не оглянувшись в ее сторону.
На улице его сразу пронизал холод. Вернуться домой пешком? Уж очень он устал. Встав на краю тротуара, Жак следил за проезжающими мимо машинами и сделал знак первому свободному такси.
Когда такси остановилось, кто-то коснулся его, – оказывается, та женщина пошла за ним, она тронула его за локоть и с явной натугой произнесла:
– Если хотите, поедемте ко мне. Улица Ламартина.
Он отрицательно, но дружелюбно покачал головой и открыл дверцу машины.
– Хоть довезите меня до улицы Ламартина, дом девяносто семь, – молила женщина, будто решила не отставать от Жака.
Шофер с улыбкой взглянул на него:
– Ну как, хозяин, поехали на улицу Ламартина, девяносто семь?
Женщине показалось или она сделала вид, что ей показалось, будто Жак согласился, и быстро впорхнула в машину.
– Ну ладно, на улицу Ламартина, – согласился Жак.
Машина тронулась.
– Чего ты со мной-то крутишь? – сразу же спросила она, и голос у нее оказался такой, каким ему и полагалось быть по ее внешнему виду, – теплый. Потом, лукаво улыбнувшись, она наклонилась к нему и добавила: – Неужто ты воображаешь, что сразу не видно, что ты сам не свой!
Она ласково обхватила Жака обеими руками, и от этого прикосновения, от этой теплоты он совсем раскис.
Так приятно, когда тебя жалеют! Жак поддался искушению и вместо ответа подавил вздох. Но это молчание отдало Жака в ее власть, она обняла его еще крепче, сняла с него шляпу и положила его голову себе на грудь. А он не противился: его вдруг охватило такое уныние, что он заплакал, сам не зная, почему плачет.
Дрожащим голосом она шепнула ему на ухо:
– На мокрое дело ходил, а?
Жак снова промолчал. Вдруг он сообразил, что действительно мог сойти за злоумышленника – в этом сухом морозном Париже в замазанных до колен брюках, с расцарапанной ветвями физиономией. Он закрыл глаза: он испытывал сладкое хмельное чувство, оттого что уличная девка приняла его за бандита.
А она опять истолковала его молчание как знак согласия и страстно прижала к груди его голову.
Потом предложила совсем уже другим тоном, энергичным тоном сообщницы:
– Хочешь, я спрячу тебя?
– Нет, не стоит, – ответил он и не пошевелился.
Видимо, жизнь научила ее принимать даже то, что было ей непонятно.
– Хрустов тебе хоть не надо? – спросила она после небольшого колебания.
На сей раз Жак открыл глаза и приподнялся...
– Чего? Чего?
– У меня есть с собой триста сорок монет, надо? – сказала она, отпирая сумочку. В разбитном ее тоне слышалась грубоватая, чуть сердитая нежность старшей сестры.
Жак был так растроган, что не сразу ответил.
– Спасибо... Не надо, – пробормотал он, покачав головой.
Машина замедлила ход и остановилась у дома с низкой входной дверью. На плохо освещенном тротуаре не было ни души.
Жак решил, что сейчас она попросит его зайти к ней. Что тогда делать?
Но зря он беспокоился. Женщина поднялась. Потом обернулась к нему и, опершись коленкой в сиденье, в темноте на прощание еще раз обняла Жака.
– Экий бедняга, – вздохнула она.
Найдя его губы, она яростно прижалась к ним поцелуем, как бы желая вырвать тайну, упиться вкусом преступления, но тут же отстранилась.
– Смотри хоть не попадись, дурачок!
С этими словами она выскочила из машины и захлопнула дверцу. Потом протянула сто су шоферу.
– Поезжайте по улице Сен-Лазар. А где нужно, этот господин вас остановит.
Такси отъехало. Жак едва успел разглядеть, как незнакомка, не обернувшись, исчезла в темном подъезде.
Он провел рукой по лбу. Его словно оглушило.
Машина шла, не замедляя хода.
Он опустил стекло, в лицо ему ударил свежий ветер, будто заново окрестив его; он вздохнул полной грудью, улыбнулся и, наклонившись к шоферу, весело крикнул:
– Отвезите меня на Университетскую, четыре-бис.
XIV. Разговор Антуана с аббатом Векаром на обратном пути с кладбища: глухая стена
Как только провожающие продефилировали мимо могилы, Антуан велел шоферу отвезти себя в Компьень, сославшись на то, что ему нужно дать кое-какие указания мраморных дел мастеру, но на самом деле он боялся очутиться на обратном пути, в толпе знакомых, в ненужной близости к ним. Скорый поезд семнадцать тридцать доставит его в Париж к ужину. Он надеялся совершить это путешествие в одиночестве.
Но он не учел игры случая.
Выйдя на перрон за несколько минут до прихода поезда, он с удивлением обнаружил рядом с собой аббата Векара и с трудом удержался от досадливого восклицания.
– Его преосвященство по доброте своей предложил довезти меня на автомобиле, чтобы мы могли поговорить дорогой, – пояснил он.
Тут он заметил усталую, хмурую физиономию Антуана.
– Бедный мой друг, да вы, должно быть, совсем без сил. Столько народу... Все эти речи... Однако позже этот день войдет в анналы вашей памяти как одно из величайших воспоминаний... Очень жалко, что Жак не мог присутствовать...
Антуан начал было объяснять, что при данных обстоятельствах отсутствие брата на похоронах кажется ему вполне естественным, но аббат не дал ему договорить:
– Понимаю, понимаю... Действительно, лучше, что он не пришел. Вы сообщите ему, сколь эта церемония была... назидательной. Сообщите, да?
Тут Антуан не выдержал.
– Назидательной – возможно. Для всех прочих – да, а вот для меня – нет, – буркнул он. – Поверьте мне, эта пышность, это официальное красноречие...
Взгляд его встретился с глазами аббата, и Антуан уловил, что в них вспыхнул лукавый огонек. Аббат придерживался точно такого же мнения относительно надгробных речей.
Поезд подошел к перрону.
Они выбрали плохо освещенный, зато пустой вагон и устроились там.
– Не курите, господин аббат?
Священник торжественно поднес указательный палец к губам.
– Искуситель, – сказал он, беря сигарету.
Прижмурив веки, он закурил, потом вынул сигарету изо рта, с удовольствием оглядел ее и выпустил через ноздри струйку дыма.
– В таких вот церемониях, – добродушно продолжал он, – неизбежно есть одна сторона, – воспользуемся словами вашего друга Ницше, – человеческая... слишком человеческая...16
[Закрыть] И все-таки коллективное проявление религиозного чувства, чувства высшего порядка, всегда действует волнующе, и вряд ли кто может остаться к этому равнодушным. Разве не так?
– Не знаю, – осторожно ответил Антуан после паузы.
Потом повернулся к аббату и молча уставился на него.
За двадцать лет Антуан уже успел изучить эту кроткую физиономию, и этот мягкий, но настойчивый взгляд, и этот доверительный тон, и эту манеру держать голову склоненной к левому плечу, а руки на уровне груди, отчего казалось, что аббат постоянно сосредоточен. Но нынче вечером Антуан обнаружил, что их отношения в чем-то изменились. До сих пор он рассматривал аббата Векара только как производное от Оскара Тибо, – для него аббат был лишь духовным наставником отца. Смерть уничтожила это средостение, исчезли причины для более чем разумной сдержанности. Сейчас они с Векаром были просто два человека, сидевших друг против друга. И так как после целого дня испытаний Антуан уже с трудом подбирал подобающие выражения, он даже с каким-то облегчением заявил без обиняков:
– Признаюсь откровенно, такие чувства мне полностью чужды...
В голосе аббата прозвучала насмешка:
– Однако ж религиозное чувство, если не ошибаюсь, весьма распространено среди прочих человеческих чувств... Что вы об этом скажете, друг мой?
Антуан и не думал шутить:
– Никогда не забуду одну фразу аббата Леклерка, директора Эколь Нормаль, который сказал мне, когда я учился на философском отделении: "Существуют люди вполне интеллигентные, но полностью лишенные чувства артистизма... Так вот, возможно, и вы лишены религиозного чувства..." Понятно, наш милейший аббат хотел просто сострить, но мне кажется, что в тот день он проявил недюжинную проницательность.
– Ежели это так, бедный мой друг, – возразил Векар, не складывая, однако, оружия мягкой иронии, – ежели это так, вас можно только пожалеть, ибо половина мира для вас закрыта! Да, да, человек, который подходит к большим проблемам без религиозного чувства, осужден на то, чтобы понимать лишь малую толику. Красота нашей религии в том... Чему вы улыбаетесь?
Антуан и сам не знал, почему он улыбнулся. Быть может, просто такова была нервная реакция после целой недели тревог, после сегодняшнего дня долготерпения.
Аббат тоже улыбнулся.
– В чем же тогда дело? Значит, вы отрицаете красоту нашей религии?
– Нет, нет, – шутливо отнекивался Антуан. – Готов признать, что она "прекрасна". – И добавил задорно: – Только чтобы сделать вам приятное... Но все-таки...
– Что все-таки?
– Но все-таки, быть "прекрасным" – это еще не значит, что не нужно быть при этом разумным!
Аббат осторожно поиграл пальцами.
– Разумным, – пробормотал он с таким видом, будто это слово подняло целый океан вопросов, о которых он считал ненужным говорить в данную минуту, хотя знал их разгадку.
Он подумал и продолжал уже более напористо:
– Очевидно, вы принадлежите к числу тех людей, которые воображают, будто для современных умов религия теряет свой авторитет?
– Чего не знаю, того не знаю, – признался Антуан; и его сдержанный ответ удивил аббата. – Возможно, и нет. Возможно даже, все усилия современных умов – я имею в виду и тех, кто наиболее далек от веры как таковой, – смутно тяготеют к конструированию каких-то религиозных принципов, к увязыванию понятий, которые в совокупности своей образовали бы некое целое, не так уж сильно отличающееся от того представления, какое многие верующие создают себе о боге.
Священник охотно подхватил слова Антуана:
– А как же иначе? Нельзя забывать условия человеческого существования. Единственно только одна религия может уравновесить дурную сторону наших инстинктов, ощутимую для нас самих. Это единственный критерий достоинства человека. И также лишь она одна способна дать человеку утешение в его муках, стать единственным источником смирения.
– Вот это верно, – иронически воскликнул Антуан, – лишь малое количество людей готово поступиться своим личным комфортом ради истины! А религия как раз – это сверхкомфорт, конечно, морального порядка! Простите на слове, господин аббат. И тем не менее существуют такие умы, для которых важнее понять, нежели верить. И они-то...
– Что они-то? – возразил священник. – Они неизменно становятся на позицию, весьма шаткую, куцую – интеллекта и рассудка. И не способны подняться над ними. Мы можем лишь жалеть их, мы, чья вера живет и развивается совсем в иной области, бесконечно более обширной: в области воли, в области чувств... Разве не так?
Антуан снова двусмысленно улыбнулся. Но вагон был освещен так плохо, что аббат ничего не заметил, он продолжал свое, и именно эта его настойчивость свидетельствовала о том, что он не так уж сильно обманывается насчет этого самого "мы", только что им произнесенного.
– В наши дни воображают, будто желание человека все "понять" само по себе есть свидетельство его силы. А ведь верить – это понять. А понять – это верить. Или, проще, скажем так: "понимание" и "веру" нельзя мерить одною меркой. В наши дни кое-кто не желает считать истиной то, чего не в силах охватить его разум, недостаточно к тому подготовленный или же совращенный односторонним воспитанием. Но это просто означает, что люди топчутся на месте. А ведь вполне возможно достоверное познание бога и доказательство его существования с помощью разума. Еще со времен Аристотеля, который, прошу помнить, был учителем святого Фомы Аквинского, разум доказывает, и весьма убедительно...
Антуан не прерывал аббата, но и не спускал с него скептического взгляда.
– Наша философия религии, – продолжал аббат; ему уже становилось не по себе от этого молчания, – дает нам по таким вопросам доказательства, самые точные, самые...
– Господин аббат, – вдруг весело прервал его Антуан, – а имеете ли вы право говорить: религиозное мышление, философия религии?
– Право? – недоуменно переспросил аббат Векар.
– Да-с, именно право! Собственно говоря, вряд ли существует религиозное мышление, коль скоро мыслить – значит прежде всего сомневаться...
– О, мой милый друг, так мы с вами бог знает до чего договоримся, воскликнул аббат.
– Я отлично знаю, что церковь такими пустяками не смутишь... В течение сотни, даже больше, лет она всячески изощряется, чтобы установить связи между религией и философией или религией и современной наукой, но, простите на слове, все это очень смахивает на ловкий трюк, поскольку то, что питает веру, то, что является ее предметом и столь сильно привлекает к ней натуры верующие, – это как раз и есть то сверхъестественное, которое отрицают и философия и наука!
Аббат пошевелился на скамейке: он начинал понимать, что дело пошло всерьез. И поэтому в голосе его прозвучала досада:
– Вы, очевидно, совершенно не учитываете того, что именно с помощью интеллекта, с помощью философских рассуждений большинство молодежи в наши дни приходит к вере.
– О-го-го! – бросил Антуан.
– Что? Что?
– Признаюсь вам, я лично могу воспринимать веру лишь как слепую и идущую от интуиции. А когда она заявляет, что опирается на разум...
– Стало быть, вы считаете, что наука и философия отрицают сверхъестественное? Заблуждение, мой юный друг, грубейшее заблуждение. Наука просто пренебрегает им, и это совсем другое дело. А философия, любая философия, достойная этого наименования...
– Достойная этого наименования... Браво, браво! Вот опасные соперники и выведены из игры!
– ...Любая философия, достойная этого наименования, неизбежно ведет к сверхъестественному, – продолжал аббат, не давая себя перебить. – Но пойдем дальше: если даже вашим современным ученым и удалось бы доказать, что между их главнейшими открытиями и учением церкви существует кардинальная антиномия, хотя при теперешнем состоянии нашей апологетики это воистину лукавая и нелепейшая гипотеза, что это могло бы доказать, спрашиваю я вас?
– Ну и ну! – улыбнулся Антуан.
– Ровно ничего, – с жаром продолжал аббат. – Доказывает только, что ум человека еще не в состоянии объединить все свои знания, и он продвигается вперед, прихрамывая на обе ноги, а это, – добавил он, дружелюбно улыбнувшись, – не такое уж великое открытие...
Видите ли, Антуан, живем-то мы не во времена Вольтера! Стоит ли напоминать вам, что так называемый "разум" ваших философов-атеистов всегда одерживал над религией лишь весьма обманчивые, лишь весьма эфемерные победы. Существует ли хоть один-единственный символ веры, в нелогичности коего можно было бы уличить церковь?
– Согласен, ни одного! – смеясь, прервал его Антуан. – Церковь всегда умела вовремя спохватиться. Ваши теологи недаром признанные мастера в искусстве фабрикации тонких и, по-видимому, даже логичных аргументов, что и позволяет им быстро оправляться после атак логиков. С некоторых пор, вынужден признаться, – они ведут игру с... с... обескураживающей изобретательностью. Но поддается этой иллюзии лишь тот, кто заранее хочет, чтобы ему поставляли иллюзии.
– Нет, друг мой! Согласитесь же, что последнее слово, напротив, всегда оставалось за логикой церкви, ибо она гораздо...
– ...гораздо гибче, гораздо упорнее...
– ...гораздо глубже, чем ваша. Возможно, вы согласитесь со мной, что, когда наш разум черпает только из собственных своих источников, он способен лишь к словесным конструкциям, которые ничего не говорят нашему сердцу. А почему? Не только потому, что существует категория истин, которые неподвластны общепринятой логике, не только потому, что понятие бога, по видимости, превосходит возможности ума посредственного: главное же, происходит это потому, – постарайтесь понять меня, – потому, что наш рассудок, предоставленный самому себе, не способен разобраться в таких тонких материях – ему просто недостает силы, недостает хватки. Иными словами, подлинная вера, вера живая, имеет право требовать объяснений, которые полностью удовлетворяют разум; но зато наш разум не должен отказываться от такого наставника, как благодать. Благодать просвещает. Истинно верующий человек не только направляет все силы своего разума на поиски бога, он обязан в равной мере смиренно поручить себя богу, тому самому богу, который ищет его; и когда он подымется до бога с помощью рационального мышления, он должен стать пустым и полым, должен стать... зияющим, дабы принять, дабы вместить в себя бога, что и будет ему наградой.
– Иными словами, мысли как таковой еще недостаточно, дабы постичь истину, и требуется взывать к тому, что вы именуете благодатью. Вот это признание, и признание весьма важное, – добавил Антуан, сделав многозначительную паузу.
Произнесены эти слова были таким тоном, что аббат не замедлил с ответом:
– Ох, бедный мой друг, вы жертва своего времени... Вы рационалист!
– Я... я... знаете ли, нелегко ответить на вопрос, кто ты таков, но признаюсь, я лично за удовлетворение требований разума.
Аббат замахал руками.
– И за все соблазны сомнения... Ибо тут и сказываются остатки романтизма: человек готов кичиться тем, что у него голова идет кругом, гордиться своей возвышенной мукой...
– Вот этого-то как раз и нет, господин аббат, – воскликнул Антуан. Вовсе у меня голова кругом не идет, незнакомы мне также и возвышенные муки, ни это хмельное состояние души, как вы изволили говорить. Нет человека, менее склонного к романтизму, чем я. Мне чужды тревоги такого рода.
(Но, произнеся эти слова, Антуан спохватился, что его заявление уже не совсем точно. Конечно, никаких чисто религиозных тревог у него не было, в том смысле, какой вкладывал в эти слова аббат Векар. Но вот уже года три-четыре, как он не без страха познал чувство растерянности человека перед лицом Вселенной.)
– Впрочем, – продолжал он, – если я и неверующий, то было бы не совсем правильно утверждать, что я утратил веру: я склонен считать, что вообще никогда ее не имел.
– Оставьте, – перебил его священник. – Неужели вы забыли, Антуан, каким вы были набожным ребенком?
– Набожным? Нет: послушным, прилежным и послушным. Не более того. Выполнял свои религиозные обязанности, просто как хороший ученик, вот, в сущности, и все.
– Вы слишком стараетесь обесценить свою юношескую веру.
– Да какую веру-то: просто религиозное воспитание. А это, знаете ли, огромная разница.
Антуан не так стремился поразить аббата, как хотел быть искренним с самим собой. На смену прежней усталости пришло легкое возбуждение, оно-то и развивало в нем азарт спорщика. И он вслух сделал полный смотр своему прошлому, что для него было внове.
– Да, да, воспитание, – повторил он. – Вы только взгляните, господин аббат, как все тут увязано. С четырехлетнего возраста ребенку, полностью зависящему от взрослых, и мать и нянька твердят при всяком удобном и неудобном случае: "Боженька на небе, боженька тебя знает, это он тебя сотворил; боженька тебя любит, боженька тебя видит, осуждает твои шалости, боженька тебя накажет, боженька тебя вознаградит..." Подождите-ка! В восемь лет ребенка ведут на торжественную мессу для спасения души, а вокруг взрослые, распростертые ниц; потом ему указывают на красивый раззолоченный потир среди цветов и яркого света, в облаках ладана, под звуки органа. И оказывается, это все тот же боженька, и он заключен в этих белых облатках. Прекрасно!.. В одиннадцать лет ему рассказывают с кафедры, рассказывают со всей авторитетностью, как нечто само собой разумеющееся, о святой троице, о воплощении, об искуплении грехов, о вознесении Христовом, о непорочном зачатии и обо всем прочем. Он слушает, он со всем согласен. А как же ему прикажете не соглашаться? Как может он усомниться хоть чуточку в тех верованиях, которыми щеголяют его родители, его соученики, его учителя, верующие, заполняющие храм божий? Как же ему, совсем маленькому, усомниться передо всеми этими тайнами? Ему, затерянному в мире, с первого дня рождения живущему в непосредственной близости с таинственными явлениями? Задумайтесь над этим, господин аббат: я полагаю, что это, пожалуй, главное. Да, да, суть вопроса в этом! Для ребенка все в равной степени непостижимо. Земля под его ногами совсем плоская, а оказывается, она круглая; с виду она никуда не движется, а оказывается, кружится в пространстве, как волчок... Солнечные лучи наливают зерно. Из яйца выходит совсем готовенький цыпленок... Сын божий сошел с небес, и его распяли во искупление наших грехов... А почему бы и нет? Бог же слово, а слово стало плотью. Кому дано – поймет, а нет – не важно, фокус удался!
Поезд замедлил ход. Кто-то в темноте визгливо выкрикнул название станции. Новый пассажир, решив, что купе свободно, рывком открыл дверь и, чертыхнувшись, захлопнул ее.
Порыв ледяного ветра прошел по их лицам.
Антуан повернулся к священнику, теперь он с трудом различал его черты, так как фонарь почти погас.
Аббат молчал.
Тогда снова заговорил Антуан, но уже более спокойным тоном:
– Так можно ли, по-вашему, это наивное верование ребенка назвать верой? Разумеется, нет. Вера – она приходит позже. Вырастает совсем из других корней. И могу сказать, что как раз веры у меня и не было.
– Правильнее, вы не дали ей расцвести в вашей душе, хотя она была к этому прекрасно подготовлена, – возразил аббат, и голос его внезапно дрогнул от негодования. – Вера есть дар божий, как, скажем, память, и она, подобно всем прочим дарам божьим, нуждается в том, чтобы ее развивали... А вы... вы!.. Как и многие, вы пошли на поводу у гордыни, у духа противоречия, у суетных притязаний свободомыслия, соблазнились возможностью взбунтоваться против установленного порядка...
Но аббат тут же раскаялся в своем праведном гневе. Он ведь твердо решил не давать вовлечь себя в религиозные споры.
Впрочем, его ввел в заблуждение тон Антуана; аббат предпочитал сомневаться в полной искренности своего собеседника, не смущался ни едкими репликами, ни этими чуть ли не веселыми нападками, тем более что во всем этом пыле чувствовалась несколько вымученная бравада. Уважение, которое он питал к Антуану, не то чтобы поколебалось, в это уважение прокралась надежда, да нет, уверенность, что старший сын г-на Тибо не будет держаться своей жалкой, чересчур уязвимой позиции.
Антуан задумался.
– Нет, господин аббат, – ответил он спокойно. – Все это получилось само собой, без всякого предвзятого намерения бунтовать, без всякой гордыни. Даже помимо моего сознания. Насколько я припоминаю, я после первого причастия начал смутно ощущать, что во всем, чему нас учили о религии, есть нечто, не знаю, как бы лучше выразиться, – смущающее, что ли, тревожащее, что-то темное, и не только для нас, детей, но и вообще для всех. Да, да, и для взрослых тоже. И даже для самих священников.
Аббат, не удержавшись, развел руками.
– О, конечно, – продолжал Антуан, – я не ставил под сомнение, да и сейчас не ставлю искренность знакомых мне священнослужителей, ни их религиозного рвения или, вернее, потребности в нем... Но и они сами, во всяком случае, на мой взгляд, с трудом, на ощупь пробирались в потемках, с чувством некоей, пусть неосознанной, неловкости кружили вокруг этих сокровенных догм. Они возвещали. Но что возвещали? То, что им самим возвестили. Разумеется, они не сомневались в тех истинах, которые передавали людям. Но внутреннее их убеждение, было ли оно так же сильно, так же непоколебимо, как то, что они возвещали? Поэтому меня не слишком-то легко было убедить. Надеюсь, я не шокирую вас? А материал для сравнения нам поставляли наши школьные учителя. У них, признаюсь, была более твердая почва; их отрасли знания имели более прочный "фундамент". Учили нас грамматике, истории, геометрии, и у нас у всех создавалось впечатление, что они полностью понимают то, чему учат.
– Следует, по-моему, сравнивать лишь то, что сравнимо, – поджал губы аббат.
– Но я же не говорю о сущности, о предмете преподавания: я имею в виду лишь отношение наших учителей к тому, что они нам преподавали. Даже когда их наука не все могла объяснить, они вели себя так, будто ничего в этом подозрительного нет: они не боялись выставить на свет свои колебания, даже неосведомленность. И, клянусь вам, это внушало доверие; не могло пробудить даже самой мимолетной мысли о том, что здесь... передержка. Нет, "передержка" не совсем точное слово, и уверяю вас, господин аббат, по мере того как я переходил в старшие классы, наши законоучители внушали мне все меньше доверия, как раз того доверия, которое я, безусловно, испытывал к университетским профессорам.
– Будь ваши законоучители, – возразил аббат, – будь они настоящими богословами, вы наверняка отнеслись бы к ним с полным доверием. (Векар вспомнил своих семинарских учителей и себя – юношу трудолюбивого и доверчивого.)
Но Антуан не унимался.
– Вы только подумайте! Мальчика постепенно вводят в курс математических наук, физики, химии! Перед ним вдруг открывается вся вселенная, и он часть этой громады! Естественно, что после всего этого религия кажется ему узкой, шаткой, бессмысленной. Он утрачивает доверие.
Тут аббат выпрямился и протянул руку.
– Бессмысленной? Неужели вы всерьез говорите: бессмысленной?
– Да, – с силой подтвердил Антуан. – Только сейчас я сообразил одну вещь, о которой раньше как-то не думал, а именно: вы, священнослужители, исходите из неколебимой веры и, дабы защитить ее, призываете на подмогу рассуждения, тогда как мы, такие люди, как я, скорее исходим из сомнения, равнодушия и доверяемся разуму, даже не задаваясь вопросом, куда он нас заведет. Если, господин аббат, – с улыбкой продолжал Антуан, не дав своему собеседнику даже рта раскрыть, – если вы начнете вести со мной настоящий спор, вы в два счете докажете мне, что в таких вопросах я ровно ничего не смыслю. Сдаюсь заранее. Такими вопросами я просто никогда не интересовался: возможно, впервые сегодня вечером я так много размышляю на эту тему. Вы сами видите, я не строю из себя свободомыслящего. Я только пытаюсь объяснить вам, каким образом мое католическое воспитание не помешало мне стать таким, каков я ныне: полностью неверующим человеком.
– Меня не пугает ваш цинизм, дорогой мой друг, – сказал аббат с чуть наигранным добродушием. – Я о вас гораздо лучшего мнения, чем вы сами! Но продолжайте, продолжайте, я слушаю.
– Ну так вот, на самом-то деле я еще долго, очень долго ходил, как и все прочие, в церковь, молился. Ходил с полнейшим безразличием, в чем, конечно, не признавался даже себе, – с безразличием... вежливым, что ли. Но и позже я никогда не брал на себя труд пересматривать свои взгляды, доискиваться; возможно, в глубине души просто не придавал этому особого значения... (Таким образом, я был весьма далек от того состояния духа, в каком пребывал один мой приятель, который собирался поступать на инженерный факультет и который, пережив кризис веры, как-то написал мне: "Я тщательно осмотрел все сооружение. Так вот, старина, советую тебе быть поосторожнее, боюсь, что держаться оно не будет, слишком многих скреп не хватает!..") А я в то время приступил к изучению медицины; разрыв – вернее отход – уже совершился: я, еще не закончив первого года обучения, уже уяснил себе, что верить без доказательств нельзя...
– Без доказательств!
– ...и что следует отказаться от понятия непреходящей истины, потому что признать что-либо истинным можно лишь со всей возможной осторожностью и пока вам не будет доказано обратное. Я понимаю, мои слова вас шокируют. Но не прогневайтесь, господин аббат, это-то, в сущности, я и хотел сказать: я представляю собой случай, – если угодно, случай чудовищный, – естественного, инстинктивного неверия. Это так. Чувствую я себя хорошо, натура, по-моему, я достаточно уравновешенная, весьма по своему темпераменту деятельная, и я чудесно обходился и обхожусь без всякой мистики. Ничто из того, что я знаю, ничто из того, что мне довелось наблюдать, не позволяет мне верить в то, что бог моих детских лет существует; и до сих пор, призваться, я прекрасно без него обхожусь. Мой атеизм сформировался одновременно с моим разумом. Мне ни от чего не приходилось отказываться, – только, пожалуйста, не подумайте, что я принадлежу к числу верующих, утративших веру, которые продолжают в сердце своем взывать к богу, принадлежу к числу мятущихся, которые в отчаянии воздевают руки к небесам, хоть и обнаружили, что там лишь пустота... Нет, нет, я как раз из тех субъектов, что вообще рук не воздевают. Мир без божественного провидения ничуть меня не смущает. И, как видите, я чувствую себя в нем вполне уютно.
Аббат помахал рукой в знак окончательного несогласия.
Но Антуан не сдавался:
– Вполне уютно. И длится это уже пятнадцать лет...
Он замолк, выжидая, что тут-то и прорвется негодование аббата. Но аббат молчал и только тихонько покачивал головой.
– Это же чисто материалистическая доктрина, бедный мой друг, – наконец выговорил он. – Неужели вы еще не выбрались из этого? Послушать вас, так вы верите только в свою плоть. А это все равно, что верить только в одну половину самого себя – да еще в какую половину! К счастью, все это внешнее и происходит, так сказать, на поверхности. Вы сами не знаете подлинных ваших возможностей, не знаете, какие скрытые силы вашего христианского воспитания до сих пор живут в вас. Вы эту силу отрицаете; но ведь она же вас ведет, бедный мой друг!
– Ну, что вам сказать? Уверяю вас, я лично ровно ничем церкви не обязан. Мой ум, воля, характер развивались вне религии. Могу даже добавить: в противовес ей. По-моему, мне так же далека католическая мифология, как мифология языческая. По мне, все одно, что религия, что суеверия. Да, говорю это без всякой предвзятости, осадок, оставленный во мне моим христианским воспитанием, сводится к нулю.