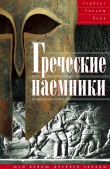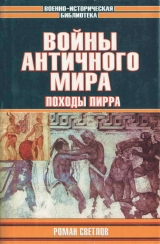
Текст книги "Войны античного мира: Походы Пирра"
Автор книги: Роман Светлов
Жанр:
Военная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 28 страниц)
В следующем году сын героя первой самнитской войны Луций Папирий Курсор и Спурий Карвилий вступили подле Аквилонии в решительный бой с самнитской армией, главные силы которой состояли из 16 тыс. одетых в белые одежды солдат, принесших священную клятву, что предпочтут бегству смерть. Но неумолимый рок не обращает внимания ни на клятвы, ни на отчаянные мольбы; римляне одержали победу и взяли приступом те крепости, в которых самниты укрылись со своим имуществом. Впрочем, и после этого тяжелого поражения союзники в течение нескольких лет оборонялись с беспримерным упорством в своих укрепленных замках и горах против превосходных неприятельских сил и местами даже одерживали небольшие победы; еще раз римлянам пришлось прибегнуть (462) к опытности престарелого Руллиана, а Гавий Понтий – быть может, сын каслинского победителя – одержал последнюю самнитскую победу, за которую римляне впоследствии отомстили ему низким образом: когда он попался к ним в плен, они казнили его в тюрьме (463). Но в Италии уже никто не шевелился, так как война, предпринятая в 461 г. Фалериями, едва ли заслуживает этого названия. Самниты, быть может, и поглядывали с томительным ожиданием на Тарент, который один был в состоянии помочь им, но помощи оттуда они не получили. Причины бездеятельности Тарента были те же, что и прежде, – дурное управление и то, что луканы снова перешли в 456 г. на сторону римлян; к этому присоединялись небезосновательные опасения, которые внушал тарентинцам Агафокл Сиракузский, именно в ту пору стоявший на вершине своего могущества и начинавший обращать свое внимание на Италию. Около 455 г. Агафокл утвердился на Керкире, откуда Клеоним был прогнан Деметрием Полиоркетом (получившим прозвище «завоевателя городов»); после того Агафокл стал угрожать тарентинцам и с Адриатического моря и с Ионийского. Хотя уступка Керкиры эпирскому царю Пирру и устранила в 459 г. большую часть возникших опасений, тем не менее тарентинцы все еще интересовались положением дел в Керкире (так, например, они помогли в 464 г. царю Пирру отстоять этот остров от нападения Деметрия), а италийская политика Агафокла постоянно внушала им опасения. Когда Агафокл умер (465) и имеете с тем исчезло могущество сиракузян в Италии, было уже поздно; измученный тридцатисемилетней войной Самниум заключил за год перед тем (464) мир с римским консулом Манием Курием Аентатом и формальным образом возобновил союз с Римом, И на этот раз, как и при заключении мира в 450 г, римляне не предписали храброму народу никаких позорных или уничтожающих условий; они, как кажется, даже не потребовали никаких территориальных уступок Римская государственная мудрость сочла за лучшее подвигаться вперед по старому пути и, прежде чем приступить к покорению внутренних стран, все прочнее и прочнее привязывать к Риму побережье Кампании и Адриатического моря. Хотя Кампания уже давно была покорена римлянами, однако дальновидная римская политика нашла нужным упрочить свое владычество на берегах Кампании посредством основания там двух приморских крепостей – Минтурн и Синуэссы (459), а новым общинам этих городов были предоставлены права полного римского гражданства на основании общего правила, установленного для приморских колоний. Еще с большей энергией расширялось римское владычество в средней Италии. Как покорение эквов и герников было непосредственным последствием первой самнитской войны, так и покорение сабинов состоялось немедленно вслед за окончанием второй самнитской войны. Маний Курий – тот самый полководец, который окончательно сломил сопротивление самнитов, – принудил в том же году (464) сабинов прекратить их непродолжительное и бессильное сопротивление и безусловно подчиниться Риму. Большая часть покорившейся страны была взята победителями в непосредственное владение и разделена между римскими гражданами, а оставшиеся нетронутыми общины Коры, Реат, Амитерн, Нурсия были принуждены перейти на права римских подданных (civitas sine suflrsgio). Там вовсе не было основано равноправных союзных городов, а вся страна поступила под непосредственное владычество Рима, который таким образом расширил свои владения до Апеннин и до гор Умбрии. Но Рим уже не довольствовался владычеством по эту сторону гор; последняя война слишком ясно доказала ему, что римское господство над средней Италией будет прочно только тогда, когда оно будет простираться от моря до моря. Владычество римлян на той стороне Апеннин началось с основания в 465 г. сильной крепости Атрии (Atri) на северном склоне Абруцц к пиценской равнине; так как этот город не стоял у самого морского берега, то он получил латинское право гражданства, но он находился вблизи от моря и замыкал там ряд сильных укреплений, который вдвигался клином между северной Италией и южной В том же роде, но еще более важным было основание Венузии (463), где были поселены колонисты в неслыханном числе двадцати тысяч; она была построена на рубеже Сампия, Апулии и Аукании, на большой дороге между Тарентом и Самнием, на весьма хорошо укрепленном месте; ее назначение заключалось в том, чтобы служить опорой для владычества над соседними племенами, и главным образом в том, чтобы прервать сообщения между двумя самыми могущественными врагами Рима в южной Италии. Не подлежит сомнению, что южная дорога, проведенная Аппием Клавдием до Капуи, была в то же время продолжена оттуда до Венузии. Таким образом, после окончания самнитских войн сплошные римские владения, т. е. состоявшие почти исключительно из общин с римским или с латинским правом, простирались к северу до Циминийского леса, к востоку до Абруцц и до Адриатического моря, к югу до Капуи, между тем как два передовых поста, Луцерия и Венузия, поставленные к востоку и к югу на линиях сообщения противников, изолировали этих последних со всех сторон. Рим был уже не только первой, но и господствующей державой на полуострове, когда в конце V века от основания города начали сталкиваться между собою и в государственных делах, и на полях сражений те нации, которые были поставлены милостью богов и собственными достоинствами во главе окружавших их племен; подобно тому как победители в первой очереди на олимпийских играх готовились к вторичному и более серьезному состязанию, так и на более широкой международной арене тогда стали готовиться к последней и решительной борьбе Карфаген, Македония и Рим.
Глава VII.
ЦАРЬ ПИРР В БОРЬБЕ С РИМОМ И ОБЪЕДИНЕНИЕ ИТАЛИИ
Во времена бесспорного всемирного владычества Рима греки часто раздражали своих римских повелителей, выдавая за причину римского величия ту лихорадку, от которой Александр Македонский умер 11 июня 431 г. в Вавилоне. Так как воспоминания о том, что на самом деле случилось, были далеко не утешительны для греков, то они охотно предавались мечтаниям о том, что могло бы произойти, если бы великий царь привел в исполнение то, что замышлял незадолго до своей смерти, – направил свое оружие против Запада и со своим флотом стал оспаривать у карфагенян владычество на морс, а со своими фалангами – у римлян владычество на суше. Нет ничего невозможного в том, что Александр действительно носился с такими замыслами. В кораблях и в войске не было у него недостатка, а с такими возможностями самодержцу трудно не искать повода к войне. Было бы достойно великого греческого царя, если бы он защитил сицилийцев от карфагенян, тарентинцев от римлян и прекратил морские разбои на обоих морях; италийские послы от бруттиев, луканов и этрусков[100]100
Рассказ о том, что и римляне отправляли послов к Александру в Вавилон, основан на свидетельстве Клитарха (Plinius Hist Nat, 3, 5, 57), от которого без сомнения заимствовали этот факт и другие упоминавшие о нем писатели (Аристон и Асклепиад у Арриака, 7,15, 5; Мемнон, гл. 25). Правда, Клитарх был современником этих событий, но написанная им биография Александра тем не менее должна быть бесспорно отнесена скорее к числу исторических романов, чем к числу настоящих исторических повествований, а ввиду молчания достоверных биографов (Арриан, в вышеуказанном месте; Liv, 9,18) и некоторых совершенно фантастических подробностей, как, например, что римляне поднесли Александру золотой венок и что он предсказал будущее величие Рима, рассказ Клитарха об отправке римских послов к Александру, конечно, должен быть отнесен к числу тех прикрас, которые этот писатель часто вносил в историю.
[Закрыть], появлявшиеся в Вавилоне в лице бесчисленных послов от разных других народов, доставляли Александру довольно много удобных случаев, чтобы познакомиться с положением дел в Италии и завязать там сношения. Карфаген, у которого было так много связей на Востоке, неизбежно должен был привлечь к себе внимание могущественного монарха, и Александр, по всей вероятности, имел намерение превратить номинальное владычество персидского паря над тирской колонией в фактическое; недаром же подосланный из Карфагена шпион находился между приближенными Александра. Но все равно, были ли это одни мечты или серьезные замыслы, царь умер, не занявшись делами Запада, а вместе с ним сошло в могилу и то, что было у него на уме. Лишь в течение немногих лет грек соединял в своих руках всю интеллектуальную силу эллинизма со всеми материальными силами Востока; хотя труд его жизни – эллинизация Востока – и не погиб с его смертью, но только что созданное им царство распалось, а возникавшие из этих развалин государства хотя и не отказывались от своего всемирно-исторического призвания распространять греческую культуру на Востоке, но среди непрерывных раздоров эта цель преследовалась слабо и заглохла. При таком положении дел ни греческие государства, ни азиатско-египетские не могли помышлять о том, чтобы стать твердой ногой на Западе и обратить свое оружие против римлян или против карфагенян Восточная и западная системы государств существовали одна рядом с другой, не сталкиваясь между собою на политическом поприще; в особенности Рим оставался совершенно в стороне от смут эпохи диадохов. Устанавливались только экономические сношения; так, например, родосская республика – главнейшая представительница нейтральной торговой политики в Греции и вследствие того всеобщая посредница в торговых сношениях той эпохи непрерывных войн – заключила в 448 г. договор с Римом; но это был, конечно, торговый договор, весьма естественный между торговой нацией и владетелями берегов церитских и кампанских. Даже при доставке наемных отрядов, обыкновенно набиравшихся для Италии и в особенности для Тарента в тогдашнем главном центре таких вербовок – Элладе, имели весьма незначительное влияние политические сношения вроде, например, тех, какие существовали между Тарентом и его метрополией Спартой; эти вербовки наемников вообще были не что иное, как торговые сделки, и хотя Спарта постоянно доставляла тарентинцам вождей для войн в Италии, она вовсе не была во вражде с италиками, точно так же как во время североамериканской войны за независимость германские государства вовсе не были во вражде с США, противникам которых продавали своих подданных.
И эпирский царь Пирр был только отважным вождем военных отрядов; несмотря на то, что вел свою родословную от Эака и Ахилла и что при более миролюбивых наклонностях мог бы жить и умереть «царем» маленькой нации горцев, или под македонским верховенством, или в изолированном положении независимого владетеля, он был не более как искатель приключений. Однако его сравнивали с Александром Македонским; и конечно, замысел основать западно-эллинское государство, для которого служили бы ядром Эпир, Великая Греция и Сицилия, которое господствовало бы на обоих италийских морях и которое низвело бы римлян и карфагенян в разряд варварских племен, граничивших подобно кельтам и индийцам с системой эллинистических государств, – этот замысел был столь же широк и смел, как и тот, который побудил македонского царя переправиться через Геллеспонт. Но не в одних только результатах заключается различие между экспедициями восточной и западной. Александр был в состоянии бороться с персидским царем, стоя во главе македонской армии, в которой был особенно хорош штаб; царь же Эпира, занимавшего рядом с Македонией такое же положение, какое занимает Гессен рядом с Пруссией, собрал значительную армию только из наемников и путем союзов, основанных лишь на случайных политических комбинациях. Александр вступил в персидские владения завоевателем, а Пирр появился в Италии в качестве главнокомандующего коалиции, состоявшей из второстепенных государств; Александр оставил свои наследственные владения вполне обеспеченными безусловной преданностью Греции и оставленной в ней сильной армией под начальством Антипатра, а порукой за целость владений Пирра служило лишь честное слово, данное соседом, на дружбу которого нельзя было вполне полагаться. В случае успеха наследственные владения того и другого завоевателя переставали бы служить центром тяжести для вновь образовавшихся государств; однако было бы легче перенести центр македонской военной монархии в Вавилон, чем основать солдатскую династию в Таренте или в Сиракузах. Несмотря на то что демократия греческих республик находилась в постоянной агонии, ее нельзя было бы втиснуть в жесткие формы военного государства, и Филипп имел основательные причины к тому, чтобы не включать греческие республики в состав своего царства. На Востоке нельзя было ожидать национального сопротивления; господствовавшие там племена с давних пор жили рядом с племенами подвластными, и перемена деспота была для массы населения безразличной или даже желательной. На Западе, пожалуй, и можно было бы осилить римлян, самнитов и карфагенян, но никакой завоеватель не был бы в состоянии превратить италиков в египетских феллахов или из римских крестьян сделать плательщиков оброка в пользу эллинских баронов. Что бы мы ни принимали в соображение – личное ли могущество завоевателей, число ли их союзников, силу ли противников, – мы приходим все к одному и тому же убеждению, что замысел македонянина был исполним, а замысел эпирота был предприятием невозможным; первый был выполнением великой исторической задачи, второй был очевидным заблуждением; первый закладывал фундамент для новой системы государств и для новой фазы цивилизации, второй был историческим эпизодом. Дело Александра пережило своего творца, несмотря на его преждевременную смерть, а Пирр видел собственными глазами, как рухнули все его планы, прежде чем его постигла смерть. У них обоих была предприимчивая и широкая натура, но Пирр был не более как замечательным полководцем, а Александр был прежде всего самым гениальным государственным человеком своего времени, и если уменье отличать то, что сбыточно, от того, что несбыточно, служит отличием героев от искателей приключений, то Пирр должен быть отнесен к числу этих последних и имеет так же мало права стоять наряду со своим более великим родственником, как Коннетабль Бурбонский наряду с Людовиком XI. Тем не менее с именем эпирота связано какое-то волшебное очарование, и оно внушает необыкновенное сочувствие частью благодаря рыцарской и привлекательной личности Пирра, частью и еще более потому, что он был первым греком, вступившим в борьбу с римлянами. С него начинаются те непосредственные сношения между Римом и Элладой, которые послужили основой для дальнейшего развития античной цивилизации и в значительной степени для развития цивилизации нового времени. Борьба между фалангами и когортами, между наемными войсками и народным ополчением, между военной монархией и сенаторским управлением, между личным талантом и национальной силой – одним словом, борьба между Римом и эллинизмом впервые велась на полях сражений между Пирром и римскими полководцами; и, хотя побежденная сторона после того еще не раз апеллировала к силе оружия, каждая из позднейших битв подтверждала прежний приговор. Однако, хотя греки и были осилены как на полях сражений, так и в сфере государственной деятельности, все-таки их перевес оказался не менее решительным на всяком другом неполитическом поприще; даже по самому ходу этой борьбы можно было предугадать, что победа Рима над эллинами не будет похожа на те, которые он одерживал над галлами и над финикийцами, и что волшебные чары Афродиты начнут оказывать свое влияние только тогда, когда копье будет изломано, а щит и шлем будут отложены в сторону.
Царь Пирр был сыном Эакида, повелителя молоссов (подле Янины), которого Александр щадил как родственника и верного вассала, но который был втянут после смерти македонского царя в водоворот македонской фамильной политики и при этом лишился сначала своих владений, а потом и жизни (441). Его сын, бывший в ту пору шестилетним мальчиком, был обязан своим спасением правителю иллирийских тавлантиев Главкию; во время борьбы из-за обладания Македонией он, будучи еще ребенком, возвратился в свои наследственные владения при помощи Деметрия Полиоркета (447), но по прошествии нескольких лет был вытеснен оттуда влиянием враждебной партии (452) и в качестве изгнанного из своего отечества царского сына начал свою военную карьеру в свите македонских генералов. Его личные дарования скоро стали обращать на него внимание. Он участвовал в последних походах Антигона, и этот старый маршал Александра восхищался природными военными дарованиями Пирра, которому, по мнению престарелого военачальника, недоставало только зрелых лет, чтобы уже в ту пору сделаться первым полководцем своего времени. Вследствие неудачного сражения при Ипсе он был отправлен заложником в Александрию ко двору основателя династии Лагидов; своим смелым и резким обращением, своим солдатским нравом, презрительным отношением ко всему, что не имело связи с военным делом, он обратил на себя внимание искусного политика царя Птолемея, а своей мужественной красотой, ничего не терявшей от дикого выражения его лица и могучей поступи, он обратил на себя внимание царственных дам. Именно в то время отважный Деметрий основал для себя новое царство в Македонии, разумеется, с намерением предпринять оттуда восстановление Александровой монархии. Нужно было задержать его там и создать для него домашние заботы; поэтому Лагид, отлично умевший пользоваться для своих тонких политических расчетов такими пламенными натурами, как эпирский юноша, не только исполнил желание своей супруги царицы Береники, но осуществил и свои собственные замыслы, выдав за молодого принца свою падчерицу принцессу Антигону и доставив своему дорогому «сыну» возможность возвратиться на родину как своим непосредственным содействием, так и своим могущественным влиянием (458). Когда Пирр возвратился в отцовские владения, вес стало ему подчиняться; храбрые эпироты – эти албанцы древности – привязались с наследственной преданностью и с новым воодушевлением к мужественному юноше – к этому «орлу», как они его прозвали. Во время смут, возникших после смерти Кассандра (457) из-за наследственных прав на македонский престол, эпирот расширил свои владения; он мало-помалу захватил земли у Амбракийского залива с важным городом Амбракисй, остров Керкиру, даже часть македонской территории и, к удивлению самих македонян, оказал сопротивление царю Деметрию, несмотря на то что располагал гораздо менее значительными военными силами. А когда Деметрий вследствие собственного безрассудства был свергнут в Македонии с престола, там было решено предложить этот престол рыцарскому противнику Деметрия и родственнику Александридов (467). Действительно, никто не был более Пирра достоин носить царскую корону Филиппа и Александра. В эпоху глубокого нравственного упадка, когда царственное происхождение и душевная низость становились почти однозначащими словами, особенно ярко выделялись личная безупречность и нравственная чистота Пирра. Для свободных крестьян коренной македонской земли, хотя уменьшившихся числом и обедневших, но не заразившихся тем упадком нравственности и мужества, который был последствием владычества диадохов в Греции и в Азии, Пирр, по-видимому, был именно таким царем, какой был нужен: у себя дома и в кружке друзей он подобно Александру открыл для всех человеческих чувств доступ к своему сердцу, никогда но придерживался столь ненавистного в Македонии образа жизни восточных султанов и подобно Александру считался норным тактиком своего времени. Но царствованию эпирского царя скоро положили конец слишком напряженное чувство македонского патриотизма, предпочитавшее самого бездарного македонского уроженца самому даровитому иноземцу, и то безрассудное нежелание македонской армии подчиниться какому бы то ни было вождю не из македонян, жертвою которого пал величайший из полководцев александровской школы кардиец Эвмен. Сознавая невозможность управлять Македонией так, как желали македоняне, и будучи недостаточно сильным, а может быть и слишком великодушным, для того чтобы навязывать себя народу против его воли, Пирр после семимесячного царствования оставил страну на жертву ее внутренней неурядице и возвратился домой к своим верным эпиротам (467). Но человек, который носил корону Александра, был шурином Деметрия, затем Лагида и Агафокла Сиракузского и высокообразованным стратегом, писавшим мемуары и ученые рассуждения о военном искусстве, не мог проводить свою жизнь только в том, чтобы проверять раз в год отчеты управляющего царским скотным двором, принимать от своих храбрых эпиротов обычные приношения быками и овцами, снова выслушивать от них у алтаря Зевса клятву в верности, со своей стороны повторять клятву о соблюдении законов и для большей прочности всех этих клятв проводить со своими подданными всю ночь за пирушкой. Если не было для него места на македонском троне, то ему было не место и на его родине; он мог быть первым и, стало быть, не мог быть вторым. Поэтому он устремил свои взоры вдаль. Хотя цари, оспаривавшие друг у друга обладание Македонией, не были согласны между собою в других случаях, но все они были готовы сообща содействовать добровольному удалению опасного соперника; а в том, что верные боевые товарищи пойдут за ним повсюду, куда он их поведет, он был вполне уверен. Именно в ту пору положение дел в Италии приняло такой оборот, что снова могло казаться исполнимым то, что замышлял за сорок лет перед тем родственник Пирра, двоюродный брат его отца, Александр эпирский, и то, что замышлял незадолго до самого Пирра его тесть Агафокл; поэтому Пирр решился отказаться от своих македонских планов и основать на Западе новое царство и для себя и для эллинской нации.
Спокойствие, доставленное Италии заключением в 464 г. мира с Самниумом, было непродолжительно; побуждение к образованию новой лиги против римского господства исходило на этот раз от луканов. Так как во время самнитских войн этот народ, приняв сторону римлян, сдерживал тарентинцев и тем значительно содействовал развязке борьбы, то римляне предоставили ему в жертву все греческие города, находившиеся в районе его владений; поэтому, лишь только был заключен мир, луканы стали сообща с бруттиями завоевывать эти города один вслед за другим. Фурийцы, будучи доведены до крайности неоднократными нападениями луканского полководца Стения Статилия, обратились с просьбой о помощи к римскому сенату, точно так же как когда-то кампанцы просили у Рима защиты от самнитов и без сомнения также взамен отречения от своей свободы и самостоятельности. Так как после постройки крепости Венузии Рим уже мог обойтись без союза с луканами, то римляне исполнили желание фурийцев и потребовали от своих союзников удаления из города, который отдался во власть римлян. Когда луканы и бруттии узнали, что их могущественный союзник хочет лишить их условленной доли из общей добычи, они завязали отношения с самнитско-тарентинской оппозиционной партией с целью организовать новую италийскую коалицию; а когда римляне отправили к ним послов с предостережениями, они задержали этих послов в плену и начали войну против Рима новым нападением на Фурии (около 469), в то же время обратившись не только к самнитам и к тарентинцам, но также к северным италикам, этрускам, умбрам и галлам с приглашением присоединиться к ним в войне за свободу. Действительно, этрусский союз восстал и нанял многочисленные полчища галлов; римская армия, которую претор Луций Цецилий привел на помощь к оставшимся верными арретинцам, была уничтожена под стенами их города сенонскими наемниками этрусков, и сам военачальник был убит вместе с 13 тыс. своих солдат (470). Так как сеноны принадлежали к числу римских союзников, то римляне отправили к ним послов с жалобой на доставку врагам Рима наемных солдат и с требованием безвозмездного возвращения пленников. Но по приказанию своего вождя Бритомара, желавшего отомстить римлянам за смерть своего отца, сеноны умертвили римских послов и открыто приняли сторону этрусков. Таким образом, против Рима взялась за оружие вся северная Италия, т. с. этруски, умбры и галлы, и можно было бы достигнуть важных результатов, если бы южные страны воспользовались этой благоприятной минутой и если бы восстали против Рима также и те из них, которые до того времени держались в стороне. Всегда готовые вступиться за свободу самниты действительно, как кажется, объявили римлянам войну; но они были так обессилены и так окружены со всех сторон, что не могли принести союзу большой пользы, а Тарент по своему обыкновению колебался. Между тем как противники заключали между собой союзы, устанавливали условия о субсидиях и набирали наемников, римляне действовали. Сенонам прежде всех пришлось испытать на себе, как опасно побеждать римлян. В их владения вступил с сильной армией консул Публий Корнелий Долабелла; все оставшиеся в живых сеноны были изгнаны из страны, и это племя было исключено из числа италийских наций (471). Такое поголовное изгнание всего населения было возможно потому, что это племя жило преимущественно тем, что ему доставляли стада; изгнанные из Италии сеноны, по всей вероятности, способствовали образованию тех гальских отрядов, которые вскоре после того наводнили придунайские страны, Македонию, Грецию и Малую Азию. Ближайшие соседи и соплеменники сенонов, бойи, были так испуганы и ожесточены столь быстро совершившейся страшной катастрофой, что немедленно присоединились к этрускам, которые еще не прекращали войны, а служившие в рядах этрусков сенонские наемники стали сражаться с римлянами уже не из-за платы, а из желания отомстить за свое отечества Сильная этрусско-гальская армия выступила против Рима с целью выместить не неприятельской столице истребление сенонского племени и стереть Рим с лица земли не так, как когда-то сделал вождь тех же самых сенонов, а окончательна Но при переходе через Тибр, недалеко от Вадимонского озера, союзная армия была совершенно разбита римлянами (471). После того как бойи еще раз попытались через год вступить в бой с римлянами и по-прежнему не имели успеха, они покинули своих союзников и заключили с Римом сепаратный мирный договор (472). Таким образом самый опасный из членов лиги, гэльский народ был побежден отдельно от всех, прежде чем лига успела вполне образоваться, а это обстоятельство развязало римлянам руки для борьбы с нижней Италией, где война велась в 469–471 гг. без большой энергии. До той поры слабая римская армия с трудом держалась в Фуриях против луканов и бруттиев, а теперь (472) перед этим городом появился консул Гай Фабриций Лусцин с сильной армией; он освободил Фурии, разбил луканов в большом сражении и взял их главнокомандующего Статилия в плен. Мелкие греческие города недорийского происхождения, смотревшие на римлян как на избавителей, добровольно отдавались в их руки, римские гарнизоны были оставлены в самых важных пунктах – в Локрах, Кротоне, Туриях и в особенности в Регионе, на который, как кажется, имели виды и карфагеняне. Римляне повсюду имели решительный перевес. С истреблением сенонов осталась во власти римлян значительная часть Адриатического побережья, и римляне поспешили обеспечить свое владычество как над этими берегами, так и над Адриатическим морем без сомнения потому, что уже тлела под пеплом распря с Тарентом, а Эпирот уже грозил нашествием. В портовый город Сену (Sinigaglia), бывший главный город сенонского округа, была отправлена в 471 г. гражданская колония, и в то же время римский флот отплыл из Тирренского моря в восточные воды, очевидно для того, чтобы стоять в Адриатическом море и охранять там римские владения.
С тех пор как был заключен договор 450 г, тарентиниы жили в мире с Римом: они были свидетелями продолжительной агонии самнитов и быстрого истребления сенонов и допустили без всякого протеста основание Венузии, Атрии, Сены и занятие Фурий и Регия. Но когда римский флот на своем пути из Тирренского моря в Адриатическое достиг Тарента и стал на якоре в гавани этого дружественного города, давно назревавшее озлобление наконец вышло наружу; выступившие перед народом ораторы напомнили собранию граждан о старых договорах, воспрещавших римским военным судам проникать на восток от Лакинского мыса; толпа с яростью устремилась на римские военные корабли, которые не ожидали такого разбойничьего нападения и после горячей схватки были разбиты; пять кораблей были захвачены тарентинцами; их матросы были казнены или проданы в рабство, а римский адмирал был убит во время битвы Это постыдное дело объясняется только крайним безрассудством и крайней бессовестностью, свойственными владычеству черни. Те договоры, о которых шла речь, принадлежали эпохе, уже давно пережитой и забытой; не подлежит сомнению, что они уже не имели никакого смысла, с тех пор как были основаны Атрия и Сена, и что римляне вошли в залив с полным доверием к существовавшему союзу: ведь из дальнейшего хода событий ясно видно, что в интересах римлян было не подавать тарентинцам никакого повода для объявления войны. Если государственные люди Тарента решились объявить Риму войну, то они сделали только то, что должны были бы давно сделать, а если они предпочли мотивировать объявление войны не настоящей его причиной, а формальным нарушением договора, то на это можно только заметить, что дипломатия во все времена считала для себя унизительным говорить простые вещи простым языком. Но напасть без всякого предупреждения на флот с оружием в руках, вместо того чтобы пригласить адмирала удалиться, было в такой же мере безумием, в какой и варварством; это было одно из тех ужасных деяний, в которых нравственная дисциплина внезапно утрачивает свою обязательную силу и низость выступает перед нами во всей своей наготе, как бы для того чтобы предостеречь нас от ребяческой уверенности, что цивилизация в состоянии с корнем вырвать зверство из человеческой натуры. И как будто этого еще было мало – тарентинцы напали после этого геройского подвига на Фурии (стоявший там римский гарнизон был захвачен врасплох и капитулировал зимой 472/73 г.) и жестоко наказали фурийцев за их отпадение от эллинской партии и за их переход на сторону варваров – тех самых фурийцев, которых тарентинская политика отдала на произвол луканов и тем принудила отдаться в руки римлян.
Однако варвары поступили с умеренностью, которая при таком могуществе и после таких оскорблений возбуждает удивление В интересах Рима было как можно долее пользоваться нейтралитетом Тарента; поэтому люди, руководившие решениями сената, отвергли предложение раздраженного меньшинства немедленно объявить тарентинцам войну. Со стороны Рима же была изъявлена готовность сохранить мир на самых умеренных условиях, какие только были возможны без унижения римского достоинства, с тем чтобы пленникам была возвращена свобода, чтобы Фурии были отданы римлянам и чтобы им были выданы зачинщики нападения на флот. С этими предложениями были отправлены (473) в Тарент послы, а чтобы придать вес их словам, в то же время вступила в Самниум римская армия под предводительством консула Дуция Эмилия. Тарент мог согласиться на эти условия без всякого ущерба для своей независимости, а ввиду того, что этот богатый торговый город всегда питал нерасположение к войнам, в Риме могли основательно надеяться, что соглашение еще возможно. Однако попытка сохранить мир оказалась безуспешной – вследствие ли оппозиции тех тарентинцев, которые сознавали необходимость воспротивиться римским захватам и полагали, что чем ранее это будет сделано, тем лучше, вследствие ли неповиновения городской черни, которая со свойственным грекам своеволием позволила себе нанести личное оскорбление послу. Тогда консул вступил на тарентинскую территорию; но, вместо того чтобы немедленно начать военные действия, он еще раз предложил мир на прежних условиях; когда же и эта попытка осталась безуспешной, он хотя и стал опустошать пахотные поля и усадьбы, а городской милиции нанес поражение, но знатных пленников отпускал на свободу без выкупа и не терял надежды, что гнет войны доставит в городе перевес аристократической партии и этим путем приведет к заключению мира Причиной таких проволочек было опасение римлян, что город будет вынужден отдаться в руки эпирского царя. Виды Пирра на Италию уже не были тайной. Тарентинские послы уже ездили к Пирру и возвратились, ни до чего не договорившись; царь требовал от них более того, на что они были уполномочена. Однако нужно было на что-нибудь решиться. Тарентинцы уже имели время вполне убедиться, что их ополчение умело только обращаться в бегство перед римлянами, поэтому им оставалось выбирать одно из двух – или мир, на заключение которого римляне все еще соглашались при справедливых условиях, или договор с Пирром на таких условиях, какие предпишет царь, другими словами – или римское владычество, или тиранию греческого солдата. Силы двух противоположных партий почти уравновешивались; в конце концов взяла верх национальная партия под влиянием того основательного соображения, что если необходимо кому-нибудь подчиниться, то лучше подчиниться греку, чем варварам; сверх того демагоги опасались, что римляне, несмотря на свою вынужденную тогдашним положением дел умеренность, отомстят при первом удобном случае за гнусное поведение тарентинской черни. Итак, город вошел в соглашение с Пирром. Эпирскому царю было предоставлено главное командование войсками тарентинцев и другими италиками, готовыми вступить в борьбу с Римом; сверх того ему было дано право держать в Таренте гарнизон. Что военные расходы взял на себя город, разумеется само собой. Со своей стороны Пирр обещал не оставаться в Италии долее, чем нужно, – по всей вероятности разумея это обещание в том смысле, что от его собственного усмотрения будет зависеть назначите срока, до которого его пребывание в Италии будет необходимо. Тем не менее добыча его не ускользнула из его рук. В то время как тарентинские послы, без сомнения бывшие вожаками партии войны, находились в Эпире, настроение умов внезапно изменилось в городе, который сильно теснили римляне; главное начальство уже было возложено на сторонника римлян Атаса, когда возвращение послов с заключенным ими договором и в сопровождении доверенного Пирра, министра Кинеаса, снова отдало власть в руки сторонников войны. Но бразды правления скоро перешли в более твердые руки, которые положили конец этим колебаниям. Еще осенью 473 г. Милон, один из генералов Пирра, высадился с 3 тыс. эпиротов и занял городскую цитадель; затем в начале 474 г. прибыл и сам царь после бурного морского переезда, стоившего многих жертв. Он привез в Тарент значительную, но разношерстную армию, состоявшую частью из его собственных войск – из молоссов, феспротов, хаонов, амбракийцев, – частью из македонской пехоты и фессалийской конницы, предоставленных македонским царем Птолемеем по договору в распоряжение Пирра, частью из этолийских, акарнанских и афаманских наемников; в итоге насчитывалось 20 тыс. фалангитов, 2 тыс. стрелков из лука, 500 пращников, 3 тыс. всадников и 20 слонов; стало быть, эта армия была немного менее той, с которой Александр переправился через Гелеспонт на пятьдесят лет раньше. В то время как прибыл царь, дела коалиции находились не в цветущем положении. Хотя римский консул отказался от нападения на Тарент и отступил в Апулию, лишь только ему пришлось иметь дело не с тарентинской милицией, а с солдатами Милона, но за исключением тарентинской территории почти вся Италия находилась во власти римлян. В нижней Италии коалиция нигде не могла выставить в поле армию, а в верхней Италии не прекращали борьбы одни этруски, которые в свою последнюю кампанию (473) постоянно терпели поражения. Перед тем как царь отплыл в Италию, союзники поручили ему главное начальство над всеми своими войсками и объявили, что будут в состоянии выставить армию из 350 тыс. пехоты и 20 тыс. конницы; но действительность представляла неутешительный контраст с этими громкими цифрами. Оказалось, что еще нужно создать ту армию, над которой было вверено начальство Пирру, а все средства к тому покуда заключались в собственных военных силах Тарента. Царь приказал набирать италийских наемников на тарентинские деньги и потребовал военной службы от способных носить оружие граждан. Но тарентинцы не так поняли договор, который они заключили с Пирром Они воображали, что купили на свои деньги победу, точно так же как покупается всякий другой товар, и находили, что заставлять их самих одерживать победу было со стороны царя чем-то вроде нарушения договора. Чем более радовались граждане прибытию Милона, освободившего их от тяжелой службы на сторожевых постах, тем неохотнее становились они теперь под царские знамена; тем из них, которые медлили, пришлось угрожать смертной казнью. Этот результат служил в глазах каждого оправданием для сторонников мира, и, как кажется, уже тогда были завязаны сношения с Римом. Заранее приготовленный к такому сопротивлению Пирр стал с тех пор распоряжаться в Таренте, как в завоеванном городе: солдатам были отведены квартиры в домах; народные собрания и многочисленные общества были запрещены, театр был закрыт, вход на публичные гулянья был заперт, городские ворота были заняты эпиротской стражей. Некоторые из самых влиятельных людей были отправлены заложниками за море, некоторые другие избегли такой же участи бегством в Рим Эти строгие меры были необходимы, потому что на тарентинцев нельзя было ни в чем полагаться, и только после того как царь мог опереться на обладание этим важным городом, он приступил к военным действиям.