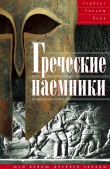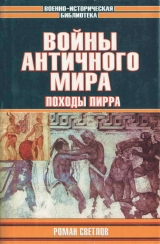
Текст книги "Войны античного мира: Походы Пирра"
Автор книги: Роман Светлов
Жанр:
Военная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 28 страниц)
ГЛАВА VIII.
ЛУКАНСКИЕ КОРОВЫ
Эпирская армия. Пирр как полководец. – Римская армия времен республики. – События в Регии. – Начало кампании 280 г. – Сражение при Гераклов, его последствия. – Посольство Кинея. – Поход Пирра в Кампанию и на Пренесте. – Завершение кампании 280 г.
У нас нет подробного описания эпирской армии, особенностей ее тактики и даже внутренней структуры. Мы можем лишь предполагать, что в целом она напоминала армии диадохов, отличаясь от них большей внутренней спайкой и организацией, которые придавал ей Пирр.
Основу ее составляли национальные эпирские (преимущественно молосские) формирования: фалангиты-педзетеры, гипасписты, а также конная дружина царя.
Едва ли в их вооружении произошли значительные изменения в сравнении с эпохой Александра Великого, однако использует их на поле боя Пирр уже несколько иначе: конная гетайрия слишком мала, чтобы совершать на поле боя рейды, подобные тем, что прославили тяжелую кавалерию Александра, поэтому она почти всегда взаимодействует с фессалийской конницей, составлявшей основу кавалерии эпирского царя. Педзетеры и гипасписты еще более свободно, чем в войске великого Македонца, строятся по отдельным подразделениям (таксисам, лохам), которые приучены к тактической самостоятельности. Путь эволюции в сторону деления армии на более мелкие тактические единицы (подобные римским манипулам) налицо, однако Пирр не прошел его до конца (что было связано с тенденциями тогдашней военной «моды», особенностями вооружения, принципами формирования армии и т. п.), однако и римские легионы, как мы увидим, еще не напоминали те классические боевые машины, которые нам известны со времен Сципиона Африканского. Они сами были на очередном этапе эволюции, и здесь опыт войны с Пирром сыграл значительную роль.
Благодаря тому, что армия Пирра имела достаточно дробную внутреннюю структуру, эпирский царь порой строил ее вперемешку с манипулами его италийских союзников (например, в битве при Аускуле). Таким образом, не только центр, но и вся боевая линия получала устойчивость, что было важно во время сражений с римлянами, имевшими однородный состав войск.
Особо античные историки выделяют искусство Пирра при организации им маршей и стоянок своей армии. Ни разу врагам эпирского царя не удавалось застать его войско врасплох и разгромить. Даже после несчастливой переправы из Сицилии в 275 г. мамертинцам не удалось рассеять потрясенную эпирскую армию.
По мнению многих авторов, именно опыт войны с Пирром заставил римлян уделять особое внимание устройству своих лагерей (хотя перед Гераклей Пирр похвалил именно римский лагерь), которые в будущем станут одним из символов римского военного дела. Едва ли уже эпирский царь превращал лагерь в подобие геометрически распланированного города, однако Пирр строго соблюдал несколько принципов, заимствованными позже римлянами.
Во-первых, его армия после каждого дневного перехода на территории противника обносила свое расположение на ночь частоколом и, вероятно, рвом, высылая вокруг боевое охранение. На эти, временные, лагеря Пирр перенес основные элементы стационарных лагерей, уже знакомых нам из истории войн диадохов.
Во-вторых, каждое из подразделений занимало в лагере определенное место и получало четкие указания, что делать в случае неожиданного нападения.
В-третьих, внутри лагеря оставляли широкие проходы (будущие «улицы» римских лагерей), благодаря которым войска могли передвигаться не перемешиваясь и не создавая давку.
Среди «изобретений», принадлежащих, видимо, именно Пирру, нужно назвать превращение слонов в своеобразные подвижные крепости. На спине слона, помимо погонщика-вожатого, теперь находилась небольшая башня, и которой помещалось до четырех воинов, вооруженных луками и сариссами. Тело животного защищали панцирем, а иногда ему на шею вешали колокол. Использовалась и налобная броня, украшенная султаном или плюмажем.
Подобное нововведение сделало слонов еще более грозным оружием – особенно против римлян, впервые столкнувшихся с ними. И если армия Александра Македонского на р. Гидасп справилась с непростой задачей, то римляне лишь в третьем сражении против Пирра сумели одолеть этих животных.
Пирр как полководец был настоящим наследником Александра. Это касается и его стратегического чутья, и тактического искусства. Он обладал необходимым для стратега чувством пространства и способностью выбирать необходимый опорный пункт для развития кампании. Нам уже довелось говорить о Линконском массиве и его роли в македонских кампаниях Пирра. Но и в Италии он постоянно нащупывает правильные пространственные решения и совершает продуманные операции. Особенно показательны будут поход на Пренесте, идея кампании 279 г., а также события, предшествовавшие битве при Беневенте в 275 г. Да и последний поход Пирра – в Пелопоннес в 272 г., – несмотря на свой печальный финал, по замыслу может быть причислен к выдающимся примерам античной военной режиссуры.
Пирр, правда, был нетерпелив. Чем старше он становился, тем более ясно проявлялась эта черта. Многолетнее приложение усилий в одной и той же точке, на одном и том же театре военных действий было ему не по душе.
Впрочем, мы не знаем, не страдал ли той же чертой Александр, который волею судеб каждый новый год во время своего великого Восточного похода встречал в новой стране.
С точки зрения тактики Пирр, помимо расчленения тяжелой пехоты по фронту, был склонен к образовываванию резерва и постепенного введения в бой своих частей. Несмотря на очевидность подобного поведения полководца для современного военного человека, древность долгое время не знала такого понятия, как тактический резерв. Войско разворачивалось на поле боя в полном составе и в одну линию – так, чтобы разом использовать все силы для удара по противнику. Это касается даже Александра Македонского, который, как мы помним, при Иссс для поддержки левого фланга использовал фессалийцев и другие отряды, переброшенные за ненужностью с правой оконечности фронта.
Пирр начинает по-другому использовать и фактор времени. Обычно этого не замечают, но все три его генеральных сражения в Италии характеризует прежде всего стремление предварительно вымотать противника, после чего нанести удар наиболее свежими и боеспособными отрядами: слонами и фессалийской конницей. Перед нами первые примеры т. н. «обхода во времени», который гениальный Ганнибал спустя каких-то шестьдесят лет превратит в прямой двусторонний охват врага на поле боя[60]60
«Обход во времени» в случае Канн будет заключаться в сознательном удерживании от участия в бое на первом его этапе двух колонн тяжеловооруженных африканских солдат, которые дождались, пока масса римских легионеров «промяла» строй галлов и иберов, а затем нависли над ее флангами.
[Закрыть].
Говоря о характере отношений Пирра с солдатами, нужно отметить, что эпирский государь соединил в себе достоинства эллинистического владыки и царя – военного вождя национальной армии. Он стремился к созданию обширной территориальной державы и потому хотел быть для каждого из оказавшихся в его подчинении народов его законным государем. Эта, наднациональная, тенденция только подчеркивалась историями в божественных свойствах Пирра, усердно муссируемыми его окружением (точно так же поступали все эллинистические цари).
Но, с другой стороны, Пирр помнил о своих соотечественниках, которые составляли основу его войск. Как в армии Александра македоняне всегда находились на привилегированном положении, так и в войске Пирра первыми были эпироты, а среди эпиротов – молоссы.
В отличие от Деметрия, для которого солдаты были пушечным мясом и не более того (вспомним его разговор с сыном во время осады Фив), Пирр старался беречь костяк своих офицеров и солдат. Именно этим были вызваны его слова после победы при Аускуле, доставшейся слишком дорогой ценой: «Если мы одержим еще одну победу над римлянами, то будем окончательно перебиты». Солдаты чувствовали отношение к себе царя и платили ему преданностью. Лишь однажды ему изменили македонские части, перешедшие на сторону Лисимаха. Однако мы уже видели, что македоняне в эпоху от смерти Александра до воцарения Птолемея Керавна проявляли совершенную беспринципность.
* * *
Римская армия представляет собой совершенно уникальный случай в истории древности. Общепризнанно, что римляне создали самую совершенную военную организацию среди всех народов античного Средиземноморья, а возможно – и во всем мире. Однако римские легионы, прошедшие полмира, а затем несколько столетий поддерживавшие существование мировой державы, возникли не из головы Зевса. Прежде чем стать армией Гая Мария и Юлия Цезаря, они прошли длительную историю. Войны с Пирром застают их еще где-то на полпути к состоянию идеальной боевой машины. Это ставит ряд вопросов, разбор которых превратил бы нашу книгу в исследование истории римского легиона. Поэтому мы ограничимся только общими замечаниями, позволяющими судить о том, с каким противником довелось столкнуться Пирру.
Как и все античные армии, римская прошла через ряд последовательных реформ. Некогда (во времена Ромула) основу ее составляли отряды колесниц. Затем их сменили – как и в Греции – всадники. Отсюда происходила римская традиция начинать любую военную кампанию в марте (март – месяц, посвященный Марсу) с ристаний колесниц и конских скачек, считавшихся сакральными (кони-победители приносились в жертву), только после которых армии выступали в поход.
При царе Сервии Туллии в Риме сформировалась армия, напоминающая классические греческие: все свободорожденные римляне были распределены на имущественные классы, каждый из которых имел особое вооружение. Армия строилась в виде фаланги, основу которой составляли гоплиты, вооруженные на этрусский (схожий с греческим) лад. Остальные имели более дешевое и легкое снаряжение, по типу напоминающее вооружение греческих гипаспистов и пельтастов.
Более привычный нам манипулярный строй возник значительно позже. Причины для его появления лежали и в развитии римского общества (переход от монархии к республиканскому правлению, постепенное усиление значения плебеев), и во внешних событиях. В 390 г. римляне потерпели сокрушительное поражение от галлов при Аллии, после чего по инициативе знаменитого полководца Марка Фурия Камилла была проведена реформа, по вполне правдоподобному предположению современных историков имевшая целью создание армии, которая была бы в состоянии противостоять именно безудержному натиску ополчений галлов.
К этому времени слово «легион» из названия ополчения римских граждан превратилось в обозначение высшего тактического соединения; спустя некоторое время легионами будут. Называть и корпуса, выставленные союзниками. Согласно Ливию, после реформ Камилла легион стал состоять из 45 манипул (лат. «манипул», букв. – пучок сена, привязанный к шесту: древний воинский знак, вокруг которого собирались воины). Каждый из манипулов представлял собой подразделение, подобное греческому лоху и подготовленное как для самостоятельных действий, так и для сражения в общем строю.
Не менее важным, чем дробление на манипулы, было распределение сил летаона на три линии. Первую линию боевого строя составляли 15 манипулов гастатов, молодых тяжеловооруженных воинов. Численность манипула составляла 60 человек, к которым следует прибавить 20 застрельщиков (левисы), вооруженных дротиками. Вторую линию образовывали 15 манипулов принципов – солдат в возрасте от 30 до 40 лет, обладавших и боевым опытом, и зрелой воинской силой. Здесь каждый из манипулов имел численность также в 60 человек. Третья линия была самой громоздкой, хотя, вероятно, и не имела серьезного значения, будучи всего лишь тыловой опорой для первых двух. Эта линия сама делилась на три части. Впереди, сразу за принципами, стояли триарии – ветераны, прошедшие множество кампаний, но уже утратившие мощь принципов. За ними шли рорарии – воины, имевшие облегченное вооружение, то ли набранные из бедных сословий граждан, то ли просто молодые люди, еще не успевшие себя зарекомендовать на ратном поприще. Завершали эту линию акцензы – легковооруженные из неимущих римлян, которые вполне могли исполнять функции обозных служащих, вроде спартанских илотов, шедших за армией гоплитов. Каждый из этих разрядов имел по 60 человек, таким образом манипул третьей линии составлял 180 солдат.
Итого в легионе насчитывается (вместе с офицерами, сигнальщиками, знаменосцами и всадниками, числом в 300 человек[61]61
Всадники, приданные каждому легиону, делились на 10 «взводов»-турм по 30 кавалеристов в каждой.
[Закрыть]) 5000 воинов.
В более позднее время рорарии и акцензы попросту исчезнут из римского легиона, а численность триариев станет вдвое меньше численности первых линий. Во II столетии структура легиона (согласно Полибию) будет такой: 10 манипул гастатов (по 120 тяжеловооруженных легионеров и 40 легковооруженных велитов), 10 манипулов принципов (также 120+40) и 10 манипулов триариев (60 ветеранов + 40 велитов), всего 4200 велитов. Подобная организация более уравновешена и практична. Однако прежде чем перейти к ней, римляне должны были пройти через «легион Камилла», в который включено как можно большее число граждан, даже не имеющих боевого опыта и достойного гоплитского вооружения.
Такое распределение сил показывает, что легион был рассчитан прежде всего на фронтальное сражение. Маневрирование на поле боя еще не стало козырной картой римлян, а выход противника в тыл ставил перед ними почти неразрешимые проблемы. Однако вольски, этруски, галлы и самниты, с которыми имели дело наследники Ромула, и не ставили перед ними таких задач – за исключение эпизода в Кавдинском ущелье.
Зато при фронтальном сражении римляне имели явное преимущество над всеми италийскими врагами, даже над вызывавшими еще в IV в. ужас галлами. Однако чтобы разобраться с манипулярной тактикой времен Пирра, нужно поговорить об особенностях вооружения римлян.
Главным наступательным оружием было копье. Внедрение длинного этрусского копья, называвшегося «гаста» (отсюда – гастаты), приписывается царю Сервию Туллию. Оно представляло собой типичное гоплитское копье, которое нам известно уже по классической греческой фаланге. Именно этими копьями были вооружены римляне при Аллии и именно подобное вооружение было сочтено недостаточным для борьбы с галлами.
Камилл оставил гасту лишь для триариев, а гастатам и принципам взамен дал на вооружение по два более легких копья – пилума В древнейшие времена пилум использовался для защиты крепостных стен, правда, при этом он представлял собой очень тяжелое и длинное копье. Нам не известно, когда от оборонительного оружия, напоминающего сариссу, название перешло к метательному оружию, по сути – очень длинному дротику, однако уже ко времени Самнитских войн именно пилум составляет особенность римских легионеров.
«Антигалльская» нацеленность этого оружия видна очень хорошо. Дабы задержать грозный вал полуголых или полностью обнаженных варваров, вооруженных длинными мечами и щитами, гастаты метали пилумы, которые вонзались в щиты, тянули их вниз или поражали незащищенные части тела. При необходимости легионеры могли оставить один пилум при себе и даже действовать как фаланга – если не педзетеров, то гипаспистов или пельтастов.
Но обычно после разрушения строя и ослабления напора противника дротиками левисов и пилумами легионеров последние стремились перейти к рукопашной схватке, где главным оружием становился меч.
Знаменитый короткий римский меч (гладиус), происходивший от иберийского широкого кинжала, был принят в массовое производство лишь во время II Пунической войны. Так что легионеры, сражавшиеся против Пирра, действовали иным оружием.
Гладиусы привлекли римлян тем, что были предназначены именно для ближнего боя, где основным приемом являлся колющий удар снизу-вверх, однако благодаря достаточно широкому тулову могли являться и рубящим оружием – по крайней мере, ими можно было отмахиваться даже от длинных галльских мечей и от иберийских же ятаганов-фалькат. Оружие, которое археологи обнаруживают в слоях, относящихся к эпохам, предшествующим Пуническим войнам, не имеет такого универсального характера. Это либо кинжалы, основная функция которых заключается в колющем ударе (до 40 см длиной), либо же мечи, типологически схожие с оружием еще конца II тыс. до н.э. Последние представляют собой клинки от 25 до 55 см в длину со спиральным навершием рукояти (т. н. «антенный» тип. Некоторые кинжалы также украшены «антеннами»). Хотя к III в. все клинки стали железными, качество их изготовления оставляло желать лучшего: по одному из древних рассказов, галлы, сражавшиеся обычно именно длинными мечами, иногда были вынуждены останавливаться и, встав ногой на клинок, выпрямлять его.
Во времена войны с Пирром легионеры, видимо, уже были снабжены короткими вариантами мечей, однако едва ли от этого времени можно ждать единообразия рубяще-колющего оружия.
Главным элементом оборонительного снаряжения являлся скутум, большой овальный щит с умбоном, сменивший круглый аргивский еще до нашествия галлов. Несмотря на величину, он был достаточно легок, так как имел деревянную основу и покрытие из бычьей кожи в несколько слоев. Такой щит незаменим в рукопашной схватке, которая происходит не поодиночке, а в строю. Прикрывая значительную часть туловища, он позволяет достаточно свободно двигаться руке с коротким мечом. Все дальнейшие модификации щита, приведшие к появлению прямоугольного, загнутого наподобие фрагмента цилиндра, скутума, имели своей целью именно защиту воина в коллективном ближнем бою.
Помимо щита римский легионер был защищен шлемом (кассис), доспехом, поножами и, вероятно, наручами[62]62
По крайней мере, наручи, особенно прикрывающие правое предплечье, в архаическое время были популярны в Этрурии и Лациуме.
[Закрыть]. Римский шлем того времени происходит от сочетания нескольких типов, в которым главным был кельтский. Чаще всего это – шлемы-шишаки с нащечниками, защищавшими скулы воина. На их навершии устанавливалось особое крепление для гребня из конского волоса, делавшее древние рати похожими на табуны лошадей, а также держатели для длинных перьев черного и красного цвета – для того, чтобы солдаты казались выше, чем они есть.
Несмотря на разнообразие типов доспеха, найденных археологами в различных частях Италии, а также изображаемых историками, можно предположить, что он был довольно прост. Здесь имелось два типа. Один – простая нагрудная пластина (или комбинация из трех пластин, прикрывающих, соответственно, грудь и живот), которая скреплялась с такой же пластиной на спине широкими кожаными ремнями, одновременно предохраняющими плечи. Другой якобы предложил Камилл, и был он железным, но не сплошным, а состоявшим из скрепленных полос Грудь при этом защищалась секцией из 5–7 кожаных ремней шириной в три пальца, обшитых железом и образующих грудной панцирь. Подобные же ремни покрывали плечи и скреплялись с грудными. Аналогичные полосы кожи вертикально крепились на поясе для защиты бедер. Простые солдаты часто носили поверх туник кожаные безрукавки, спускавшиеся ниже бедер и заменявшие панцирь. Впрочем, железный панцирь иногда надевали и на эти кожаные «доспехи». Льняной панцирь, столь популярный на Балканах, также использовался в Италии, но общеупотребимым в римских легионах он еще не стал.
Что касается офицеров, то они имели более дорогие доспехи – в том числе «анатомические», стоившие тогда в Италии большие деньги.
Поножи легионеры носили на правой ноге, которую не прикрывал щит. В Италии имелись различные типы поножей, в том числе и такие, которые прикрывали большую часть ноги – включая колено и даже выше.
Как мы видим, вооружение римлян (по крайней мере, первых двух линий – гастатов и принципов) было достаточно специфическим. Столь же специфическим был и их строй.
Манипул состоял из двух центурий, которые перед боем располагались одна за другой. Легионеры строились по 10 человек в шеренге при глубине строя в каждой центурии в 3 ряда[63]63
10 человек в шеренге – это данные по легиону времен Полибия, то есть II в., когда манипулы гастатов и принципов были вдвое больше. Возможно, во времена Пирра во фронте манипула стояло 5 человек – дабы имелась достаточная глубина построения.
[Закрыть]. Расстояние между воинами в шеренге достигало 90 см, между рядами – до 1 м. По правому флангу выстраивались центурионы, их помощники, а также один знаменосец. Ширина одного манипула но фронту при построении двумя центуриями в глубину должна была составлять около 20 м.
Манипулы располагались на некотором расстоянии друг от друга – как по фронту, так и в глубину (между линиями). Это расстояние равнялось примерно 8 м.
Здесь начинается самая сложная для реконструкции часть римской тактики. Хотя манипулы второй линии располагались так, чтобы закрыть разрывы первой, а третьей – чтобы прикрыть промежутки во второй, однако подобный шахматный порядок еще можно принять для европейских армий времен войны за Испанское наследство, но никак для античной военной системы. Промежутки между манипулам представляли собой отличную возможность для вклинивания в них вражеских войск; получалось, что в римском легионе было целых 15 правых флангов, как мы помним – самых уязвимых элементов пехотного строя.
Таким образом, красивый шахматный строй римлян (при движении по пересеченной местности его, кстати, сохранять еще более трудно, чем строй гоплитской фаланги), который мы видим в исторических фильмах, – либо миф, либо же временное построение перед сражением, которое при сближении с противником изменялось.
Действительно, мы имеем свидетельства, что римляне все-таки сражались в сомкнутом строю. Когда враг был уже на расстоянии броска пилума, застрельщики прекращали «огневую дуэль» с ним и отходили за строй гастатов через имеющиеся проходы. Сразу после этого вторые центурии каждого манипула сдвигались влево и выходили вперед, заполняя промежутки.
Противник (предположим, это были галлы), уже расстроенный дротиками левисов, получал два «залпа» пилумами, после чего римляне бросались вперед, гася наступательный порыв врага, толкая его щитами, сближаясь до максимально близкого расстояния, когда сенноны или бойи не могли действовать своими длинными, громоздкими мечами.
Если этот удар не приносил нужного результата, гастаты по приказу центурионов быстро отступали назад, проскальзывая в тыл принципам через промежутки между их манипулами, и повторялась та же картина. Принципы метали пилумы в наступавшего врага, и бой как бы начинался заново. Правда, этот момент являлся одним из кризисов сражения: гастаты могли отрываться от противника отдельными группами или же отступать, преследуемые тем по пятам. В таком случае построение правильного фронта для второй линии было делом непростым Именно потому ее и составляли принципы, что в этой ситуации необходимы были опыт и сноровка. При необходимости принципам помогали рорарии, проходившие через промежутки манипулов триариев. По крайней мере Ливии однозначно указывает этот маневр во время описания битвы при Везувии (340 г.).
Триарии составляли последний резерв, оставляемый на крайний случай. Отсюда происходит известная римская пословица: «дело дошло до триариев», то есть «дела плохи». Впрочем, за спинами ветеранов, бившихся как традиционная фаланга, расстроенные гастаты и принципы могли собраться с силами и попытаться восстановить положение.
Следовательно, шахматное расположение манипул было связано со стремлением римлян сделать армию более мобильной именно при фронтальном сражении, а также как можно дольше иметь под рукой свежие подразделения. Битва дробилась па эпизоды, и первоначальный успех наступавших еще не был гарантией их победы. Те же галлы теперь натыкались не на жесткий, а потому ломкий, строй фаланги, а на более гибкое построение, смягчающее их натиск, выматывающее врага, а затем отбрасывающее его, как разжимающаяся пружина.
Конница при такой манере ведения боя имела вспомогательный характер. Она строилась на флангах и имела задачей не допустить случайного тактического обхода. Вооружение ее практически не отличалось от вооружения балканских всадников. Впрочем, римляне обучали своих наездников не только метанию дротиков, но и рукопашному бою. Ливии описывает, что во время Македонских войн конница македонян, отвыкшая от тактики времен Александра и предпочитавшая регулярному сражению легковесные наскоки, была поражена способом действий римлян, всегда доводивших дело до сечи на мечах
Римскую конницу главным образом составляли контингенты союзников. В эпоху Пирра особенно много было всадников из Кампании. В этой области, расположенной на юге от Лациума, где смешались древние италийцы, греки, этруски и самниты, было очень воинственное, своенравное население, традиционно поставлявшее конных и пеших наемников различным городам или тиранам (особенно на Сицилию). Кампанская конница отличилась в сражении при Сентине, когда сумела обойти и привести в смятение галлов, а затем ударила с тыла на самнитов. Это стало одним из новшеств в военном деле Италии, а римские всадники почувствовали свою значимость и уже при Гераклее ни в чем не хотели уступать пришельцам из Эпира и Фессалии.
С точки зрения стратегического развертывания вооруженных сил, римляне уже со второй половины IV в. обычно придерживались следующего образа действий. Они выставляли, две армии по два легиона в каждой. Численность этих армий превышала 40 000 человек, так как помимо собственно римских легионов союзники выставляли по крайней мере равные им контингенты. Согласно традиционным представлениям союзные войска подразделялись на когорты (букв, «отряд», «строй») численностью до 500 человек, тактика которых могла напоминать римскую. Однако ниже мы узнаем о бунте расположенного в Реши легиона, составленного из кампанцев, следовательно, во времена Пирра могли совмещаться оба типа организации союзных римлянам сил.
Армии действовали на разных стратегических направлениях (например, одна в Этрурии, другая – в Самниуме) под командованием консулов, каждый из которых обладал в отведенной ему зоне боевых действий абсолютной военной и гражданской властью (империумом). Иногда армии объединялись, и тогда консулы осуществляли свою власть по очереди, меняясь на посту главы армии через день. Иногда, наоборот, помимо действующих армий набирались дополнительные контингенты, которые возглавляли должностные лица рангом ниже.
Римляне использовали систему своих военных дорог, которую расширяли при первой же возможности. Их командующие всегда стремились к захвату стратегической инициативы и ведению боевых действий на территории врага, то есть за его счет.
К войне в Риме относились как к само собой разумеющемуся делу. Большую часть года значительная часть взрослого мужского населения покидала пределы города и отправлялась мстить соседям за совершенные ими несправедливости, чаще всего – мифические. Продолжался «сезон войны». С марта, месяца, когда, как мы уже говорили, созывалось ополчение и проводились игрища, посвященные Марсу, по октябрь, когда уставшая, но почти всегда обремененная добычей армия возвращалась в город и совершался обряд очищения оружия.
Даже когда в эпоху просвещения в Риме (конец III–II вв.) туда будет проникать греческая идея вечного мира, война останется сакральным занятием, угодным богам, только оправдывать римляне ее будут не естественным ходом вещей, а необходимостью защищать своих друзей и вообще малых мира сего от хищных врагов.
Полководец, который вел армию в поход, получал почти абсолютную власть над жизнью своих подчиненных. Во время смотра на Марсовом поле перед выходом в поход войска давали клятву богам и посвящали себя Марсу. Затем, как говорит Ливии, разойдясь по центуриям, легионеры клялись друг перед другом, что «страх не заставит их ни уйти, ни бежать, что они не покинут строй, разве только чтобы взять или найти оружие, дабы поразить врага или спасти согражданина».
Выйдя за пределы Рима (а точнее – на расстояние' примерно мили от городских стен), римляне полностью теряли свои гражданские права, переходя в распоряжение командующего. Тот был олицетворением воли покровительствующих Риму богов. Именно ему были вручены права на ритуальное обращение к богам с просьбой о помощи римскому народу, а также на совершение ауспиций – гаданий о том, благоприятствуют ли сейчас Небеса сражению или нет.
Существовало два вида гаданий, принятых в Риме. Самые известные – наблюдения за полетом птиц: их количеством, направлением, характером поведения. Как известно, результаты именно подобного гадания дали священное право на основание Рима Ромулу, а не его брату Рему.
Однако в армии обычно пользовались другим видом предсказания. Армии возили с собой в деревянных клетках цыплят, которых полководец перед сражением приказывал накормить. Если цыплята жадно бросались на еду, при этом роняя часть пищи на землю (как бы делясь с богами земли, подобно тому, как на пирах древние совершали возлияния из кубка на землю нескольких капель вина), то это было благоприятным знаком. Во всех других случаях полководец должен был постараться избегнуть боевого столкновения.
Рассказывают, что однажды римскому адмиралу перед неминуемым столкновением с противником сообщили, что цыплята отказываются принимать пищу. Он приказал выбросить их за борт, добавив: «Не хотят есть? Тогда пусть они попьют!»… – и проиграл битву.
Хотя во времена Суллы и Цезаря образованные римляне будут смеяться над этим обычаем, утверждая, подобно Цицерону, что хитроумные полководцы попросту приказывают морить цыплят голодом, дабы они в нужный момент жаждали пищи и в то же время были слишком слабы, чтобы удержать ее, подобный обычай будет сохраняться даже в войсках императорского Рима[64]64
Греки также стремились испрашивать совета высших сил перед началом сражения, так что римляне не были исключением. Правда, эллины предпочитали более жестокий способ: используя практику этрусских гаруспиков, они гадали по печени жертвенных животных. Плутарх рассказывает, что во время битвы при Платеях (479 г.) спартанцы продолжительное время терпели обстрел со стороны персов только потому, что печень животных, заколотых их предводителем Павсанием, не была чистой. Лишь когда к ставке командующего прорвалось несколько конных варваров и окружение полководца было вынуждено отбиваться от них палками (ведь боги все еще запрещали брать в руки оружие!), Павсанию попалось здоровое животное.
[Закрыть].
В наше время подобная практика выглядит странно (хотя, насколько мы знаем, услугами предсказателей, причем не только астрологов, пользовались многие из генералов, принимавших участие в войнах 90-х гг. XX в.), однако для римлянина она свидетельствовала о священном статусе его полководца. Лишь этот человек мог получать знаки от богов и толковать их. Поэтому подчинение ему было делом, угодным не только общине, но и Небесам.
Именно этим, а не склонностью древних римлян к громким деяниям, следует объяснить примеры крайне жесткого подавления их военачальниками малейшего неповиновения в армии. Так, Аппий Клавдий, вводя практику «децимации», то есть убийства каждого десятого из провинившегося подразделения, самолично дубиной крошил головы беглецов[65]65
Так утверждает Фронтин. Тит Ливий и Дионисий Галикарнасский говорят о «цивилизовнной» казни через усекновение головы.
[Закрыть]; Тит Манлий убил собственного сына, виновного в том, что тот одержал победу, вступив в бой без разрешения своего отца. У Фронтина в его «Стратегемах» есть раздел, где приведены 45 самых известных случаев наказаний за нарушение дисциплины, причем подавляющее большинство из них – римские.
Любое сопротивление собственной воле командующий расценивал как нарушение воли богов. Все победы римской армии, по мнению граждан Рима, происходили благодаря строгому подчинению Небесам, по отношению к которым консул выступал своего рода чиновником, передающим по инстанции высшую волю. Именно поэтому история Рима пестрит огромным количеством полководцев, вечно одерживавших победы над противником, но обычно командовавших войсками не более одной-двух, а крайнем случае трех кампаний. Такие фигуры, как Марк Фурий Камилл в истории ранней Республики, – скорее исключение, чем правило. Военачальник мог свободно передать руководство военными действиями своему преемнику, если тот был избран согласно всем требованиям традиции. И только во время затяжной, тяжелой войны с Ганнибалом, едва не поставившей Рим на колени, появятся полководцы иного типа: Клавдий Марцелл и Сципион Африканский. Эти люди олицетворяют успешные стратегии ведения войны и потому длительное время командуют армиями.