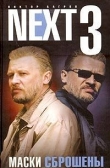Текст книги "Минус Лавриков. Книга блаженного созерцания"
Автор книги: Роман Солнцев
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 10 страниц)
Ни о чем не хотелось думать – он понимал, что Иван Калита уже не вернется и что ему, Мине, выпадает судьба чужого человека. Он забыл спросить у Калиты, осудили уже его или еще нет. Если нет, предстоит суд, где он, Миня, должен будет объяснять с чужих слов, почему убил жену. Да, убил… потому что застал с ее любовником… ударил поленом… каким поленом? Сосновым поленом, на нем смола была, волосы жены приклеились… кровь… Какой это ужас! Убить человека! Был целый мир со своей вселенной, со своими ощущениями, надеждами, воспоминаниями… глаза сияли, губы прикасались к яблоку… и вдруг лежит мертвое тело, мясо, и оно просто–напросто портится… Впрочем, наверное, уже похоронили несчастную женщину.
Суббота и воскресенье прошли в тишине, никто Лаврикова никуда не вызывал, никто к нему не приходил. Правда, охранник заглядывал:
– Хлеба еще хочешь? Чай будешь?
– Нет.
– Что–то тебя все забыли…
– Да. – И Миня вдруг устрашился – не дай бог, явятся знакомые Калиты. И тогда его здесь могут избить до смерти за помощь, оказанную преступнику. Конечно, изобьют.
Это, наверное, случится в понедельник. Начальство выйдет на работу, откроется железная дверь, гаркнут: «Калита, на выход!», и поведут Миню… но куда поведут? В районный суд? А туда могут вызвать и неведомого Константина? Что–то будет.
И наступило наконец утро понедельника. Но почему–то очень рано, еще Лавриков толком не проснулся, по коридорам милиции загрохотали сапоги. Кто–то наверху, над потолком, кричал в телефонную трубку:
– Что? Что? Понял!.. Есть!..
А неподалеку, за стеной, гремели какими–то ящиками, хлопали дверями:
– А где фильтры? Они же пустые!..
– Не твое собачье дело!.. Сказано – надевай!..
Щелкнул замок в двери ИВС, появился уже знакомый охранник, вертит резиновой палкой, звенит наручниками, рот до ушей.
– Иван Грозный? Или как тебя?.. – Он ловко защелкнул наручники на кистях Мини и толкнул. – На выход! Ты нам тут помеха… посидишь на улице, пока за тобой не подъедут.
– А что происходит? – спросил, как всегда любопытствуя, Лавриков.
– Ну, учения, блин… борьба с терроризмом… – Словоохотливый милиционер вывел арестованного из милиции, посадил на бетонную скамейку и приковал правую руку Мини к арматурной петле, торчащей из бетона. – Бежать тут некуда… сиди и смотри спектакль.
Из его веселых торопливых слов Миня понял: из областной столицы прилетел генерал на специальном вертолете и, может быть, сейчас будет наблюдать сверху, как идет операция по задержанию «чеченцев».
Но в небе, кроме серых туч, ничего пока не было. Тем не менее, стреляя выхлопной трубой, к зданию милиции подкатил короткий автобус и из него с криками «Аллах акбар» высыпали, выхватывая пистолеты, человек семь в черных масках. Вот они топают прямо к крыльцу милиции. Один что–то докладывает, оглядываясь, по рации. Вот другой из них швыряет в открытую форточку окна гранату, но промахивается – слышен звон стекла…
– Ты чё, сука!.. – в окне маячит милиционер. И суетливо надевает противогаз.
Из–за угла здания послышался стрекот – вылетели пять или шесть мотоциклистов, резко остановились и принялись лупить из автоматов по «чеченцам». Те, не оглядываясь, вбежали в дверь милиции. В эту минуту за спиной Мини послышался взрыв, но несильный, – видимо, шумовая ракета или иная шашка. Миня сгорбился на своей скамейке и продолжал изумленно глядеть на операцию.
Автоматчики не успели подбежать к крыльцу, как распахнулись двери и уже ведут «чеченцев» в наручниках, у одного «правильного» милиционера вывихнута или потянута рука, он нянчит ее левой и шепотом ругается:
– Гады, так не договаривались… мне вечером картошку копать…
И кто–то осторожно постучал Мине по спине. Миня обернулся – рядом присел, тяжело дыша, осунувшийся, небритый, черный, как землекоп, Иван Калита.
– Меняемся!.. – прошептал он. – Я тут второй день, а попасть не могу… как им объяснишь?
Лавриков кивнул на прикованную наручником правую руку, но тезка уже орудовал кривым гвоздем. Вот и свободна рука Лаврикова, вот и прикован сам Калита к железной петле скамейки.
– Кепку мою надень на меня. А теперь беги, братишка!.. – Калита посмотрел в глаза Лаврикову. – Хороший ты мужик… никогда не забуду… прощай.
– Убил его? – глухо спросил Миня, стоя за кустом акации.
Тезка мотнул головой, ожесточенно сплюнул.
– Пожалел собаку. Ладно. Прощай.
С площади уехали и автобус, и мотоциклисты. К Калите подбежал другой, к счастью, милиционер, жуя колбасу, отцепил руку и повел арестованного куда–то вдоль по улице. Прощай, дружок. Господи, как только не переламываются судьбы…
Миня постоял, глядя вслед, и вдруг ощутил сильнейший голод, до спазм в желудке, побрел искать гастроном. Может быть, грузчики нужны. Надо где–то заработать.
Он увидел длинное здание, слоёное по вертикали – из красного и белого кирпичного «теста», вывеска гласит: «Зебра». И пониже: «Супермаркет». Обошел магазин сзади, на пустых ящиках сидят двое вполне прилично одетых мужичков в синих фартуках.
– Кого ищем?
Узнав, о чем хлопочет Лавриков, сразу сделали скучные лица. Один, постарше, не глядя в глаза, объяснил, что нынче грузчики имеются при каждой торговой точке, в райцентре все разбито по зонам. И выходит, прокормиться негде. Не пойти ли пешком обратно в село к Люське? Тем более что там осталась красная пуговка с черным нутром в горшке с геранью. Зачем она нужна Мине? Он уже не помнит, но помнит – нужна.
Но где это село, в какой стороне? По небу проплыл, крутя лопастями, вертолет. Вот с генеральского вертолета, наверное, видно все вокруг… и домики совхоза имени ХХ партсъезда…
Лавриков долго тащился по бугристому асфальту, услышал во дворе с открытыми воротами визгливую музыку, вздохи медных труб – кого–то хоронят. Подошел посмотреть. Покойник лежал в гробу на двух табуретках возле подъезда, женщины утирали глаза, мужчины, уже пьяные, играли желваками, словно готовясь немедленно кому–то за что–то отомстить. И только маленький мальчик в костюмчике, лет пяти, с круглыми синими глазами, смотрел, растерянно смеясь, как воробей бегает под гробом, клюя черно–белую подсолнечную лузгу и сердито выплевывая – пустая…
Миня побрел дальше и увидел нарисованную змею над рюмочкой и вывеску: «Городская больница № 1». Открыл скрипучую дверь в холл, улыбнулся и приблизил простоватое свое лицо к окошку регистрации.
– Медбла… медбратья не нужны?
– Братья нужны, – ответила смешливая девица, – только не на работе.
Но в это время мимо проходила грузная тетка в белом халате. Остановилась, оглядела, поджав нижнюю губу, небритого голодного Миню в полосатых брюках, в смешной клетчатой рубахе.
– Ты хоть отличаешь руку от ноги? Перевязки делать умеешь?
– Нет, – ответил честный Миня.
– Тогда иди в психушку, – прищурилась она. – Там одного санитара на днях психи задушили. Вакансия.
«Это по мне, – горестно кивнул Миня. – Наконец–то. В психушке я еще не бывал».
– А где она?
– А с другой стороны. У нас тут обычная больница, а с той стороны… это после того, как психи сожгли свою больницу.
И Миня обошел здание горбольницы – здесь ржавая вывеска гласила: «Психиатрическая клиника № 1». Он подумал: «Именно здесь твое место. Здесь люди куда более несчастны, чем ты, – они лишены разума. Вот кому ты должен служить».
10
В маленькой прихожей (приемном покое) за столом сидели две девицы, одна курила, другая писала в журнал.
– Вам кого? Сегодня нет свиданий, – процедила курившая, не вынимая сигарету изо рта.
– Даже с вами? – вымученно сострил Миня. – Я работу ищу. Только у меня водой паспорт унесло. Но насчет меня можете проверить в милиции, они знают – позвоните дежурному Бабкину.
Девицы переглянулись. Курившая была со злым желтым лицом, почти мужицким, а та, что писала, с глазами длинными, как у японки, и очень грустными.
– Есть там такой, – сказала она. – Ну, а жилье имеется?
– Жилья нет. Но я могу жить, где угодно. Найдется же у вас койка.
Девицы еще раз переглянулись.
– Я думаю, Олег Анатольевич не будет возражать, – сказала писавшая. – Главное, вы держитесь с больными просто, не угрожая и не боясь. Как если бы вы сами были из их среды. – И она чуть покраснела.
Миня кивнул. Этот совет ему неожиданно понравился. «В самом деле, – подумал он. – Чем я разумнее их, если бросил красавицу жену и юную беззащитную дочь? Скорее забыться в работе!»
Лаврикову выдали белый халат без пуговиц, железную койку с пружинами, повели и указали место, где он может спать – под лестницей на втором этаже, в комнатке кастелянши. Койка встала там как раз по длине комнаты, входную дверь теперь возможно открыть только на 45 градусов, а далее уже некуда. И хорошо. Если что, Миня койку чуть подвинет влево – и дверь не открыть, никто не ворвется.
На работу он с нетерпением вышел с вечера же. Обязанности его состояли в том, чтобы больные не хулиганили, не обижали друг друга, не винтили из ложек пропеллеры, как Чкалов из первой палаты, не лепили из хлеба чернильницы для секретного письма, как больной Ленин из второй палаты, постоянно просивший вместо чернил молока из груди у той самой, курящей злой медсестры, которую он называл Наденькой. А главное – распределение лекарств, и чтобы пили сколько и когда положено, а не прятали под матрас. Лекарства всем были прописаны сильные – элениум и прочие транквилизаторы, а в случае критическом, когда человек начинал бунтовать, кололи строфантин, хотя, говорят, его давно запретили в цивилизованном мире.
К ночи Миня подружился с двумя больными. Один прыгал с балкона четвертого этажа с криком «Да здравствует свобода!» еще лет двадцать назад – и остался жив. И после этого он порывался каждые пять–шесть лет с тем же воплем полететь с балкона, но его вязали и привозили сюда.
– Свобода уже есть, у нас демократия, – объясняла ему жена и объясняли соседи.
– Свободы никогда нет, – отвечал странный больной, кандидат технических наук Андрей Батагов, по кличке Ботинок (если с балкона сбросить ботинок, то ему ничего не сделается).
Другой больной с седыми растрепанными волосами уверял, что он простой человек из народа, проник сюда, доподлинно зная, что тут скрывается от правосудия бывший сотрудник администрации области, который за взятки раздавал лицензии на добычу золота и нефти, а сейчас, с приходом нового губернатора, спрятался в психушку чужого города и будто бы ничего не помнит.
– Вон он! – показал человек из народа на тихого господина перед телевизором, с челкой, с губастой улыбкой вроде кривой краковской колбасы. – Его фамилия Ефимов. Вот смотрите, я сейчас громко скажу… – И седой надрывно крикнул. – Ефимов – вор и симулянт! Вор и симулянт!
И, несомненно, можно было видеть, как тихий человек у телевизора, дернувшись, словно проглотил колбасу своей улыбки, мучительно весь скривился, заерзал на стуле, что–то забормотал.
– Видели?! Всю область, все недра за бесценок отдали Березовскому и Рабиновичу.
Миня помнил, кто такой Березовский, но не помнил, кто такой или который именно Рабинович скупил у нас все недра.
– Вот вам еще Вася скажет.
К Мине приблизился «Вася», носатый, как грач, важный, как маршал, лысый человечек.
– Я тоже человек из народа, – зашептал он, оглядываясь. – Мы проверили у Ефимова квартиру… там, в областном городе. Нету долларов! А как проверили? Элементарно, Ватсон! Звоним в милицию: третий подъезд заминирован… ну, тут же всех из дома… а мы через чердак с фомкой – к Ефимову. Но, увы, нет ничего! Значит, в другом месте заныкал. Будем дожидаться, когда на волю пойдет. Артемовский рудник, гад, загнал за семнадцать миллионов рублей, а там концентрата на миллиард.
Люди из народа сверкали глазами и утирали щеки. Мимо тихо прошел Ленин, он передумал сегодня писать августовские тезисы. Андрей Батагов стоял у зарешеченного снаружи окна, дышал на стекло и рисовал слово «liberté».
– Ну, освоились? – негромко спросила девушка с японскими глазами. Ее звали Марина. Она внимательно следила, как работает новый санитар, как терпеливо выслушивает всех, как разнимает ссорящихся. У Мини лицо ласковое, слова тихие, но больные слушаются его больше, чем Вадима, огромного санитара, похожего на надутую куклу.
Через дня три Марина предложила:
– А не хотите жить в комнате, где мне сдают жилье? Здесь все же шумно. Вы же не отдыхаете.
Дело в том, что больные, полюбив Миню, стали вызывать его и среди ночи – то в шахматы поиграть, то в карты. И Лавриков не высыпался. А Марина ему понравилась. Лицо нежное, маленькое, волосы до плеч. Наверное, можно с ней стихи почитать или музыку послушать.
Марина провела его через улицу в деревянный дом, где жила: у нее отдельный вход с торца, свой ключ. Комната, предназначенная для Мини, рядом с ее комнатой, окна и у нее, и у него выходят на желтеющие березы, на пустырь.
В ее комнате по стенам везде наклеены портреты красивых женщин – здесь и Мадонна, и Алла Ларионова, и Марлен Дитрих, и Елизабет Тейлор… И ни одного мужского портрета. Почему? Весьма скоро эта странность получила объяснение.
Марина явилась к Мине ночью, когда он уже лежал в койке, а дверь замкнуть невозможно – нет никакого крючка.
– Можно? Простите? – И включив свет, села поодаль – в голубом халатике, – поджав голые красивые ножки, раскрыв на коленках книгу. – Вот послушайте. – И начала вслух читать «Песнь песней Соломона».
Когда–то Лавриков читал эту главу из Ветхого завета, помнил яркий слог, там очень много пышных метафор, иногда немного смешных. Опять же ноги женские, как колонны, и прочее. Но возвышенный язык ему всегда нравился.
Да лобзает он меня лобзанием уст своих!
Ибо ласки твои лучше вина…
Не смотрите на меня, что я смугла,
Ибо солнце опалило меня…
Сыновья матери моей разгневались на меня,
Поставили меня стеречь виноградник, —
Моего собственного виноградника я не стерегла…
Скажи мне, ты, которого любит душа моя:
Где пасешь ты, где отдыхаешь в полдень?..
Причем, не сразу понятно, кто где говорит, Соломон или красавица. Это великий диалог.
– Да, – сказал Миня. – Здорово. Я даже думаю, это говорит единый вселенский разум.
– А теперь, – медсестра его не слушала. Она выложила ему на ладонь три зелененьких шарика. И, немного смутясь, прошептала: – Это чтобы вы спокойно спали, таблетки… – И протянула маленькую бутылочку «Святого источника», которую принесла в кармане халата. – Запейте.
Завороженный ожиданием непонятно чего, Миня выпил, а Марина, выключив электричество, легкими шагами упорхнула…
И он проснулся среди ночи с невыносимым желанием женщины. Все тело пронизывали сладостные судороги. Как это гнусно! Он ложился и так, и этак… да что же это такое? Это действуют таблетки? Но зачем такие? Или она ошиблась?
На следующий вечер после работы Миня, осунувшийся, лежал в кровати, читая какую–то глупую книгу про разведчиков – нашел на полке. Не дай бог, опять придет Марина! И она снова пришла и снова была в голубеньком халатике, небрежно завязанном на поясок, смоляные волосы брошены на плечи, и нет в ее облике чего–либо опасного, от ведьмы или просто распущенной женщины. Она ему читала стихи Фета о любви:
– Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали
Лучи у наших ног. В гостиной без огней
Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали,
Как и сердца у нас за песнею твоей.
Ты пела до зари, в слезах изнемогая… —
дочитала и снова насыпала в ладошку Мини таблеток.
– Что это? – спросил он, страшась предстоящей ночи. – Снотворное?
– Успокаивающее, – удивленно ответила она. – Выпейте.
И снова он выпил, и снова среди ночи был готов лезть на стены или отсечь к чертовой матери этот идиотский отросток, которому завидуют крохотные девочки, увидев сие у своих крохотных одногодков… Пошлость! Пошлость! Хватит! Она явная нимфоманка! Надо отвлечься! Он схватил со стола книгу по психиатрии Э. Русакова, давно хотел почитать. Не получается!..
На следующий, третий вечер, как в сказке, где всё до цифры три, она вновь явилась в темноте, как таинственная фея, села вовсе неподалеку и, уже не включая света, стала шепотом рассказывать про знаменитых и прелестных красавиц прошлого – про жену Пушкина Наталью и про Марию Кюри, про Жанну д’Арк и Гала у Сальвадора Дали, про Прекрасную Даму Блока и Лилю Брик… И снова дала таблеток и улетела…
И когда среди ночи он плакал, закусив подушку, дверь тихо отворилась, и Марина предстала перед ним, сбросив халатик, – еле различимая, но тускло светящаяся, нагая, как белая мраморная статуя…
И он бросился к ней, как никогда в жизни не бросался к женщине, метнулся, как некий порабощенный зверь, упал на пол, целовал ей руки и колени, и овладел ею на ветхом, скользящем по полу коврике, и потом они оказались на кровати его, и он терзал ее, и она, запрокинув голову, все время молчала, только смотрела странными узкими глазами ему в глаза…
И только под утро, уже в дверях, обернувшись, произнесла наставительно:
– Теперь ты понимаешь, как важна на свете женщина…
Что за этим стояло, какие перенесенные ею страдания, феминистка она, что ли, Миня, конечно, не знал, да и не желал бы теперь узнавать… Одно было понятно: он пал окончательно. Утонуть бы в пьянстве, да нужно работать… можно и в работе забыться… выносить судки из–под тяжелых больных, мыть коридор, сшивать порванные ремни…
Или бежать немедленно из этой психушки, пока странная красотка не свела и его с ума! Сладострастие и мерзость! Содом и Гоморра! Падать ниже некуда! Ниже – только геенна огненная! Он весь в смраде! Где, в какой реке теперь отмоется?!
Трясясь от пережитого, мокрый, ненавидя себя, на заре, еще в сумраке, чтобы узнать время, он протянул руку и включил старую «Спидолу», стоявшую на полу, и оттуда, из хаоса звуков, вдруг вырвался звонкий женский голос, говоривший на английском. Миня вскочил в постели и посерел лицом. Ему показалось – здесь, рядом, жена Таня! Нашла его…
Бежать!!! Решено!!! Но уйти из райцентра до всеобщего подъема, до завтрака, он не успел. Прошмыгнул в больницу – хотел в сумерках прихватить из кладовки какой–нибудь ватник, потому что простуда не отпускала его, кашель выдирал из легких болезненные и щекочущие клочья, – так можно и свалиться. А если он свалится, ему возле Марины – смерть…
Однако в столь ранний час везде горело электричество, весь персонал был на ногах, включая доселе улыбчивого, а сегодня вдруг насупленного, раздраженного главврача. Что–то случилось?
11
Татьяна не успевала управиться с домашними делами – подолгу задерживалась на работе. Иностранцы, как пчелы на мед, летят в Сибирь. А через день–два уже сентябрь, Валечке идти в школу, до сих пор не куплены новые учебники, фломастеры, ручки, красивые тетради (все же девочке надо красивые!), также были обещаны ей туфли на широких каблуках… всего на тысячи полторы забот. Да и у самой Татьяны забота: обломилась шпилька, попала в щель между плитами тротуара, все же асфальт более щадящ для обуви, а эта горбатая модная мозаика на городской земле с приходом заморозков станет истинным бедствием, покрывшись панцирями льда. В прошлом ноябре, помнится, дочка упала, расшибла колено…
Нету, нету времени! До сих пор не уплачена квартирная плата за июль, а банк «Факел», куда положено платить, работает только до шести вечера, почта же, куда несем деньги за телефон, в семь также закрывается. А тут еще у кошечки Люси нарастает и нарастает любовное недомогание – животное жалуется, кричит. То ли капать ей на нос контрацептивы, то ли везти в ветеринарную лечебницу делать операцию… Господи, а еще имеется, никуда не делся, дачный участок, который издали, из–за дымных труб города, словно вопит во все свои зеленые дудочки и жалобно моргает цветами. К счастью, недавно вновь сыпало дождем, не повянет, наверное, зелень, не согнется до земли. Смородину Татьяна успела собрать в одно из воскресений, почти полное ведро получилось. Но надо бы и стручковую фасоль не упустить, пока не ожестенела…
Автобус, как всегда, не доезжает до ворот дачного кооператива «Наука» с километр, и Татьяна сегодня замарала сапоги до колен, пока добралась по склизким переулочкам, заросшим бурьяном. Вот он, родной деревянный домик, неказистый, размером 2,5х 3,5 метра, с железной трубой и двумя флюгерами, его сложил когда–то из бруса Миня. Дверь не запирается, потому что воры уже не раз отдирали фомкой скобу вместе с замком, и теперь край двери измочален, словно его грыз некий зверь. Внутри крохотная печурка из кирпича, она на месте, топчан и стол целы, а вот стула нет – сожгли, только обугленная ножка осталась… Что же украли на этот раз бомжи? Исчез электросамовар, который, обернув в старые газеты, Татьяна затолкала недели две назад под топчан. Исчезли алюминиевые ложки и вилки, хотя были подвешены на ниточке над дверью и завешаны старым полотенцем. Воры поозирались – увидели. Никаких постелей тут, конечно, Лавриковы давно не держат – уносят в железный гараж.
Отперев гараж, Татьяна окинула взглядом его почти пустое пространство, где пара колес от «хонды» (ах да, машину недавно забрал сосед по участку Тундаков), да в дальнем углу старый трехколесный «ИЖ» – Миня не успел его красиво покрасить, чтобы дочь не стеснялась ездить… канистры, вилы, лопаты… И Татьяна заплакала. Нет, надо работать, работать.
Для начала, чтобы успокоиться, окунула глаза в свои цветы, высаженные справа и слева полукругом возле домика – малиновые астры и белые пионы, которые так любил Миня, похожие на маленькие тугие облака… а рыжие циннии, а синие флоксы, а оранжевые титонии и монарды… А уж бархатцы, бархатцы красно–золотистые, вот они, стоят как солдатики! Миня любил их носом потрогать.
Татьяна специально отпросилась у первого заместителя мэра, сказав, что трава забила весь огород. И в самом деле, сделай два шага – словно камыш над озером, стоит лебеда, лезет пырей, вымахал и уже пушится молочай. Натянув перчатки с красными резиновыми наконечниками, взяла маленькую лопаточку – размером с ладонь – и, согнувшись, вошла в зону травы. Господи! Почему сорняки такие мощные?! Да потому, конечно, что здесь, на холмах за городом, где выделили небогатым людям участки, у них, у сорняков, веками была родина. За две недели свободы прострочили Татьянины грядки так густо, что лука не видно, свекла попряталась… а уж фасоль и вовсе закрыта, как занавесом.
Вот молочай, казалось бы, хлипкий, отрывается легко, а корень остается, а потом на этом месте из земли выскакивает пучок юных молочаев. Миня как–то сказал, что молочко в этих растениях – тот же каучук, если бы научиться перерабатывать…
Татьяна работала в Мининых синих трико, к наступлению сумерек от усталости начала опускаться на колени, потом села, настелив газет на бревешко, которое воры не сумели спалить в костре возле домика.
Отвыкла от физической работы. Подняла взгляд – а вишня–то уже темно–красная, переспела, ее–то надо бы тоже снять. Доковыляла до куста, принялась сдергивать и есть… сладко–то как.
За спиной хмыкнули и зааплодировали. Татьяна резко обернулась. Кто это?!
– Извините, сударыня, шел мимо и восхищенно остановился! – Это еще один сосед по дачному кооперативу, полуспившийся актер из местного театра Соколовский, высокий, узкоплечий, с редкой рыжеватой бородой, в которую он все время усмехается короткими губками и этим раздражает Татьяну.
– Здрасьте, – Татьяна молча ждала, что последует далее. Уж не скажет ли, что и у него Миня деньги занимал?
Но Соколовский, человек все же умный, решил, видимо, сыграть в обратную игру. Выказать некое благородство.
Усмехаясь своей таинственной и все же подловатой улыбкой алкаша–попрошайки, он молча подошел ближе, сунул руку в один карман, в другой, что–то нащупал, поиграл там пальцами (уж не прикидывая ли, сколько дать?) и вынул розовую сотенную бумажку.
– Вот… прошу великодушно простить, – заговорил он, настойчиво заглядывая в глаза своими немигающими серыми, – задержался с отдачей… брал у Михаила… конечно, мог бы подождать… но поскольку занимал на месяц, то и отдаю не позже… – И он протянул деньги, и Татьяна, вспыхнув от недоверия (не обманывает ли актер?!), отступила на шаг. – Ну, чего вы, Татьяна Сергеевна?! Не с процентами же – между своими?!
– Да о чем вы?! – пробормотала Татьяна, и деньги пришлось взять. – Только мне он ничего не говорил…
– А зачем он будет говорить?! – рассмеялся актер, выкатывая темные обкуренные зубы. – Если бы это он занимал… да и в таком случае – зачем туманить столь прелестную головку?..
Татьяна неловко сунула деньги в карман куртки, все больше подозревая, что актер придумал свой долг с единственной целью предстать красиво перед ней. Наверное, теперь он чего–нибудь потребует: пойти в его недостроенный коттедж, поговорить по душам, вина выпить и пр. И Татьяна, торопя события, улыбнулась и как бы легкомысленно бросила:
– Вот и спасибо… как раз на такси… заработалась и подумала, как бы теперь быстрее домой добраться. Хотите вишни? – Кивнула на кусты и пошла складывать лопаты и перчатки в гараж.
Услышала шаги. Наверное, уж не набросится сзади.
– Я почитаю вам, Татьяна, – встав довольно близко, произнес актер, напрягая голос, как Каргаполов, делая его по тембру богаче, – монолог Гамлета. В переводе, естественно, Бориса Леонидыча.
Быть иль не быть, вот в чем вопрос.
Достойно ль
Души терпеть удары и щелчки
Обидчицы судьбы иль лучше встретить
С оружьем море бед и положить
Конец волненьям? Умереть. Забыться…
Татьяна, стараясь не суетиться, заперла гараж, затем повесила купленный еще Миней новый замочек на дверной косяк избушки – пусть издали кажется, что дверь заперта.
– Извините, – буркнула Татьяна.
– Понимаю, понимаю, – снисходительно пробормотал он. – Но каково, да?! Особенно про «униженья века, позор гоненья… надменность власть имущих…»
– Да, да. Спасибо, я поехала.
Покосилась – а он все стоит, корябая пальцем бородку, с понимающей улыбкой глядя в спину одинокой женщины. Наверное, решил, что первая попытка приручить прошла успешно. Ну, давай–давай. Прохладно улыбнувшись ему и тут же картинно погасив улыбку, Татьяна быстро зашагала (так и оставшись в трико) в сторону автобусной остановки.
Уже сгустились синие сумерки, но фонари здесь никогда не горят… Боже мой, дома ли дочь? И что делать с кошкой? И как быть с телефонными звонками? Если вправду Миня назанимал такие огромные суммы, как их вернуть?..
Дочь была дома. И не одна – со своей подружкой Леной. Они сидели рядком, включив магнитофон, но не музыку они слушали – заново и заново обсуждали свидание матери с Каргаполовым. Конечно же, Валя тогда немножко подсмотрела и подслушала.
И с тех пор ходила, как больная, вспоминая разговор взрослых, переживала так остро, как будто у нее, у Вали, вырвали сразу несколько зубов.
Неужто мать изменит папе? И соединит жизнь с этим толстоносым? А как же она, Валя? Она его никогда не назовет папой! Она верит: папа живой. Может быть, он в Чечне, а может, в Америке, но он даст о себе знать. Если бы был мертв, нашли бы труп. За истекшие недели, как доподлинно узнала Валя из газет, в области обнаружили сорок два трупа в земле и в бетоне, и все они идентифицированы, то есть абсолютно точно известно, кто это такие.
Значит, или папа далеко погиб, что почти исключено, или он жив. Но не может пока дать знать о себе. А этот тип с желтыми волосами ведет себя уверенно, как киноартист Харатьян. Считает, видимо, что неотразим. У него, видишь ли, белый плащ и белые ботинки с английскими флажочками, пришитыми сбоку. Явился в темных очках, хотел, видимо, разыграть маму, идиот.
Валентина не сразу рассказала подруге все детали. Но сегодня – с самого начала и до конца. Лена по обыкновению сунула жвачку в рот и принялась думать. И вдруг:
– Валька! – Оглянувшись, прошипела страшным шепотом. – Это был твой отец!!!
– Ну, скажешь тоже! Ха–ха! Что я, папу не узнаю! Он мимо прошел! Я же говорю – высокий!
– В шляпе все кажутся высокими.
– Да папа никогда не носит шляпы. И темные очки.
– Вот! Это специально, чтобы не узнали!
– Да брось ты! – уже сердилась Валя. – Что я, папин голос не узнаю?
– А вот мой узнаешь? – Лена исказила голос. – Только так, господа, только так!
– Ой, прямо наш завуч!.. Но папин–то голос… И вообще, они с мамой говорили, как старые знакомые. Он и папу знал. В женихи набивается. Мама отказала. Резко так.
– Ну, тогда другое дело. Другое дело. – Лена усиленно жевала, выдувая пузыри. – Хотя… Надо подумать. Я еще и не такие дела распутывала! Я на юридический пойду… А ты?
– Не знаю! – Валя, как мать, поднесла мизинцы к вискам. – У этого ботинки сорок четвертый размер… а у моего ножки маленькие…
Лена саркастически улыбнулась в ответ.
– И запах одежды…
– Человек три месяца в бегах… тут дымом будешь пахнуть!
– Как раз наоборот! Дорогими духами пахнет!
– Маскировка!.. А приходил денег взять из тайника… Ты же не видела их руки? Вот спроси у мамы, кто приходил… сразу запутается.
Валя не выдержала муки неведения.
– Мама!.. Мам!..
Из ванной, умываясь после работы на садовом участке, выглянула мать.
– Что, доченька? Звонят?
– Нет. Мам, я смотрю на днях на улице – от нас человек вышел… Кто это?
– Слава Каргаполов. Они с папой когда–то вместе учились. – И поправляя волосы, вдруг уставилась на дочь. – А как ты узнала, что от нас?
Лена с любопытством ждала, как в театре, как же выкрутится Валя.
– А я и не узнавала… Слышу – бормочет: эх, Татьяна Сергеевна, Татьяна Сергеевна… Мам, никаких новостей?
Мать нахмурилась, покачала головой. Лена дитячьим голоском заумоляла:
– Теть Таня, может, отпустите до одиннадцати? Посмотрим у нас киношку про бегемотов.
– Нет. Сидите здесь.
– Но я боюсь, мы вам помешаем.
– Чем это вы мне помешаете?
– Ну, когда человек придет. К вам же сейчас Юлиан придет.
Мать в ужасе посмотрела на нее.
– Какой такой Юлиан?!
– Так вам наша бабуля не звонила?! Она должна была позвонить! Ясновидец Юлиан. Вот глянет на фотокарточку и говорит, где нынче этот человек. Я бабке рассказываю, что дядю Миню никак не найдут, а бабка и говорит: я Юлиана приведу. Они тут рядом, возле церкви. Она же сама на костылях раньше ходила, вы же помните нашу бабку?.. с белыми кудрями… а сейчас спокойно без костылей! И это все Юлиан!
– Погоди тараторить. И вынь жвачку. Я вовсе не просила приводить ко мне всяких сумасшедших.
– Он никакой не сумасшедший. Только внешне. Борода, крест. А так он умный. Глаза, как у… Менделеева!
– Ну, хватит. Нам с Валей пора ложиться.
– Смотрите, тетя Тань… Человек, может, уж по лестнице поднимается… добро хотел сделать… А ведь в Библии как сказано? Как там у Матвея… «Возлюби ближнего твоего, как самого себя».
Мать, помолчав, негромко сказала:.
– Не сегодня. Завтра или послезавтра. Он один придет?
– Может, с моей бабкой.
– Лучше с вашей бабкой.