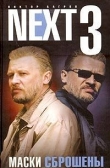Текст книги "Минус Лавриков. Книга блаженного созерцания"
Автор книги: Роман Солнцев
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 10 страниц)
– Я сама знаю, что нехорошо… Ну, ничего, подожду… – Она хохотнула. – Обещал отдарить… ну, как помирать начнет. Я продам их – и в Москву. А хочешь – вместе? Где ты будешь? Живи где–нибудь неподалеку… А его не бойся, – шептала в самое ухо, суя туда и язычок, – он же понимает… не ревнует…
Под утро она ушла, а Миня, обмирая от чувства грязи, оскверненный пред самим собою и Татьяной и сверкающей вечностью, побежал сломя голову на речку и, содрав с себя одежды, искупался в ледяной чистой воде. «Все! Забыто!.. – бормотал он, плача и одеваясь. – Это падение. Но на этом остановись! Как угодно! Скажи, что болен! В конце концов, грубо откажи. Расскажи побольше по Татьяну».
И на следующую ночь Миня, отвернувшись, стал рассказывать Таисии, что однажды у них с Татьяной был важный разговор, они пришли к выводу, что только человек распоряжается вечностью. Потому что и муравьи, и львы, например, погибнут, если погаснет солнце. А человек спасет.
– Зачем ты мне это рассказываешь? – смеялась, лежа рядом, нагая Таисия. – А, Шехерезад?!
– Не называй меня так! – оскорбился Лавриков. – Есть же на свете что–то выше всего этого…
– Вы не хотите меня любить? – смеялась женщина, дыша в спину.
– И это слово не употребляй в таком смысле! Любовь… магнитное поле создателя. Того самого! Любовь – это…
– Ты Страшного суда боишься? – веселилась женщина, облепив его, как раскаленное облако сауны. – Не рано ли? Да и, говорят, в Нагорной проповеди новые поправки появились…
И он снова сдался перед ней. Под утро она ушла. А Миня снова побежал за три километра на речку, чтобы успеть до работы, в ледяной воде с полчаса купался. И кажется, крепко простудился. К вечеру его стало знобить, зубы сводило…
Таисия догадалась, что мужичок заболел. Ночью она принесла ему на сеновал водки, термос с теплой водой и горчичники, водку заставила выпить, а размоченные горчичники налепила на грудь Мини. И сама попросила рассказать ей какую–нибудь сказку. И он начал что–то придумывать сквозь озноб, она восхищалась. Поведение их этой ночью было самое безгрешное. Но старый муж Таисии, подозревая блуд, все–таки восстал…
Часа в два, в половине третьего он поднялся, светя фонариком и сипло дыша, по зыбкой для его тяжелого тела лестнице. В руках у него чернело что–то вроде дубины. Таисия и Миня мигом очнулись. Лавриков понял: сейчас ему проломят череп или перебьют хребет.
К счастью, он был в штанах и рубашке поверх горчичников, потому что его морозило. Да и всегда Миня на рассвете мерзнет. Едва натянув ботинки, а вот пиджак куда–то делся, он скатился справа от лестницы кубарем, как пес, вниз, на старую солому, на мечущихся рогатых коз, и с поцарапанным боком вылетел вон со двора и понесся куда глаза глядят, к темному лесу… И вслед ему сверкнули со страшным грохотом два красных шара – и дробь по свистом пронеслась в высоте…
На беду Мини, грянула еще и гроза, полил ливень. Он долго стоял, прижавшись к корявому стволу сосны. Когда тучи уволоклись и солнце вынырнуло из коричневых туч, он увидел перед собой озеро в купавках. Над ним плыл легкий туман. Озеро в отличие от речки показалось Мине очень теплым. Он вымылся в озере, потом, топчась на корзинах корней рогоза, рубашку постирал, долго сушил ее – и все равно скотом пахнет. Постирал еще раз – и надел мокрую. И посмотрел в воду на себя, небритого, с помятым лицом, с каплями на ушах и на носу. Боже, неужто это он? Бездомный и уже вконец безнравственный? Окончательно падший?
– Ты чего?! – спросила, виясь над ним, синичка… нет, горихвостка. У нее хвост красным горит.
– Ничего, – шевельнул Лавриков мертвыми губами и побрел дальше. Если бы у него был хвост, его хвост сейчас тоже горел бы красным пламенем. – Ничего. Как–нибудь…
Солнце калило с небес, по счастью, хорошо, и к вечеру, почти согревшись, Миня доплелся до вкусных дымов, в село, отгороженное со стороны поля длинными пряслами.
5
Посреди селения высился, как привет из советских времен, бетонный ДК с бетонными же (или из цемента) горельефами на торце, изображающими огромный колос и серп с молотом.
Миня потерянно сунулся туда. В ДК небось пустят, можно узнать, что за село и нужны ли работники – оказалось, здесь же и правление колхоза. Как позже станет известно Лаврикову, бывшее деревянное здание правления сгорело из–за старой электропроводки, посему правление перебралось сюда.
Председатель Ёжкин Сергей Владимирович, рыжая дылда с красноватыми ушами, сидел одиноко в одном из многочисленных кабинетов, раскинув кулаки по столу, рядом валялись подшивки газет и несколько номеров журнала «Пчеловодство».
– Тебе кого? – спросил он тоскливым голосом. – Вроде новый.
Внешний вид небритого, да, пожалуй, еще и не просохшего Лаврикова, конечно же, не располагал к интеллигентному «вы».
– Работу ищу, – мягко отвечал Миня, на всякий случай смеясь. – Только паспорт жена отоблала.
– Иди ты! – простодушно откликнулся и засиял всеми веснушками Ёжкин. – Шоферить умеешь?
– А то. – Миня плотно прижался спиной к стене, чтобы заглушить в теле противную дрожь. Неужто заболевает?!
– Мой пьяница ногу сломал, пидер, ладно бы левую… газ жать нечем. А жить в библиотеке будешь, – Ежкин кивнул во тьму ДК. – Там радио есть.
Он дал Мине пятьсот рублей, вынул из стола старую бритву «Бердск», Миня при нем же побрился, купил в магазине (магазинчик здесь же, в ДК, в малом зале) за двести двадцать рублей синюю, весьма приличную английскую рубашку. Потом Ёжкин проводил гостя до своей бани, и Миня (в который уж раз за эти дни!) помылся, но теперь–то – в горячей воде, почти в кипятке, исхлестал сам себя до онемения березовым веником, наконец, причесался и был готов. Кажется, сбил температуру….
Несколько дней Лавриков возил долговязого хозяина то в райцентр (выклянчивать деньги), то на поля, то к очкастому фермеру Попову, к его красным хоромам, просить комбайн на неделю, а тот не давал – у него у самого приспела страда. Во время беседы в тереме нового сельского русского мелькнула красавица лет пятнадцати в расшитом сарафане, но, заметив радостные глазки на помятой морде нового шофера, отец выгнал дочь из прихожей.
– Еще рано ресницами замахиваться, иди вилами помахай.
Не понимает человек, что Лавриков радуется красоте бескорыстно. Да Миня пальцы себе отрежет, если прикоснется теперь к чужой женщине, тем более к девице. Всё! С развратом покончено. Работать, работать! Забыться в работе!
Вечером шофер и председатель говорили о жизни, сравнивали советские времена и новые, капиталистические. Ёжкин гагакал громко, как истинный казак, а Миня отвечал скороговоркой, а потому старался скороговоркой, что его душил кашель (все–таки простудился, безнравственная тварь!). Председатель поил его сладкими «каплями датского короля» из своей аптечки.
– Расскажи о себе, – попросил Миня, восторженно уставясь на нового приятеля, – тот и сам водку не терпит, и гостя не потчует! А компресс водочный на грудину Мине сделал! И Сергей Владимирович рассказал, что здесь мать его похоронена, отца он не помнит. Он вернулся в родное село, отслужив на дальневосточной границе, народу в колхозе осталось вместе с хуторянами не больше семидесяти человек (да и хуторянами отдаленно живущих он называл условно – раньше село простиралось на четыре километра вдоль речки Вертушки).
Председателем стать его уломали, уговорили. Только хорошего мало: налицо полная путаница с долями, земляными наделами. До него командовал Исаев, он теперь в тюрьме, продал какому–то Василенко, городскому парню, шесть гектаров… был суд, сделку признали юридически ничтожной, Исаева городской покупатель, отвезя в березняк, избил до полусмерти, а потом Исаева же посадили…
– У меня жена в райцентре, она тамошняя, сюда ехать не хочет, боится. Из лесу часто волки воют. Да и на мотоциклах шпана наезжает, ворует что ни попало. Недавно трактор разобрали, а увезти не смогли – тяжело. Я попросил в районе дать оружие – не разрешили. Может, мы вместе тут порядок наведем?
Миня ночевал в библиотеке, поставив вдоль пустой стены пять старых стульев с мягкими, хоть и порезанными сиденьями. Стулья скрипели и готовы были вот–вот развалиться, да и разъезжались порой, нужно было спать тихо, не дергаясь, чтобы не сверзиться на пол. Под себя Миня стелил ветхий полушубок, подарок Ёжкина, укрывался казенным одеялом с синей печатью в углу, подушкой служила ватная фуфайка того же Ёжкина, всунутая в старую бесцветную наволочку.
Давно Миня не читал с наслаждением книг детства, и вот они здесь: и про Спартака, и про Робинзона Крузо, и про Остров сокровищ… Иногда накатывала тоска по дочке, все же она, кажется, его дочь, ушки такие же круглые, а у золотоволосого Вячеслава узкие. Миня бы сейчас с ней поговорил, ему всегда нравилось говорить с детьми. Они на любой вопрос отвечают честно, а если и врут, то по особенной серьезности лица видно, что врут. Может быть, ей послать таинственную записку в почтовом конверте: «Товарищ, верь! Пушкин». Нет, только всполошится. Да и мать всполошит. Да и почерк Мини, с буковками мелкими и округлыми, как просяные зерна, они знают. Печатными написать? Все равно догадаются. Да и зачем? Если ты ушел из их жизни – не мучь. Переболеют горем – и успокоятся. А если когда–нибудь… когда–нибудь он вернется – радость будет. А если время от времени о себе напоминать – это все равно что, кровавую марлю отдирая, на рану соболезнуя заглядывать…
В библиотеке и стихи имелись, в том числе и те, что Миня читал в детстве. Нынче они вдруг вызвали в нем сладкую судорогу и боль, боль… Хотя что уж в них такого?
Ласточки пропали,
А вчера зарей
Все грачи летали,
да как сеть мелькали
вон над той горой…
Поздним дождливым вечером явилась на огонек лампы в ДК, в длинную комнату библиотеки, девчушка лет пятнадцати в нелепой кожаной куртке, робко посмотрела из дверей на дядю, расположившегося бочком на пяти стульях:
– Вы теперь наш библиотекарь?
Смутясь, Миня хотел молодцом соскочить, да разбежались проклятые стулья, он упал, да больно, крестцом об пол, поднялся, заливисто смеясь:
– Я, я тут живу. И книгу могу выдать. Вам какую?
У девочки серенькие печальные очи, иначе их не назвать – в пол–лица, носик острый, губки скорбным ромбиком, шея тонкая, но грудка уже оформилась, поверх блузки крестик серебряный, на правой руке на безымянном серебряные ниточки намотаны. На левом ушке колечко. Ушко, как у и Валентины, круглое.
– А какую вы посоветуете? – тихо спросила девушка. Нет, ей, пожалуй, и все семнадцать. Такая откровенная тоска нарастает к окончанию школы. – А у меня мама в гости уехала, а папа на заработках в Красноярске. А у вас?
– Мой папа кузнец, – отвечал охотно Миня. И запнулся. – Мама… работала библиотекарем. Они сейчас очень далеко.
– Они не знают, что вы здесь? – И гостья неожиданно прошептала. – А я вас по телевизору видела! Вас разыскивают? За вами гонятся, да?
«Вот это новости!» – Лаврикова обдало жаром.
– Да ну! – залился бисером Миня. – Глупости! Не поделили одну прекрасную даму… я уступил…
– А почему же ищут?
– А наверное… – он не знал, как ответить. – Сейчас подберу вам книжку. Вам что–нибудь романтическое?
– Спасибо. Только я тут все прочитала, – молвила в спину заезжему дяде девушка. – Меня зовут Настя, я отличница. Дядя Миша, расскажите мне что–нибудь.
Какая наивная и трогательная Настя! Как и его Валя. Миня вернулся, усадил ее на самый устойчивый стул и, протянув вперед руки, начал шепотом рассказывать. А рассказывал он сказку, которую придумал давным–давно для своей дочери.
В этой сказке жила–была девочка, и вдруг в один день сверкнула молния, девочка заплакала, и слезы ее, падая на землю, стали превращаться в дорогие изумруды. А отец был злой у нее, стал втайне от жены бить ее, чтобы больше накапать изумрудов, чтобы стать самым богатым. А девочка стала плакать уже красными слезами, которые превращались в рубины, в еще более дорогие камни. Мать понять не могла, почему дочь так исхудала, но она так много работала, эта женщина, что у нее не было времени уследить за злым мужем. И вот он бил дочку, бил, и все собирал драгоценные камни. И однажды из глаз девочки ударила молния, и у злого отца отнялись руки. Тогда он начал пинать дочь, и у него отнялись ноги. Тогда он начал кусать зубами ей ушки, и у него ослепли глаза. И тогда он заплакал. Он просил дочку простить его, и она его простила. И снова глаза у него ожили, руки и ноги ожили… Он рассказал жене о том, как от жажды денег у него помутилась душа, и просил прощения у жены своей. И она тоже его простила.
На этом месте обычно следовал вопрос – и он здесь тоже последовал:
– А куда он дел изумруды и рубины? Не успел ничего купить?
– Он их складывал в ларец, оставшийся от бабушки по маминой линии. И вот он торжественно зажигает свечи, открывает ларец. А там… Угадай что?
– Слезы, – ответила, помнится, дочь Валентина.
– Слезы, – ответила и чужая юная дочь и поежилась. – Плохо, когда бьют. А ты не бил никогда женщин?
– Никогда, – отвечал Миня, и это было чистой правдой.
Настя приходила к нему еще пару раз, что–то брала читать, а однажды и вовсе ночью прибежала. Говорит, страшно одной, за печкой кто–то скребется, нет, не сверчок, а длинный такой… может быть, крыса… И Миня устроил ее на стульях, а сам лег на полу…
Они спали и не спали. Когда с тобой рядом в темноте спит (а может быть, и не спит?!) юная женщина, девушка, от которой пахнет фиалками и каким–то особенным волшебным теплом, неизбежно возникает состояние, которое невозможно описать. И помыслить нельзя ни о чем малодоступном, и все же мнится – а если она загадала на тебя? Разве у нее друзей в деревне нету, ровесников? Но ведь слишком молода, подросток… и кожа–то, как сметана… нельзя… за это даже общественный закон карает… Наверное, судьба испытывает Миню. Да, да, да! Но если уж покатился вниз, почему нельзя? Может, в этой деревне Миня и остановится? И начнется новый, совершенно иной вариант судьбы? Или – или – или… она ему закатит пощечину, и он проснется?
Открывал и закрывал в темноте глаза. Нет. Больше никогда он не прикоснется к чужой красоте. Спи. Спи. Растворись, как дым. Кобель лопоухий. Безвольная образина.
– Вы не спите, Миша? – спросила девушка среди ночи.
– Нет, ничего… – лучше не мог ответить. Зачем она так: «Миша»? Попросить, чтобы называла «дядя Миша»?
Она вздохнула, отвернулась на шатких стульях лицом к спинкам и снова затихла. А ему всю ночь бронхи разъедало страстное, жгучее желание кашля, но он терпел, удерживал себя, не хотелось, чтобы девчонка встревожилась… и, лишь укрывшись с головой, прорычал, наконец, в пол свой надсадный кашель…
Светало, когда Лавриков услышал кованые сапоги Ёжкина за дверью. Председатель заглянул в библиотеку не постучавшись, – он торопился, он заметил, конечно, как Миня, вскочив с пола, набросил на стулья вместе с девочкой одеяло, но ничего ему не сказал, только вскинул левую бровь, как бы запомнив вопрос, который задаст позже. Поманил выйти покурить–поговорить в свой кабинет, но дверь оставил открытой, и, лишь когда Настя пробежала мимо, пискнув: «Здрасьте, дядя Сережа… но у нас ничего не было, только книжки читали!», буркнул:
– Да мне бы и было… женили бы – и остался, как человек. Но вот, брат, катавасия – по телеку ночью опять показали твою фотографию.
Лавриков замер.
– Я ее вижу третий раз. Понимаешь? – спросил Ёжкин. И с тоской в лице, протянув руку, поиграв пальцами, забрал у Мини ключ от «уазика».
– В районе у нас менты спиваются, а тут областной розыск, верняк… мне уже замначальника звонил ночью… ты беги, Миша, скажу, что ночью сбежал. Жаль, братан, одинок я тут, как Путин. На вот! – И протянул Мине еще четыреста рублей. – Больше нету. Я вижу, ты честный парень, но и я не цветок в проруби, все ж таки бывший погранец, должен соответствовать. Иди на восток, там старый большой совхоз, там бабы начальники, там тебе будет хорошо.
Может быть, это судьба. Прочь, прочь от несовершеннолетних красавиц. Ты, впавший в гнусный грех, недостоин даже книги одни с ними читать. Твоя литература – вон, Барков… которого у Саньки Берестнёва видел…
Наутро там нашли три трупа…
Лежал Мудищев без яиц…
Надо бы хоть подаренный полушубок прихватить, да неловко возвращаться в комнатку. Да и тепло еще на свете. Глянув на затянутое тучами небо, Миня заторопился на восток…
6
К Вале Лавриковой прибежала под зонтиком сквозь ливень ее подруга Лена, юная крашеная девица в кожаной куртке и мини–юбке, в грязных сапожках, которые она тут же сбросила у порога. И вот крутится, жует жвачку, время от времени выдувая пузыри, что не мешает ей быстро говорить:
– А он мог пластическую операцию сделать! Пластическую операцию! Как Майкл Джексон! Я тут в газете одной прочитала… Десять «лимонов» – и другой фейс!..
– Это ты про моего папу?! – Валя нянчила в руках Люську, которой всего ничего от роду, и нате вам – ходит, выгнувшись, хнычет ночами, требует дружбу с котиком.
– А что? Может, он даже в нашем городе живет, вот прямо здесь… и даже к вам приходил… мать–то знала, а ты нет!
– Брось фигню городить! – Валя отставила пушистое чудо с зелеными глазами на диван, погладила. – Стоп токинг, маленькая.
– А ты вспомни, вспомни… не приходил какой–нибудь незнакомый человек… приблизительно его роста?.. не приходил?
– Следовательница меня пытала, теперь ты!.. Телевизор чинили на той неделе… два толстяка…
– Ну и что, что толстяки?! Толстяки!.. Обмотаться полотенцами… за щеку два леденца… вот так… – Лена схватила со стола, из сахарницы, два кусочка сахара – и за щеки. Выпучила глаза. – И хрен узнаешь. А?
– Да ну тебя! Папу бы я сразу узнала. Даже если его перекрасить… Где твое вино? Так и быть.
– А маман не ввалится?!
– Она сегодня допоздна! Налей девушке! – Снова взяла на руки рыдающую кошечку. – Мы две девушки, нам плохо.
Лена деловито достала из сумочки бутылку «Изабеллы», откупорила – пробка была уже выдернута и снова воткнута, достала две мутные рюмки из сумочки же, налила.
– У тебя тушь на щеке.
– Да эту кикимору не могу забыть. Говорит: если что узнаете, звоните.
– Дура! Что мы, Павки Морозовы? На родителей клепать? Три миллиона, говорят, увез, да?
– С ума сошла?! Какие, где? Собрал, что было, копейки… ну, у мамы на лекарства…
– Говорят, назанимал у знакомых…
– Ну, может, и занял… но он вернется и отдаст.
Девочки чокнулись, выпили. Лена прошептала, оглядываясь:
– Я вот чего не понимаю. Пусть не три миллиона, пусть даже один… Зачем в такое опасное время без охраны? Нанял бы киллера хоть за три тысячи. Эх, мне бы такие деньги! Я бы дачу купила, красный «форд» купила, тряпок всяких, шампанского, красной икры… и всю школу к себе! И с самыми красивыми мальчиками только танцевала!
– Как бы ты купила все это на миллион рублей?
– А разве у него не доллары были?! Если у него не было больших бабок, зачем он нужен грабителям? – И, продолжая жевать, выдувая пузыри, она тараторила. – Это, наверно, наколотые? Им все равно, что трешка, что лимон. Если наколотые, дело швах – убьют и труп в люк. А раз нету трупа, тут что–то другое. Может, набрал много–много и перевел в другие города?.. может, в заграничные банки? вот и нужен живой! чтобы помочь эти деньги снять со счетов, а?
– Ну перестань, – в слезах простонала Валя.
– Мы же по «видику» смотрели, как это делается! Значит, ты права… он жив, и у него денег с собой не было. Его выкрали, чтобы он с ними поехал и отдал башли. А пока не снимет для них башли, будет живой. А найти, куда он перевел деньги, пара пустяков. Вот туда и ехать! Там его и искать! Проще пареной репы!..
– Какая ты умная!.. – запротестовала Валя. – В том–то и дело, что неизвестно, куда делись деньги.
Лена налила еще, девочки чокнулась и выпили.
– Тоже понятно! – согласилась Лена. – Куда–то переводили, а из тех банков еще куда–то… вот и замотали! Но он–то знает!
Валя, побледнев, бросила кошечку на диван. Та жалобно замяукала..
– Не трогай моего отца! Ты видела, у него один–единственный приличный костюм?! И вся его любовь – музыка… Ни конфет хороших, ни украшений не брал – только диски.
– Включи!..
– Нет, без него не буду. Но я себе все переписала. – Валя нажала кнопку магнитофона. – Если бы он что украл, он бы увез нас на Канары… Он маму, знаешь, как любил! Советовался с ней…
Лена подмигнула.
– Так, может, она и посоветовала?
Валя расширила глаза, сузила и бросилась с кулаками на подругу. Та с хохотом и визгом отскочила.
– Да ты че?! Валька!.. С ума, сошла! Я же с восхищением говорю…
– Не надо мне такого восхищения!
– Ну, ну! Прическу испортишь… Хорошая музыка. Моцарт?
Валя, утирая слезы, прошептала:
– Альбинони.
– Ал Бано? Слышала. Колышет. А у меня с собой группа «Ху из ху»… послушаем?
– Та же попса, сто ударов в минуту! Папа говорит, всю цивилизацию подрубили под корень эти сто ударов в минуту… побежали неизвестно куда… потеряли радость созерцания. Но радость созерцания вовсе не означает, – наставительно продолжала Валя наверняка уже не своими словами, – чтобы в каменном веке остаться. Наоборот, вон японцы – толпами стоят, наслаждаются, когда снег идет или сакура цветет. А уж им–то не откажешь в прогрессе!
Лена махнула рукой.
– Давай еще тяпнем. С горя. – Долила в рюмки остатки сладкого вина, бутылку спрятала в сумку. – Эх, у меня бы был такой батя – и пропал… я бы сейчас все бросила: школу, мальчиков… и на самолет! Р-р!.. Фью!..
– И куда?
– В Москву! Куда еще? Наверняка там нашлись бы следы.
Валя молча смотрела на нее.
– А ты чего–то не шевелишься. Может, про папаню все–таки известно? Я тут, как дура, перед тобой… а ты…
Валя, закрыв лицо ладошками, отрицательно покачала головой.
– Слушай!.. А может, в городе кто знает? Какие–нибудь братки… Вот бы выйти на них, информацию выудить… Конечно, за деньги. А найти деньги – нон проблем! – И Лена, оглядываясь, зашептала: – Если другим девочкам можно, почему нам нельзя? Никто и не узнает. Я даже готова за компанию… вместе бы заработали… Алка Акимова в гостинице за одну ночь, слышала, сколько вырвала у иностранцев? Двести долларов!
– Ты… готова… ради меня? – ахнула Валя, в ужасе глядя на подругу.
– Я из дружбы! А на эти деньги можно как раз в Москву! Ну, за две ночи!
– Но я боюсь! – заныла Валя. – Я же еще…
– Все мы через это проходили! – хохотнула Лена. – Ради отца?! Ради матери? А уж найдем дядю Миню… небось купит нам по «тойоте»…
– О чем ты говоришь?! Это же не его деньги… Он же занимал!
– Или ты дура до сих пор, или хитрая, как Галка Фраерман. – Ленка продолжала жевать и думать. – Слушай! Вот еще вариант! Моя бабка ходит в церковь… а у них новый нищий у входа, страшный, мохнатый!.. – Говорят, ясновидец… лечит всех подряд… Моя бабка еще недавно с костылем ковыляла, ты же помнишь?.. А теперь без костыля!
– Ну и что?
– Как ну и что?! Пойдем туда, свечи поставим во здравие… ручку ему поцелуем… ну, подмигнем… Сам поп его боится! Может, скажет, жив твой папаня, нет? А если жив, скажет, где он.
Валя затрясла гневно головой.
– Это всё жулики, проходимцы!.. – Она рывком подняла кошечку, принялась ее баюкать.
– Ты и в Гришку Распутина не веришь?! Пикуля не читала? А этот такой же! Ну не хочешь – как хочешь! Эх, что же придумать?! Может, самим возле двух зеркал погадать? А чтобы верняк, наширяться!.. у меня маленько есть…
В эту минуту болтовню девочек прервал щелчок ключа в дверях – пришла мать Вали.
– Ой!.. – Лена, встав спиной к двери, быстро убрала в сумку рюмки. – Здрасьте, Татьяна Сергеевна.
Валя ногой выключила магнитофон.
– Здравствуй, Лена. Духи… или вино? Кто–то приходил?
– Никто. Звонили: нет ли вестей от папы.
– С того света не бывает вестей. – И кивнула Лене. – Измучили нас.
– Говорят, дядю Миню в Москве видели.
– У него лицо простое… круглое, в очках. Лавриков он и есть Лавриков. Я и сама иной раз на улице ошибалась. А уж если кому хочется кинуть на нас тень…
– Я так всем и говорю, тетя Таня.
– Вот, – Татьяна взяла листочек с полки. – Если верить всем звонкам… у половины города назанимал. Семь миллионов насчитала. И в гараже брал, и у всяких неизвестных мне приятелей… Давайте, давайте, кто больше!..
Валя значительно подмигнула подруге.
– Лен, мне с мамой надо потрёкать. Я догоню.
– До свидания, тетя Таня. – Стараясь не звякать посудой в сумке, Лена направилась к выходу. – Мы не пойдем по тусовкам… фильм про животных посмотрим…
– А накрасила ногти – тигров пугать? Ну, хорошо, хорошо. Только не допоздна. – И вдруг, мизинцами тронув виски (опять голова болит?), покосилась на дочь: – Да ты можешь прямо сейчас идти. Мне… подруга должна звонить.
В наступившей паузе Лена значительно сверкнула Вале совиными глазками, окрашенными вокруг век синей краской, и закрыла за собой дверь.
– Я бегу, бегу! – Валя опустила ноющую кошечку на диван. – Но, мам… не знаю, как спросить…
– А ты прямо спроси: может ли быть правдой, что папа нас бросил? Отвечу: нет. Еще что? Не сообщил ли о себе? Может, мы это всё разыграли? И здесь ответ один: нет. Еще есть вопросы?
Валя обняла мать.
– Прости… эта тетка из головы не выходит… не знаю, что и думать…
– А я?! Знаю, что думать?!. А тут еще меня на второй работе сократили. Считают – вполне обеспечена, хожу для отвода глаз. Как теперь жить? Извини… умоюсь… Вся мокрая после автобуса. Беги! – И мать скрылась в спальне.
Валя обулась у двери, схватила куртку и ушла.
Зазвонил телефон. Шум воды в ванной смолк. Когда телефон уже замолчал, выскочила полуголая Лаврикова, с накинутым на плечи халатом.
– Кто–то звонил?.. – Хотела вернуться в ванную, но телефон затрезвонил снова.
Лаврикова схватила трубку.
– Слушаю вас!.. Это ты звонил минуту назад?.. Да, я хотела по телефону. Могут люди увидеть. Ну, хорошо, приходи. Теперь уже все равно. – Положила трубку и снова ушла в ванную.
7
Совхоз имени ХХ партсъезда располагался на холмах, над узкой речкой и двумя старицами по бокам, заросшими камышом и купавками. На самом высоком взгорье стояла, как обломанный зуб, белая, без колокольни церковь. Видимо, ее пытались ныне возродить к жизни – с одной стороны прилепились строительные железные леса. Вокруг церкви на трех улочках села можно насчитать около сорока вполне добротных изб–семистенников. Штакетники покрашены известкой, наличники – кремовой и сизой краской, крыши крыты шифером и жестью, а где дощатый кров, там все же трава не растет, как в колхозе Ёжкина…
Навстречу кашляющему Лаврикову брел, шатаясь, петух, растопырив черно–золотые крылья и дергая оклеванной в драке головой, весь в крови, как Щорс из революционной песни. Миня соболезнуя кивнул ему.
Он прошел до середины села по жухлой траве–спорышу, стараясь обходить раскисшие глиняные колеи и тропы, склизкие, как мыло, и, не зная, куда сунуться, встал возле низенького каменного строения, над крыльцом которого красовалась видавшая виды жестяная вывеска «Сельпо». Здесь расхаживала взад–вперед сердитая сутулая женщина в плаще, с папироской во рту, а наверху, у двери, под навесом, сидел на складном стульчике одноглазый мужичок Минькиных лет, возможно, чуть постарше, с лицом желтым и глумливым.
– Ты мотай отсюда, не смущай народ, – ругалась женщина. – Или работать иди. Хоть и с одним глазом, а руки на месте, алкаш несчастный! Твои песни нам уже вот где сидят! – и она провела ладонью по горлу.
Не ответив ни словом, нахально скривившись, мужичок тут же загорланил дребезжащим, как пила, голосом под рявканье гармошки:
– Вот умру йя, умру йя…. похоронют меня-я…
И никто да не узна–айет–т игде могилка моя-я…
– А тебе кого? – обратилась к Миньке сердитая женщина. И вдруг радостно заулыбалась металлическими зубами. – Про тебя, что ли, Серега Ёжкин звонил? Не выдадим. Шофера и нам нужны. Я директор совхоза Галина Ивановна. Пошли! – Она цепко ухватила Миню за локоть, как учительница школьника, и повела по улице Сакко и Ванцетти – дощечки с надписями черной краской висели справа и слева. Правда, кое–где повыше мелом было начертано: Воскресенская. – У тебя что, и пиджака нету? Пропил? Вроде не алкаш.
Пиджак остался на сеновале у старика, а новый Миня не успел купить. Миня молча кивал, его колотил озноб.
– Э, паря, тебе надо в баню. У кого же сегодня баня? – задумчиво осклабилась женщина. – У химички–чумички.
И они свернули в переулок, мимо церкви.
– Только ты не бойся ее, у ней вид суровый, а баба добрая.
Вот так распорядился случай: Лавриков с местной начальницей вошли в большой двор с крытой дальней половиной, тут и березовые поленницы стояли на месте, и свой колодец с воротом красовался, и клеть, и хлев, все тут было, да не слышалось только мычания коровьего или курьего копошения. Но со стороны огорода доносился теплый дух топящейся бани. В самой избе горел свет во всех пяти окнах.
– Ангелина Николаевна! – позвала трубным голосом директор. – К тебе!
Из сеней вышла рослая, худая женщина в очках, в вязаном жилете до колен, вопросительно глянула на пришедших.
– Вот, командирую к тебе. Будет шоферить.
– Пьет? – спросила хозяйка дома.
– Не пахнет.
– Будет пить – тут же метлой. В комнате дочери поселю.
Директриса объяснила ей, что «хлопцу» надо в баню, тут же Мине выдали новую мочалку с еще не оторванной бумажкой, полотенце и показали мимо деревянной уборной с вырезанным сердечком в дверке в сторону огорода, где из сумерек выглядывали, чуть освещенные электрическим светом избы, подсолнухи.
В предбаннике и в бане также горели лампочки, лавка и ступени полка были горячи и сухи. Опять баня?! И пусть, пусть! Соскребай с себя срам и грязь! Миня торопливо простирнул штаны, трусы, майку (рубашка еще сойдет), повесил на вешала. Стеснительно оглядываясь на окошко, помылся, окатился с головой, и только хотел надеть подсохшие одежды, как из–за двери ему протянули комок чистой и сухой одежды в газете:
– Бывшего моего мужа, бери.
Бывший ее муж был, видимо, повыше Лаврикова, Миня закатал суконные штанины и рукава фланелевой рубахи, причесался женской гребенкой и вышел в ночь.
– Иди в дом, – строго сказала из темноты очкастая хозяйка. – Там все и поговорим. Я скоро.
В избе за столом, накрытым скатертью с ромашками, восседала директор, она была уже без плаща, в цветастой кофте и белой блузке, на пальцах ни одного кольца, строгала колбасу. Галина Ивановна оказалась очень симпатичной, со смешливыми губами, скуластой крепкой женщиной лет сорока пяти. Она пристально смотрела на Миню, и он снова смутился. «А что у них тут, одни женщины?» – вертелся вопрос в голове. Но если так спросить, покажется, что он прежде всего этим интересуется.
– Я о себе расскажу, – тихо буркнул Миня и поведал, где учился, где работал, про магнитную воду рассказал, как шабашил на старой машине, но далее свернул на то, что жизнь не удалась, с женой поссорился на почве ревности… вот он и здесь.