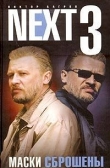Текст книги "Минус Лавриков. Книга блаженного созерцания"
Автор книги: Роман Солнцев
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 10 страниц)
– Что там?
– Да так… царапина.
– Ну–ка, ну–ка! – заставила размотать и, увидев разбухшую ранку, закричала от страха. – Это гангрена!
– Ну уж, ганглена, – пытаясь ее успокоить, улыбнулся Миня. – У собак слюна такая, что она сама и заживляет.
– Вас собака укусила?! В нашей деревне?.. – ахнула Валя.
– Да пройдет, пройдет… Если уж хочешь помочь, принеси мази Вишневского… или водки немного… нет, не пить.
– Понимаю, – прошептала девчонка. – Я скоро.
Она притащила чекушку самогона (это еще лучше, чем водка) и баночку со стрептомициновой мазью.
– Вот. Танька сказала – подойдет. – Неумело, но старательно обработала ранку, обмотала марлей, завязала на бантик. – Вот. Должно остановить процесс.
– Спасибо.
Как хорошо.
… – А вот картошка вареная, – говорила на второй или третий день девчушка, – сейчас подогреем на сковородке… вот куриная нога, она маленько с пупырышками, я сама не люблю, но вкусная. А насчет алкоголя Таня сказала, вам нельзя пить, вы плачете. А только на рану.
– Правильно, – согласился Миня. – И мне ничего больше не надо, я заработаю. Если что будет нужно, сам куплю.
– Когда нога заживет. А пока лежите! – командовала девчонка.
Когда он медленно (краснея от неловкости) откушал, Валя вдруг спросила:
– Скажите, Михаил Иваныч, как правильно жить в наше время? По телевидению говорят: гони слабое звено, хватай, что можешь… а мама говорит, надо жалеть, даже тех, кто в тюрьме.
– Мама плавильно говорит, – согласился Миня. – Расскажи мне о себе. А потом я тебе.
– Я заканчиваю девятый класс, хожу в школу в Алексеевку, это за речкой, три километра. Я свободная девушка, я уже все понимаю. Собираюсь поступать на исторический. Вот и все. А теперь вы.
И Миня, измученный своими трудными, хоть и недолгими хождениями по свету, ей первой, кажется, поведал с самого начала, что с ним произошло, как его ограбили и как он решил больше не возвращаться домой, по крайней мере, до той поры, пока он не заработает денег, чтобы расплатиться.
– Как вы мне близки! Вы благородный, честный человек!.. Но ведь, наверное, жена ваша плачет? Ночами со свечками гадает, к бабкам–гадалкам ходит?
– Вряд ли, – ответил Миня. – Она современная зенщина.
– Это не имеет никакого значения, – безапелляционно заявила девчушка. – А дочь может потерять жизненные ориентиры. Как же помочь вам? Мы тут все бедные…
– Я заработаю! – проскрежетал сквозь зубы Миня. – Вот истинный бог, найду такую работу! Сколько бы ни получал, половину буду откладывать… вот я сейчас на ферму пойду, там мне восемьсот платили…
– Чтобы расплатиться, – мигом подсчитала школьница, моргнув черными глазами, – надо будет вам тут провести… две тысячи месяцев… то есть, сто шестьдесят лет!
«Господи! Почему так много?» Лавриков, который когда–то решал в институте сложнейшие задачи по электродинамике, брал без бумажки любые интегралы, теперь сидел ошеломленно перед Валентиной, опустив голову, раскинув колени и поджав ступни в подаренных шерстяных желтых носках.
– Вопрос в другом, святой вы человек, – продолжала девушка, подкладывая в печь полешки. – Ту би о нот ту би. Быть или не быть. Вот мы тут живем, как привыкли, воруем у государства лес… пока его не скупил кто–нибудь… друг на друга злобимся… А как посмотришь кино – иностранцы оставляют свои квартиры незапертыми… даже на ночь не особенно запираются… Вы боитесь смерти?
– Я смерти не боюсь, – тихо ответил Миня. – Мы из небытия пришли – в него уйдем. Но, пока живешь, надо жить в системе. Есть свод нравственных законов, надо и держаться. Иначе тепловая смерть нашей маленькой вселенной… я про Россию… – Он запнулся. – Правда, сам вот не устоял перед соблазнами, но вы, женщины, девушки, должны изо всех сил устаивать.
– Ну уж! – Девчушка улыбнулась, у нее два верхних зубика чуть расходятся, и от этого улыбка такая милая, вжикнула молнией, распахнула куртку – и стало видно ее нежное белое горло, нежные грудки, которым уже тесно в белом в шашечку свитерке. Сунула лучинку в пламя и покрутила в воздухе, какие–то слова огненные начертала. – А если не получается устаивать? Уж лучше с вами, чем с нашими алкашами. – И забросив почти догоревшую лучинку в печь, потянулась к Мине белыми ручонками.
– Перестань! – отсел подальше Миня, и сердце сжалось, заныло. – У меня дочь такая, как ты.
– Да?! А если ее сейчас ухватили в подъезде? Лучше через меня привет ей передать. Ну, поцелуй же! – она моргала, не веря, что ей отказывают в такой малости. – Эх, ты!.. Дядя! Тогда расскажи что–нибудь… только не ля–ля, а то, что мне точно в жизни пригодится.
Миня вздохнул, кивнул, начал говорить.
– Сначала о музыке. Слушай только хорошую музыку, не сто ударов в минуту. Психологи выяснили: этот барабанный ритм ускорил нашу жизнь, наши ощущения сделал поверхностными. Мы утеряли счастье созерцания. Некогда в музей сходить, некогда на солнце красное или на зеленую полынью посмотреть. Вон японцы, уж какая техногенная страна… а толпами собираются, когда сакура цветет, сирень… или когда снег идет.
– Но у них снег–то небось редко валит, – засмеялась Валя, – а у нас девять месяцев зима.
– Тогда нам беречь траву и деревья надо, а мы химией травим, железом корежим… Вот взять и устроить прямо сейчас миг малинового татарника. – Миня вскочил и, хромая, приволок с огорода растопыренный дикий цветок с колючками. – Как красив! Да просто желтый лист… вот, с твоей ноги! – Он аккуратно отклеил с сапога ее нежный, кремовый лист клена. – Смотри, какие жилочки… как ладонь ребенка… или усы тигра…
Он говорил и говорил о красоте земной, о музыке молчания в небесной ночи, он рассказывал Вале о красоте ее узкой руки с голубыми артериями на запястье… Говорил, кривясь от боли и насильно улыбаясь, что, покуда жив, есть радость и от боли… да, да! Болит – живешь, ты не камень еще, не глина…
– Потому что там, там, боюсь, ничего нет… А если и есть, то не всем, это надо еще заслужить…
Валя во все глаза смотрела на странного дяденьку.
– Мы все уйдем, улетим, как эти листья с деревьев, а твое поколение должно сберечь себя… больше не на что молиться! – вдруг вырвалось у него. Морщась от красного жара обмазанной глиною печки, он продолжал. – Можешь смеяться, но это ты должна знать. Например, чтобы быть умненькой… нужен фосфор. Чтобы косточки были крепкие – кальций. Он в молоке…
– Ну, молока у нас хоть зале–ейся… – пропела Валя, трогая вытянутой рукой его русые лохмы.
– Железо – это гемоглобин. Яблоки будешь есть – уже спасешься. Без железа бета–каратин не превратится в витамин А… – Миня отсел подальше. – Не трогай меня, ради Бога. Мне все кажется: это не ты, а моя Валька… Может, тебя не Валентиной зовут, вы с сестрой сговорились?
– Паспорт принести? – засмеялась девчушка, снова показав смешные зубы. Поднялась, захлопнула плотнее дверь бани, защелкнула большим черным крючком. Подсела рядом на полу, вскинула личико, и оно уже было вовсе не веселым, глаза словно смертная дымка покрыла. Так поздней осенью одеваются пыльцой уцелевшие ягоды ежевики. – Дядя Миша… ты здесь долго будешь работать?
Миня задумался. И честно ответил:
– Наверно, нет.
– Куда ты потом пойдешь?
– Не знаю. Мне надо заработать. Может быть, на Север. Золото мыть.
– Дядя Миша, возьми меня с собой… я… я тебе буду помогать… – Она приблизила лицо к его лицу, шепнула. – Я тебе буду верной женой.
– Валя, не говори так. – Миня нахмурился. – Я женат. И куда я тебя возьму, может, я еще в монастырь уйду. Мне говорили, прямо на восток есть мужской монастырь.
– В Енисейске?! Там есть и женский. Возьми! Я тоже уйду в монастырь. – Она обняла его. – Возьми, возьми, возьми!
Она такая сильная, Миня не мог отцепить ее руки.
– Валя, милая, тебе–то какой монастырь?! Тебе надо жить!..
– Где? Как?.. – сквозь слезы лепетала девчонка. – Я молодая, здоровая… А захочешь домой вернуться, я отстану тут же, сердиться не буду. Мишенька! Тебя мне сама судьба послала…
Миня молча, с великим трудом освободился от ее рук. Скалясь от великой тоски, готовый заплакать, заглянул в печку, как бы для того, чтобы показать, что скалится из–за печного жара.
– Перестань. Это нехорошо.
Валя сидела на полу, уставясь в смятый драный коврик.
– Значит, мне оставаться здесь. Ладно. Я все равно не уйду сегодня. Я мамке сказала, что ночую в Алексеевке, у подруги, а телефонов тут нет… Я тоже боли не боюсь. Сделай мне.
– Что? – не глядя на нее, спросил Лавриков, уже догадываясь.
– То. – Она уткнулась лицом ему в грудь, и Миня почувствовал, как девчонка дрожит. – Это же почти медицина. Меня все равно тут наши отловят и придавят. Уж лучше с хорошим человеком.
– Ва–аленька! – Миня вскочил, ударился головой об потолок и, застонав, сел на скамейку. – Валя! Но так же нельзя, надо, чтобы любимый человек…
– Ну нету, нету!.. – плакала она, закрыв лицо ладонями. – Кто в армии, кто в городе, а тут шпана пятнадцати лет, самая страшная… и алкоголики, я их брезгую.
– Но тогда вправду уезжай… – бормотал он ласково, обнимая, чтобы успокоить. – В городе легче потеряться.
– Одной? И куда я без аттестата? – уже в голос рыдала она. – Сделай уж ты меня женщиной, чтобы я над ними смеялась: а вот не вы! А вот не вы! – И она вновь приникла к нему, стоя на коленях.
Миня зажмурил глаза и долго сидел, не шевелясь.
– Я не могу, – наконец, выговорил он. – Я старик. Я сгорел.
– Врете, врете!..
Ах, надо бы сейчас же выгнать сумасбродную юную гостью, но она, словно безумная, вцепилась в него, плачет…
– А если им скажешь, что от меня заразилась?..
– А это им все равно, – шепчет девчушка.
– Скажи – СПИДом…
– Ой, страшно… А как я узнала будто бы? – Она вскинула мокрые глаза. – Это только в городе можно справку получить… – И снова заплакала, раззявив рот, прижавшись всем тельцем своим к нему. – Я знала, что тебя встречу!.. Я тебя у сестры отмолила!.. Я же тебя не первый раз вижу!.. в деревне видела… это ты на меня внимание не обращал!.. Миня, миленький, уже темно, можно.
– Хорошо, – просипел Миня. – Хорошо. – Поцеловал ее в чистое ушко, пахнущее детским мылом. – Только я тебе сначала много чего расскажу… Есть такая старинная книга, называется Ветхий завет, и там Песнь песней Соломона… Это почти стихи, о любви… – И он начал еле различимым, хриплым шепотом читать:
Что лилия между тернами,
То возлюбленная моя между девицами…
Что яблони между лесными деревьями,
То возлюбленный мой между юношами…
В тени ее люблю я сидеть,
И плоды ее сладки для гортани моей…
Он ввел меня в дом пира,
И знамя его надо мною – любовь.
Подкрепите меня вином,
Освежите меня яблоками,
Ибо я изнемогаю от любви…
Заклинаю вас, дщери Иерусалимские,
Сернами или плевыми лилиями:
Не будите и не тревожьте возлюбленной
Доколе ей угодно…
Когда она уснула, он и сам закрыл глаза…
Серое зябкое утро осветило их, лежащими на полу. Лавриков разлепил веки и глянул на милую сумасбродную девчонку, которая носит имя его дочери. Она приткнулась к нему в бок, сняла ночью свитер, скинула сапожки… Но ведь Миня не переступил черту, нет. Почему же она улыбается во сне?
Медленно и тихо поднялся, постоял над ней. Вынул из погасшей печки уголек, осторожно взял в руку легкую ладошку Вали и нарисовал ромашку… посмотрел еще раз на красавицу, укрыл дивные ножки ватным спальным мешком и отошел к двери. Бесшумно напялил свой коротковатый полушубок, надел, морщась, унты (нога ничего, терпит) оглядел на прощание бывшее свое жилище и пошел куда глаза глядят, приблизительно на восток, туда, где, говорят, вправду есть монастырь, и он там будет трудиться, и его простят…
В последние годы Татьяна с Михаилом, где бы кто из них не находился, стали словно бы слышать друг друга, говорить друг с другом.
«Желтый лист. Осенний путь в дорогом краю». – «Расскажи мне что–нибудь…» – «Я тебя люблю».
«Светит месяц в вышине, смотрит в жизнь мою…» – «Что ты знаешь обо мне?» – «Я тебя люблю».
«Травы в зябком серебре, конь припал к ручью.» – «Расскажи мне о себе.» – «Я… тебя люблю.»
«Не люби меня, дружок, позабудь навек. Я пропащий, видит бог, грешный человек.
«Я любила, как во сне, сладко и светло. Отгорело, как в огне, снегом занесло.
Кто обманут был хоть раз, тот уже другой… Ну, прощай, исчезни с глаз!»
«Я хочу с тобой!»
«Ну, зачем тебе, зачем эта маета? Позабудь меня совсем, я давно не та.
Прокляни меня, забудь красоту мою… И – прости! И в добрый путь!»
«Я тебя люблю!»
«Светит церковь на крови, смотрит в жизнь мою…»
«Что ты знаешь о любви?» – «Я тебя люблю».
«Слышно в поле храп коня, ветер по жнивью…»
«Что глядишь так на меня?» – «Я тебя люблю».
«Милый, странный человек, глупый, золотой… Полюби меня навек. Я уйду с тобой!»
Миня брел сквозь снежный буран, низко склонив голову, как запряженная в тяжелый воз лошадь, и думал. Ах, как бы узнать напоследок, не забыли ли его родные? Простили или нет? Прийти небритым и постоять за дверью, послушать? Нет, нет, он должен сначала заработать честным трудом деньги и вернуться, освободить семью от долгов. А где можно заработать деньги? Только на севере…
И Лавриков, дойдя до первого перекрестка в метельном поле, повернул на север, в сторону Ангары.
Там всегда можно попытаться золото намыть. Санька Берестнёв, бывший геолог, рассказывал: по левому берегу Ангары, во всех ручейках–речках моют песок. Например, на речке Мурожная, говорил он. Где эта Мурожная? Надо найти ее.
Хотя сейчас–то уже поздно – ноябрь, зима берет природу в ледовые с белыми колокольчиками рукавицы. Но почему не попытаться, Миня холода не боится. Вдруг повезет… говорят же, новичкам везет, а уж дуракам…
Как это у Роберта Бёрнса? Татьяна, бывало, цитировала и на английском, и на русском:
Ведь если б не были другие дураками,
То дураками быть пришлось бы нам самим.
Пройдя с полдня по грунтовой дороге, он вновь оказался на шоссе, но не на том, гладком, которое привело его в гости к последователю Рериха с охраной и собаками, а на шоссе старом, с выбоинами, с остатками путевых костров, черными горбами горелых шин. Оно было переметено кое–где снегом, и на снегу остались четкие следы широких протекторов – здесь проходят большие машины… Это не енисейский ли тракт? Хорошо бы немного отдохнуть на колесах. Вдруг подсадят?
Миня брел, оглядываясь, и вот радость – катится грузовик. Поднял руку – Камаз взревел, тормозя, и, едва не слетев на обочину, остановился. За стеклом парень с девкой сидят, хохочут. Чего они смеются? Не над Миней ли? Да нет, просто веселые.
– Тебе куда?
– Туда, – Миня махнул рукой вперед.
– Садись.
– Только у меня денег нету. Могу сказку рассказать.
Парень с девкой переглянулись и снова засмеялись. У девки в руках бутылка пива.
– Ну, давай сказку.
– Жил да был царь–дурак, и сын у него был дурак, и жена была дура. А вот народец вокруг был умный. Да только не знал народец, что он умный, и во всем старался походить на семью дураков…
– Это на первого президента намек?! – Взвизгнув, девчонка от избытка чувств повисла на шее у рыжего дружка–водителя, отчего тот и руль выпустил. Машина вильнула. Что дальше им бормотал Лавриков, он, кажется, сам же и забывал через секунду, на пружинистом сиденье его укачивало и клонило в дрему…
Веселая пара разбудила Миню уже в сумерках:
– Нам налево, а тебе?
Миня хотел было напроситься в гости, да не решился – не дай Бог, окажется в тягость, а то и обидит кто в чужом селе. Он спрыгнул на снег, заскулив от стрельнувшей боли в правой ноге, и поплелся дальше, на север.
Хвойный лес вдали справа казался синей сплошной стеной. Но Лавриков понимал: он редкий, этот лес. Вдоль дороги–то его совсем извели. Если ночевать, то в глубине тайги, конечно. Но вдруг появятся еще грузовики, дальнобойщики? Ослепив фарами, промчался на юг «ланд краузер» с черными стеклами, а вот на север не было попутного транспорта.
Миня похлопал по карманам тулупчика – спички здесь, старый нож–косарь, подаренный ему деревенскими девушками, покоился, обернутый в старую газету, под рукой, в унтах. Если встретится зверь, Миня постоит за себя. А вот если плохой человек… сможет ли Миня защищаться ножом?
«Но почему нет?! – разозлился на себя Лавриков. – Тебя били, пинали, об тебя ноги вытирали…хочешь все таким же остаться?! Недоброе время. И ты будь как они!».
Оскалясь не столько от страха, сколько от напряжение перед неизвестностью, Миня вошел в тайгу и между двумя огромными елями соорудил костерок. А когда огонь разошелся, надвинул на угли рядком два бревешка, найденные неподалеку, – отломанный ветром или временем сухостой – и пламя начало выскакивать между ними, вылизываться, как язык меж губами. Гореть это устройство будет до утра.
Миня сдвинул, соскреб резиновыми подошвами унтов часть углей в сторону и лег на горячую землю. «Небось не загорюсь».
И ему приснился сон, что он сидит в тюрьме среди матерых преступников, и он там, как равный среди равных. У него на ногах цепи и на руках цепи. Только никто не знает, что не он убил молодую женщину, за смерть которой получил восемнадцать (почему–то восемнадцать) лет, и что его зовут вовсе не Михаил Калита. И пусть, пусть! Калита молодой, красивый, сам он своей жене не изменял… пусть живет… А Миня Лавриков будет здесь отмаливать и его, Калиты, грех, и свои грехи…
Сон оказался мучительно долгим, правдоподобным до каждой мелочи тюремного бытия, и вызвал слезы у Мини, но то были слезы радости и покаяния… И только проснувшись, он понял, что ему еще предстоит жить в непредсказуемом мире.
Едва светало, когда он пошел дальше. И вскоре наткнулся на длинный лог, заваленный буреломом. Тракт, вильнув, резко уходил влево, на запад. Нет, Лаврикову надо не туда. Он двинулся вдоль урочища. Наверное, внизу, под снежным покровом, речка, весной она вздувается и тащит весь этот сор, коряги к большой воде.
Но что там? Над ровной белой полосой с зелеными промоинами, в которых блестит вода, как будто крутятся–сверкают подшипники, натянуты полусгнившие бечевки… с кустов там и сям свисают концы рваных сетей, как паучьи гнезда… А вон и избушка, дверь распахнута, на снегу следы то ли волка, то ли дикой собаки.
Миня зашел в избу – в морозном и вонючем сумраке его глазам предстали печь, широкий топчан, столик из двух дощечек возле окна, под потолком жерди от стены до стены – вешала для сушки одежды. На полу старые, изжеванные зверьем ботинки, жестяные бело–синие банки из–под сгущенного молока, дерьмо, то ли собачье, то ли человечье. И ни куска хлеба, ни спичек – миновали те времена, когда человек в тайге заботился о другом человеке. А если кто тут прежде и заботился, то другой все себе забрал…
Лавриков подумал: «Не остаться ли жить? Но чем тут займешься? Ружья у меня нет. Продуктов, денег нет. А золото, как мне говорили, моют за Ангарой, по левому, северному берегу, а туда еще добираться и добираться…»
Он постоял, постоял, и вдруг вспыхнуло в нем злое, острое чувство. А не подпалить ли к черту эту избушку… чтобы браконьеры, что перегораживают реки сетями, отсюда ушли? Но им, пожалуй, и не нужна никакая избушка – видишь, под осиной следы протектора? Видишь, под сосной чернильное пятно мазута? Видишь – выгоревший патрон от дымовой шашки? Веселились тут. И будут веселиться – город рядом. Нет, избушка ни при чем…
И пока день светел, с мутным солнцем в тучах, Миня должен идти своей дорогой. И он побрел дальше по тайге, приблизительно определяя направление, по дороге ел из–под снега темно–красную мерзлую бруснику, насыпал ее в карманы полушубка… они на ходу мотались, холодили тело и тянули тяжестью своей вниз…
И вдруг оказался прямо перед колючей проволокой, едва лицом на ржавую паутину не лег. В три, а где и в четыре ряда она тянулась, убегала вправо и влево, прикрученная к полусгнившим столбикам, черная, с бессмертными звездочками МВД и НКВД, а может быть, и Министерства обороны. Только вряд ли… уж слишком ветхие столбики… Если бы здесь стояла ракетная часть, ограда была бы бетонной. Наверное, все же лагерь, старый, брошенный.
Но даже если так, Миня не решился идти по его территории. Свернул влево и вышел снова на тракт, возвышавшийся среди поля, как бесконечная дамба. Но тот ли это тракт? Тянется на северо–восток… это куда же? В сторону Мотыгина? Там, на Ангаре, должен быть паром, быстрая «колчакова дочь» вряд ли еще замерзла.
Лавриков прошагал с полчаса по шоссе и, к своей радости, услышал звук машин, обернулся – со стороны юга подходили три грузовика. Но, увидев одинокого человека с поднятой рукой, ни один из них не остановился – промчались мимо, воняя недогоревшей соляркой.
Через час или два появилась белая «Волга», она, было, затормозила, но тоже вдруг, прибавив скорость, унеслась на север. Что за человек в местах, где рядом нет жилья, а только тайга?
Люди боятся.
Миня всяко старался показать, что он хороший: и старательно улыбался, и махал руками, и кричал вослед: «Длузья!..», но, видимо, его небритая харя и вправду пугала.
К вечеру он пришел наконец в небольшое село, где решил попроситься ночевать. Сняв шапку, смиренно постоял на ледяном ветру возле первых попавшихся ворот, не самых новых (богатые люди чаще всего недобрые люди) и не самых покосившихся (к алкашам ему не с чем войти). Но, кажется, своим смирением этим еще более насторожил людей. Не пустили его. И Миня вновь ночевал в чужой бане, пройдя по огородам и определив по теплому запаху, где недавно мылись.
А перед самым рассветом, еще в полной тьме, пошел прочь, пока его тут не убили или собаками снова не затравили.
Шагал и шагал Лавриков… и вдруг в небесах потемнело, будто снова ночь наступила – повалил мокрый душный снег. А Миня, как оказалось, уже потерял ту высокую дорогу, но возвращаться в село не стал. Он шел через сугробы, по едва проступавшей среди белых полян в лесу узкой щебенчатой дороге, на обочине которой изредка торчали покосившиеся столбы без проводов. И здесь же, в редкой тайге, ему попался на пути ржавый комбайн. Зачем его завели в лес? Катили на работу, да он сломался? Или хотели украсть? Но кому в таежных селах нужен полевой комбайн?
Дорога почти исчезла. Снег валил и валил, и Миня, порой нащупывая унтами грунт, по ошибке выходил на некие холмики. Куда он выйдет вслепую? Может быть, вернуться? Совсем вернуться? Нет, нет. Только вперед. Миня помнил по рассказам Саши Берестнёва, как моют золото. Лоток он соорудит, отшлифует ножом, руки у него крепкие, ни огня, ни стужи не боятся. Ему повезет. На худой конец – устроится до весны в каком–нибудь поселке, где народу больше, кочегаром или пильщиком дров.
В белом буране, впереди, на дороге, затерянной в пространстве, показалось качающееся пятно. Это брел тоже некий странник, двигался, как темное облако, видимо, бездомный, как и Лавриков, без шапки, руки в карманах драной шубы.
– Привет! Пошли на север! – крикнул сипло Миня.
– Я на восток, – откликнулся незнакомец.
– Посмотри, как тучи сегодня играют… будто японские веера, – сказал, чтобы подбодрить человека, Миня. Но незнакомец не ответил. – Тебя как зовут?
– Михаил, – останавливаясь, нехотя буркнул тот.
– Серьезно? И меня Михаил.
Всё. Круг замкнулся. Иди, иди, не морозь его остановкой на ветру. Стоит ли все на свете запоминать? Себя бы не упустить… Но Миня не мог взять да и расстаться просто так с одиноким, как и сам, человеком, да еще носящим такое же имя.
– Расскажи мне о себе. Потом я.
– Да? – путник подошел ближе к Мине и наотмашь ударил.
Миня упал и поднялся.
– За что?! – удивился Лавриков. Но человек уходил в буран.
– Я тебя догоню и убью?! – перехватило дыхание у Лаврикова. И он побежал, топая разъезжающимися унтами, за незнакомцем, но того уже нигде не было в снежном мраке… да и шутишь ты, Миня! Никого ты не убьешь, даже если тебе ногу отпилят и в руку пистолет дадут.
И он заплакал. Он стоял в дикой тайге, утирая слезы кисло пахнущим рукавом чужого полушубка, и ревел, как ребенок.
«Я вернусь. Я непременно вернусь домой. Я вернусь на белом коне…» – повторял Миня, утирая разбитую губу. Но в душе его росло пугающее темное чувство, что он обманывает себя. Что он уже никогда не будет иметь больших денег. И никогда не вернется домой. И никогда не увидит жену и дочь…
Он брел, спотыкаясь, все дальше, он брел на север вдоль закоченевших речек со сломанными мостами, сквозь брошенные села, по обломкам лодок и заснеженным скользким кострищам. В небесах неслись белые и черные кони…
«Простите меня, милые мои…»
2002–2004, Красноярск