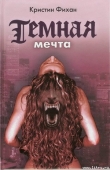Текст книги "Севильский слепец"
Автор книги: Роберт Чарльз Уилсон
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 32 страниц)
Тут до меня дошло, что у него внутри такая мерзкая гниль, что он скрывает ее даже от самого себя. Рамон убил парнишку только потому, что тот ввел его в искушение. Сальгадо ферт. Он ухлыстывает за дамами. Они с М. обожают друг друга. У него куча романов, которые долго не тянутся. Теперь он богат, знаменит в своем узком мирке и пользуется уважением… но его влечет к мальчикам, а это не вяжется с тем раззолоченным имиджем, который он для себя придумал. Таково мое мнение. Мальчик пробудил в нем то, что ему ненавистно, и он его прикончил.
Он произнес сакраментальную фразу:
«Я боюсь скандала».
Я не испытываю к нему презрения даже после того, что случилось. Кто я такой, чтобы кого-то презирать? Я сел в ногах кровати. Прикурил для Сальгадо сигарету.
«Ты мне поможешь?» – спросил он.
Я рассказал ему историю, которую впервые услышал от приятеля Б.Х. еще в сороковые годы. Про то, как богатый гомик подцепил в знаменитом манхэттенском гей-клубе нескольких солдат и отвез их на квартиру своей матери на 5-й авеню. Все надрались до чертиков, а один солдатик вырубился напрочь. Весельчаки стащили с него штаны и смеху ради начали брить ему волосы на лобке. И случайно – я подчеркиваю, совершенно случайно – отхватили парню член. И что они сделали? Сальгадо смотрел на меня совсем как Хавьер, когда я рассказываю ему на ночь сказку: зачарованно, с широко открытыми глазами. Ребята завернули его в одеяло, вынесли из дома и бросили где-то на мосту. Ему повезло, потому что его нашел полицейский и отправил в больницу, прежде чем бедняга умер от потери крови.
«Ну и что ты про это думаешь?» – спросил я.
Рамон заморгал, боясь сказать что-то невпопад.
«Если ты поможешь мне, Франсиско, – промямлил он наконец, – я никогда больше не сделаю ничего подобного».
«Чего? Убивать, что ли, больше не будешь?»
«Нет-нет… я имею в виду… никогда не буду путаться с мальчиками и начну вести примерную жизнь».
«Я помогу тебе, – сказал я, – но мне хочется узнать, что ты думаешь о том случае».
Рамон молчал. Совсем отупел от страха.
«Они заплатили тому солдату, – продолжил я, – чтобы он не подал в суд. И, как ты думаешь, сколько?»
Он потряс головой.
«Двести тысяч долларов, и это было в сорок шестом году, – добавил я. – В те годы выгоднее было расстаться с членом, чем заниматься живописью».
Сальгадо пронесся мимо меня в уборную, где его вырвало. Минуты через две он вернулся, вытирая рот платком.
«Не понимаю, как ты можешь так спокойно говорить об этом, Франсиско».
«Я убил сотни людей, не более и не менее виновных, чем мы с тобой».
«Тогда была война», – заметил Сальгадо.
«Просто я хочу сказать, что того, кто участвовал в таких бойнях, в каких участвовал я, вид мертвого мальчика в номере отеля не повергает в смертельный ужас. Так я жду твоего мнения».
«Их поступок чудовищен», – сказал он, затягиваясь сигаретой.
«Чудовищнее, чем убийство мальчика?»
«Они сознательно оставили его умирать».
«Так как это говорит о людях, на которых ты силишься произвести впечатление? – спросил я. – Преступник, кстати сказать, на свободе и по-прежнему ходит в друзьях Барбары Хаттон».
Рамон был слишком растерян, чтобы соображать.
«Мы их комнатные собачки, – пояснил я. – Мы их муси-пуси… да, даже я, Рамон. Они ласкают нас, кормят «вкусненьким», поддразнивают, а потом устают от нас и вышвыривают вон. Для богатых мы пустое место. Полное ничто. Меньше чем игрушки. А поэтому, когда будешь потягивать их шампанское, помни, что ради высокого мнения этих никчемных людишек ты прикончил этого паренька».
Мои слова ударялись в его грудь, как крупнокалиберные пули, и он, отодвигаясь назад, вжимался в спинку кресла.
«Ради них?» – воскликнул он в замешательстве.
«Ты убил его, поскольку тебе невыносимо думать, что эти люди могут узнать, чем ты занимаешься. Ты убил его, потому что сам считаешь себя порочным и полагаешь, что другие тоже тебя осудят. Но ты глубоко ошибаешься».
Он разрыдался. Я похлопал его по спине.
«Франсиско, – всхлипнул он, – что бы я делал без тебя?»
«Что-нибудь более достойное», – ответил я.
Мы без труда избавились от трупа. В три часа ночи мы вынесли его в сад, окружавший отель, перекинули через стену, засунули в машину, отвезли подальше от города и сбросили со скалы в море. На обратном пути Рамон сидел, молча уставившись в окно, как человек, свыкающийся с изменившимся миром, в котором, из-за мгновенного ослепления, ничто уже не будет таким, каким было прежде. Если приходится убивать. Если нет выбора. Убивайте с широко открытыми глазами».
Фотокопии выпали из разжавшихся пальцев Фалькона и разлетелись по полу. Он сидел ошеломленный: подтвердилось его предположение, что убийца имел доступ к отцовским дневникам. Это, несомненно, был один из тех молодых художников, которые жили у Франсиско Фалькона, скрашивая его одиночество.
Институт изящные искусств уже закрылся. Эль Сурдо был недосягаем. Он просмотрел телефонную книгу отца и нашел какого-то человека из университета с домашним номером телефона. Он позвонил, но ему никто не ответил.
Он вернулся мыслями к Раулю Хименесу и его признанию, ставшему причиной разрыва между ним и его отцом. А еще ему показалось невероятным, чтобы отец никак не отметил такое событие в своем дневнике, хотя оно произошло уже после его последней записи, где он объявляет, что ему все «смертельно надоело».
Хавьер резко вскочил и помчался наверх. Перед дверью мастерской он замедлил шаги и в конце концов остановился. Вперив взгляд в черный зрачок фонтана, он задумался о том, что они так и не разгадали, чем именно Серхио запугивал Рауля Хименеса. Откуда он это взял? С ужасами Сальгадо все было ясно. Они нашли на чердаке чемодан с фотографиями и магнитофонными пленками, но с Раулем Хименесом дело обстояло иначе. Бесконечные опросы сотрудников «Мудансас Триана» подтвердили одно – никто не покушался на хранившиеся на складе вещи Хименеса.
Фалькон оттолкнулся от перил и вошел в мастерскую отца. Он достал последнюю часть дневника. Пролистав страниц десять после записи, которая показалась ему заключительной, он обнаружил то, что искал.
«13 мая 1975 года, Севилья
Я в такой дикой ярости, что опять схватился за свою исповедь в надежде, что меня это успокоит».
Далее следовал рассказ, который он уже выслушал от Эль Сурдо, завершавшийся следующими строками:
«Не могу понять, что его дернуло именно теперь сообщить мне о своей подлости, и я рявкнул ему это, вылетая из ресторана на улицу. А он бросил мне в спину: «Если бы не я, ты до сих пор расписывал бы оконные рамы в Триане». За такое чудовищное и намеренное оскорбление он понесет должное наказание.
17 мая 1975 года, Севилья
Постскриптум к моей недавней вспышке. Я узнал, что мой старый друг Рауль уже достаточно наказан. Его младший сын вроде бы умер в Альмерии, его жена утопилась в Гвадалквивире здесь в Севилье, его дочь Марта попала в психиатрическую лечебницу в Сьемпосуэлосе, а его старший сын живет в Мадриде и не поддерживает с ним никаких отношений. После такой серии злосчастий все, что я вынашивал против Рауля, кажется шлепком мухобойки. Я думаю, что он признался мне в краже, чтобы отделаться от меня. Просто я одно из напоминаний о той беспокойной эпохе».
Фалькон до конца пролистал оставшиеся пустые страницы, потом вернулся к последней записи и прочел ее еще раз. Его взгляд зацепился за название Сьемпосуэлос. Наверняка Серхио узнал о трагедии в семье Хименес из этой записи, и тут же содержалась подсказка: Марта в Сьемпосуэлосе. Но Марта почти не может говорить. Фалькон стал вспоминать свой недавний визит в лечебницу. Рану Марты обрабатывает врач. Ахмед везет ее обратно в палату. Ее выворачивает после падения. Ахмед уходит за принадлежностями для уборки. И тут ему представилась картина, яркая как озарение: сундучок под кроватью Марты!
32
Воскресенье, 29 апреля 2001 года,
дом Фалькона, улица Байлен, Севилья
Ахмед не сказал ему, что находится в сундучке. Фалькон взглянул на часы. Было десять вечера. Он спустился в кабинет, достал записную книжку, отыскал в ней фамилию лечащего врача Марты – доктора Асусены Куэвас, и набрал номер лечебницы в Сьемпосуэлосе. Доктор Куэвас только что вернулась из отпуска, и утром ее ждали на работе. Фалькон поговорил с дежурной сестрой палаты, где находилась Марта, объяснил, зачем звонит и что хочет посмотреть. Сестра сказала ему, что Марта разрешает снимать цепочку у себя с шеи только перед ежедневным мытьем, и пообещала утром сообщить о просьбе Фалькона доктору Куэвас.
Фалькон проглотил две таблетки снотворного, в результате чего проспал. Он успел только на дневной поезд «AVE» до Мадрида, набитый, как всегда в понедельник, до отказа. Фалькон был в костюме, при плаще, с полностью заряженным револьвером. Из поезда он позвонил доктору Куэвас. Та согласилась отложить ежедневное мытье Марты до после обеда.
На вокзале Аточа он взял такси до Сьемпосуэлоса и в 3.30 сидел в кабинете доктора Куэвас, ожидая, когда уборщица принесет сундучок Марты.
– Что вам известно о ее санитаре – Ахмеде? – спросил Фалькон.
– О его личной жизни абсолютно ничего. Но как работнику ему цены нет, его терпение, кажется, не имеет предела. Он никогда даже голоса не повышает.
Сундучок наконец прибыл, а еще через несколько минут медсестра принесла Мартину цепочку с ключиком и медальоном. Они открыли сундучок. Внутри был маленький храм Артуро. На крышке, как на алтаре, красовались спасенные фотографии. Среди них выделялся рисунок: палкообразное существо женского пола с торчащими волосами, глазами рядом с головой и нацарапанным внизу именем «Марта». В сундучке хранились игрушечные машинки, серый детский носок, старая школьная тетрадь и цветные карандаши с изжеванными концами. На дне лежали две катушки 8-миллиметровой пленки, похожие на те, что они нашли на складе «Мудансас Триана». Фалькон взял одну катушку и посмотрел пленку на свет. Там был Артуро на руках у своей сестры. Он убрал все обратно в сундучок, закрыл крышку и запер замок. В медальоне оказался завиток каштановых волос. Фалькон вернул цепочку медсестре, а уборщица отнесла сундучок обратно в палату.
– А где сейчас Ахмед?
– В саду, на прогулке с двумя пациентами.
– Мне не хотелось бы, чтобы он узнал о моем визите.
– Это вряд ли получится, – сказала доктор Куэвас. – Здесь люди любят посудачить. Им больше нечего делать.
– Не появлялся ли здесь случайно какой-нибудь молодой художник? Может, подрабатывал санитаром?
– Некоторое время назад мы проводили трехмесячный эксперимент с применением арт-терапии, – ответила доктор Куэвас.
– И как же проходил ваш эксперимент? – поинтересовался Фалькон. – Кто были эти арт-терапевты?
– Мы устраивали сеансы в выходные. Все работали бесплатно. Нам интересно было посмотреть, как пациенты отзываются на творческую деятельность, которая может напомнить им об их детстве.
– Откуда приезжали художники?
– Среди членов правления лечебницы есть один кинорежиссер. Он приглашал из своей фирмы парней и девушек с художественным образованием.
– Где-то зафиксированы их данные?
– Конечно. Мы оплачивали им транспортные расходы.
– Как им платили?
– Насколько мне известно, раз в месяц им выписывали чек, – сказала она. – За всеми подробностями вам лучше обратиться в бухгалтерию.
– Вы не запомнили имена и фамилии парней, участвовавших в вашем эксперименте?
– Только имена: Педро, Антонио и Хулио.
– А Серхио не было?
– Нет.
– Теперь я, с вашего разрешения, пройду в бухгалтерию.
Доктор Куэвас не ошиблась, там действительно были и Педро, и Антонио, оба с чисто испанскими фамилиями. А вот полное имя третьего парня заинтересовало Хавьера, потому что оно звучало так – Хулио Менендес Чечауни.
В 9 вечера Фалькон оказался на улице Байлен. Открыв входную дверь, он опять подшиб ногой пакет, валявшийся на полу у порога. Снова без адреса, с одной цифрой 3.
Совершенно измотанный, Фалькон понес его в кабинет. Там мигал автоответчик: комиссар Лобо сообщал ему номер своего домашнего телефона. У Фалькона не было сил на разговор, и он отправился принимать душ.
Кухня одарила его хлебом и копченой колбасой, которые он запил красным вином. Бросив в стакан несколько кубиков льда, Фалькон отправился в кабинет, вытащил из бара бутылку виски и налил себе порцию – на два пальца выше льда. Он подумал, что в первый раз ему удалось обойти Серхио. Он уже больше не гнался за ним, а шел на обгон. Фалькон распечатал пакет. Там лежали фотокопии страниц отцовского дневника.
«1 июля 1959 года, Танжер
У меня новая игрушка – бинокль. Я сижу на балконе, разглядываю людей на пляже и зарисовываю их тела – натуру в естественности незнания. Больше, чем гибкие формы молодых, меня привлекают оплывшие очертания стариков. Я рисую их как пейзажи – с откосами, разветвляющимися отрогами, горными хребтами, равнинами и неизбежными оползнями. Обводя пляж своим новым «орлиным оком», я вдруг увидел П. и детей. Моя семья забавлялась. Пако и Мануэла сооружали какой-то замок в духе Гауди, в то время как Хавьер тянул П. к воде. П. шла по берегу, а Хавьер, высоко поднимая ножки, шлепал по мелкоте, крепко держа мать за руку. Я был очарован этой бытовой сценкой, которой придавало особую прелесть их неведение, как вдруг П. остановилась, а Хавьер сорвался с места и бросился навстречу какому-то незнакомцу, который подхватил его на руки, подбросил вверх, поймал и опустил. Хавьер требовательно затопал ножками, и незнакомец, подчинившись, снова подбросил его в воздух. Это был марокканец лет тридцати пяти. К ним подошла П., и я понял, что мужчина ей не чужой. Они беседовали несколько минут, а Хавьер тем временем наваливал песок на ноги незнакомца. Потом П. ушла, таща за руку Хавьера, который обернулся и помахал «дяде» ручкой. Я навел бинокль на марокканца: тот стоял неподвижно, вскинув к солнцу голову. Он долго смотрел вслед П. и мальчику, пока они не смешались с толпой загорающих. Я прочел на его лице восхищение.
1 ноября 1959 года, Танжер
Начались дожди, и пляжи обезлюдели. В городе почти никого нет. Порт опустел. Изданный в прошлом месяце указ Мухаммеда V, наделивший Танжер особым статусом, был отменен. В «Кафе де Пари» нет посетителей, не считая нескольких ворчунов, обвиняющих в недавней акции деловые круги Касабланки, которые всегда завидовали привилегиям Танжера. Я пошел в медину и уселся под набрякшей водой крышей веранды «Кафе Сентраль», где теперь подают только скверный кофе или мятный чай. Я почувствовал, что за мной наблюдают. Это было непривычное ощущение, поскольку, как правило, наблюдение веду я. Мой взгляд заскользил по головам, замотанным в тюрбаны, джелябам, затянутым у подбородков, бабушам, хлопающим по заскорузлым пяткам, и остановился на лице человека с пляжа. У него в руке был карандаш. Наши глаза встретились, и я понял, что ему известно, кто я такой. Вскоре он ушел. Я спросил официанта, не знает ли он этого человека, но тот никогда его прежде не видел.
Р. сообщил мне, что снова переезжает. Письмо Абдуллы Диури здорово его испугало.
3 декабря 1959 года, Танжер
Пришло письмо от М., она чрезвычайно подавлена. М.Г. беспокоили боли в животе, и врачи диагностировали у него рак печени, но ни один хирург не берется его оперировать. Видимо, жить ему осталось несколько месяцев, если не недель. Она очень привязана к М.Г., и я не сомневаюсь, что это известие ее сразило. Она спрашивает о Хавьере, еще одном мужчине, завоевавшем ее сердце. Письмо М. пробудило во мне ностальгические воспоминания о нашем с П. прошлом. Я в беспокойстве вскочил с кресла и принялся шагать взад-вперед по комнате. Что-то занозой засело у меня в голове. Поднапрягшись, я сообразил – это лицо мужчины с пляжа. Теперь мне ясно: я не обрету душевного покоя, пока не узнаю, кто он такой.
7 апреля 1960 года, Танжер
Я больше не работаю. Не могу. Мое сознание рассеяно. Мне невыносимо оставаться в мастерской. Я брожу по городу и медине, вглядываясь в лица, наблюдая, ища незнакомца. Он моя новая навязчивая идея. Я варюсь в котле собственных мыслей, которые, повинуясь логике медины, заводят меня в тупики.
10 мая 1960 года, Танжер
Я уже почти потерял надежду, как вдруг на бульваре Пастера мое внимание привлекла вырезанная из кости статуэтка в витрине одного из сувенирных магазинчиков. Подняв глаза от статуэтки, я увидел за прилавком того незнакомца с пляжа. Вначале я подумал, что он тут хозяин, но потом заметил пожилого мужчину, который пересчитывал деньги за кассой. Я вошел в магазинчик и, не глядя на молодого марокканца, обслуживавшего туристов, спросил старика о статуэтке в витрине. Тот сказал мне, что это работа его сына. Я был поражен и поинтересовался именем мастера. Хозяин мне его назвал: «Тарик Чечауни». Он рассказал, что у его сына есть мастерская в предместье, на дороге в Асилах. Разговаривая со стариком, я заметил рядом с кассой небольшую коробку с дешевыми кольцами. Среди них было несколько простых серебряных ободков с агатовыми кубиками. Теперь мне понятно замешательство П., или это был страх?»
Увидев имя «Чечауни», Фалькон встал и прошелся по кабинету, с силой сжав кулаки. К завтрашнему утру он, возможно, будет знать номер удостоверения личности и адрес убийцы. Он допил виски и налил себе еще.
2 июня 1960 года, Танжер
Получил письмо от М. с сообщением, что М.Г. IV скончался, прожив на два месяца дольше, чем ему пророчили. Она в отчаянии. Я написал ей письмо с выражением сочувствия и посоветовал приехать в Марокко, оставив город, где она пережила такое горе. Мною двигал эгоизм. Мне нужно с кем-то общаться. Мы с П. сосуществуем как чужие или, вернее, как будто между нами втерся кто-то чужой. Мне нужно было бы спросить ее о Тарике Чечауни. Мне, как ее мужу, полагалось бы узнать, с кем она разговаривала на пляже. Но я этого не сделал. Почему? Покопавшись в себе, я не нашел иной причины, кроме трусости. Неужели такое чувство пристало мне, ветерану Красного Бора? Но я боюсь не за себя. Я боюсь обнаружить свою ранимость. Мне становится плохо от сознания, что вся эта история, начавшаяся прошлым летом, терзает меня уже целый год.
3 июня 1960 года, Танжер
Я снова пошел на бульвар Пастера и дождался у магазинчика, когда уйдет молодой марокканец. Потом вошел и спросил у его отца, сколько он хочет за костяную статуэтку с витрины. Тот ответил, что она не продается (хорошо известный прием), и мы стали торговаться. Опасаясь, что вернется Т.Ч., я быстро сдался и заплатил 30 долларов. Цена казалась непомерно завышенной, но только до того момента, как я, войдя с фигуркой в мастерскую, по-настоящему ее разглядел и понял, что она бесценна. Ошеломляющая красота линий и форм борется в ней с мрачной сущностью материала. Она говорит на своем языке о двойственности природы человеческого бытия. Я начинаю думать, что старик не только не выгадал, а, напротив, совершил нечто непростительное.
18 июня 1960 года, Танжер
Вот как я все устроил. Вчера у П. был день рождения. Вместо того чтобы, как обычно, отделаться каким-нибудь украшением, я завернул в бумагу статуэтку из кости. Ранним вечером я пригласил ее в мастерскую и выставил на балконный столик шампанское. Было еще светло и очень тепло; с моря дул легкий бриз. Мы подошли к идеальному моменту вручения подарка. Ее лицо выражало радостное изумление, потому что раньше я всегда вручал ей маленькую коробочку, а теперь нечто совсем другое – предмет высотой 40 см. Она, как любопытная девочка, принялась срывать обертку. Я следил за ней с жадностью голодного волка и уловил миг прозрения. Ее глаза на долю секунды расширились и словно бы отделились от лица. Но ей удалось быстро овладеть собой. Мы вернулись к шампанскому. Стемнело. Она смотрела на меня как на странного зверя, который принял человеческий облик, но, по неосторожности, выставил напоказ волосатое копыто. Я получил то, что мне требовалось. Она получила то, чего желала. Фигурка стоит на ее туалетном столике.
М. сообщила письмом, что задерживается из-за судебной тяжбы. Похоже, дети от предыдущих браков М.Г. считают, что она не заслуживает половины его состояния.
3 августа 1960 года, Танжер
Я отыскал мастерскую Т.Ч. и разузнал, что летом он там не появлялся. Это оказался стоящий особняком маленький домик, максимум из двух комнат, с садом позади. Ночью я возвратился, чтобы понаблюдать. Все было тихо. На следующую ночь я снова вернулся, осторожно перелез через забор в заросший сад, пахнущий влажной землей. За деревьями скрывался большой облицованный кирпичом бассейн, до краев полный воды. Затвор на задней двери еле держался, и она легко открылась. Внутри я увидел топчан с соломенным тюфяком, в углу калабаш, и больше ничего. Подойдя к двери в соседнюю комнату, я заколебался, будто какой-то голос шепнул мне, что моя жизнь изменится, как только я переступлю этот порог. Шаг, и я очутился в его мастерской. Тут, как и у меня, было полно всякой всячины. Луч моего карманного фонарика скользил по изделиям из металла и рога, по каменным скульптурам и ювелирным штучкам, пока не осветил край картины.
Я направил на нее свет и рванулся к ней, будто падая на собственный меч. К стене были прислонены три абстрактных изображения обнаженной женщины. Как ни смутно вырисовывались они в тусклом пыльном световом пятне, их уникальность была очевидна. На двух полотнах женщина полулежала, на одной стояла. Несмотря на абстрактную манеру письма, я сразу понял, что моделью послужила П. У меня внутри все оборвалось. Это было совершенное и прекрасное воплощение в красках угольных рисунков, сделанных мною пятнадцать лет назад. Жгучие слезы хлынули из моих глаз, когда я подумал, что так должна была завершиться моя работа.
На столе лежал этюдник, и я не смог его не перелистать. Наброски просто великолепны. Детали тончайше проработаны. Рука, лодыжка, шея, большие тяжелые груди, ягодицы, талия и живот. Просто дух захватывает. Отложив очередной лист, я уперся взглядом в собственную физиономию, блестяще очерченную несколькими штрихами. Тут же шли вариации на эту тему. Карикатуры, и чем дальше, тем уродливее, и под конец – в правом нижнем углу – я был представлен абсолютным чучелом, страшилой из мультика. У меня от ярости даже руки затряслись. Этот портрет служит мне оправданием. Теперь я на все способен.
30 октября 1960 года, Танжер
Лето закончилось. Туристы покинули нас. Я вышел из дому и дождался П. на рынке. Она прошла через Пти-Соко на стоянку такси, что на Гран-Соко, и села в старенький «пежо». Я тоже сел в такси и последовал за ней, пообещав водителю больше дирхемов, если он поедет так, как я скажу. «Пежо» затормозил у мастерской Т.Ч. Она вышла из машины и скрылась в доме. Велев таксисту ждать, я перелез через забор сада. Задняя дверь была распахнута. Из-за двери мастерской, тоже приоткрытой, слышался голос Т.Ч. и смех П. Я увидел, как она скинула белье и голая ступила на измятую простыню, расстеленную на полу. Она опустилась на колени спиной к Т.Ч., чьего вожделения уже не скрывала даже просторная джеляба. Сначала он рисовал карандашом. Все его тело участвовало в процессе. Линии вытекали из изящных балетных движений, словно он вытанцовывал рисунок на бумагу. Т.Ч. сделал три наброска и попросил П. изменить позу. Он подошел к ней сзади, подобрал вверх ее волосы и заколол их кистью. Потом зашел спереди и слегка развернул ей плечи, так что ее позвоночник утонул в ложбинке. П. заметила его возбуждение и привычно интимным жестом подняла джелябу. Она ласкала любовника рукой, пока он не задрожал. Прикосновение ее щеки исторгло из груди мужчины стон. Обхватив его ягодицы, П. медленно наклонила голову, будто в молитве. Т.Ч. судорожно сжимал ее плечи, и вдруг он издал крик, похожий на крик ребенка, внезапно проснувшегося среди ночи. Она вобрала его в себя без остатка. Я убежал.
Я на такси вернулся к себе в мастерскую и впервые за несколько месяцев взял в руки кисть. Я прикрепил к стене пять чистых холстов. Приготовил черную краску. Схватил карандаш. Мой ум уподобился стали. Мысли вылетали из него, как пули, и в считанные минуты я набросал редкостный по непристойности рисунок, на котором П. обслуживает двух разнузданных сатиров. Я рисовал яростно и остервенело, но при этом твердо и точно, так что, снятая со стены, картина превратилась в пять заляпанных черной краской холстов. Моя месть обретает форму лишь в строгом соотношении частей.
3 декабря 1960 года, Танжер
Я не работаю, я только наблюдаю. Мое внимание сосредоточено на сложной связи двух людей. Я холоден как лед. Мой ум ясен, как крик над безмолвным, заснеженным полем. Я узнал зимний распорядок дня Т.Ч. Он встает поздно, всегда после полудня, идет в маленькое кафе, съедает завтрак, пьет чай и выкуривает три-четыре сигареты. Днем он редко возвращается в мастерскую. Иногда он отправляется к семье. У него жена и трое детей, два мальчика и девочка, от пяти до восьми лет. Иногда он ходит на берег моря. Ему нравится плохая погода. Я вижу из своей мастерской, как Т.Ч. стоит на ветру под дождем, раскинув руки, словно приветствует очищающие силы стихий. По ночам он пишет. Я наблюдал за ним. Этот человек настолько поглощен творчеством, что ничего не замечает вокруг. Порой он работает нагишом, даже когда холодно, а под конец валится на пол мастерской в полном изнеможении. Т.Ч. закончил четвертое полотно. Обнаженная П. на коленях. Это что-то феноменальное. Чудо мистической простоты формы в соединении с общей для всех его «ню» идеей сладости и горечи запретного плода.
28 декабря 1960 года, Танжер
Была холодная ночь, может, самая холодная из всех пережитых мной в Танжере. Дул ледяной северо-западный ветер с Атлантики. Я шел по безмолвному городу. На улицах не было даже собак. До мастерской Т.Ч. я топал больше часа. Недолго думая, я перемахнул через забор там же, где и всегда (я нашел место, где приземляешься на дорожку, не оставляя следов на мягкой земле). Проникнув в спальню, я услышал за дверью шаги Т.Ч. и понял, что он работает. Я ступил из тьмы в освещенное пространство мастерской. В комнате было тепло от стоявшей в углу жаровни. Он продолжал писать. Я приблизился к нему со спины. Под джелябой угадывались его напряженные мышцы. Я остановился почти вплотную к нему, но он по-прежнему не ощущал моего присутствия. Он накладывал краску мазками, сочными как плоть. Наконец он почувствовал на шее мое дыхание и окаменел. Он не повернулся. Не, в силах был повернуться. «Это я», – произнес я.
Т.Ч. обернулся. Его глаза взывали к моему разуму и, не найдя отклика, к жалости. У меня не было ни потребности, ни желания объясняться, поэтому, размахнувшись, я ребром ладони рубанул ему по горлу с такой зверской силой, что раздался треск. Он выронил кисть и палитру и рухнул на колени, отчаянно пытаясь вдохнуть. Встав за его спиной, я одной рукой закрыл ему рот, а другой зажал нос. Мой жестокий удар превратил этого крепкого мужчину в ватную куклу. Только когда смерть затуманила ему сознание, инстинкт самосохранения влил силу в его руки, но было уже слишком поздно. Я держал крепко и задул эту последнюю вспышку гаснущего пламени. Положив Т.Ч. на пол лицом вниз, я снял четыре «ню» с подрамников, свернул их в трубку и поставил рядом с дверью. Потом взял пятилитровую канистру с уайт-спиритом и облил им пол и неподвижное тело. Рядом были еще скипидар и спирт. Я бросил зажженную спичку и вышел. Вернувшись к себе в мастерскую, я спрятал холсты на чердаке над своей кроватью и лег спать. Дело было сделано, и сон пришел мгновенно».
Хавьер опустошил стакан. Чем больше отвратительный дух прочитанного расползался по комнате, тем чаще он подливал себе виски и в конце концов опьянел. Чувство торжества улетучилось. Его лицо уподобилось расплывшейся от жары резине. Вокруг ног валялись фотокопии, выпавшие из его ослабевших пальцев. Голова склонилась к плечу. Шея хрустнула в попытке приподняться, пока он еще инстинктивно сопротивлялся сну и всему, что там его подстерегало, но изнеможение – физическое и душевное – победило.
Во сне Хавьер увидел самого себя спящим, но не взрослым, а ребенком. Он ощущал спиной тепло, лежа под надежным укрытием противомоскитной сетки. Он пребывал в состоянии полудремы, которое не мешало ему осознавать, что его спину греет солнце, и различать сквозь полуопущенные веки топорщащуюся у лица кисею на фоне белой стены. Детское счастье екнуло у него в груди, когда он услышал голос матери, зовущей его по имени:
«Хавьер! Хавьер! Despiertate ahora, Хавьер!»[126]126
Сейчас же вставай! (исп.)
[Закрыть]
Он мгновенно проснулся, так как был уверен, что она окажется здесь, в его комнате, и он будет счастлив и любим.
Но ее не оказалось. Какой-то миг все вертелось у него перед глазами, прежде чем обрело очертания. Он опять сидел в кабинете на стуле, но только не на своем. Это был стул с высокой спинкой из столовой, и он не мог подняться с него, так как что-то удерживало его за шею, запястья и лодыжки. Босые ноги стояли на холодных плитках пола.