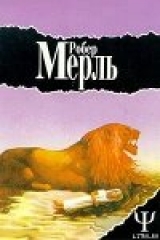
Текст книги "Мадрапур"
Автор книги: Робер Мерль
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 22 страниц)
Я жду, когда онирил достаточно подействует на моих спутников, чтобы мой вопрос их заново не встревожил, и спрашиваю у Робби, какова же причина его отказа. Разговор вести нам очень трудно, оба мы говорим таким слабым голосом, что еле слышим друг друга. Тронуться с места, подойти друг к другу – для меня это совершенно исключено, и Робби, полагаю, тоже боится, что, если он встанет, круг увидит, насколько он слаб.
К моему большому удивлению, Робби, который неоднократно доказывал решительность своего характера, ясного ответа мне не дает. Обращаясь ко мне по-французски, но со все более явственным немецким акцентом, он начинает с того, что говорит:
– Я не знаю. Не уверен, что я сам понимаю свои побуждения. Вполне возможно, что я хочу без посторонней помощи справиться с собственной тоской и тревогой.
– Но не является ли этот героизм, – говорю я, – в нашей ситуации совершенно излишним? Особенно для вас? Ведь исход всего этого предприятия вам давно уже ясен.
– Именно это я себе и говорю.
– Так в чем же дело?
– Я очень склонен к самолюбованию, вы это знаете. Быть может, мой отказ – своего рода кокетство.
– Это означало бы, что вас слишком заботит, какое впечатление вы производите на окружающих.
– Да, вы правы. – Немного подумав, он добавляет: – А может быть, я не хочу никаких подарков от Земли.
Слово «подарков» он произносит с насмешливой улыбкой.
Здесь Мюрзек, которая вернулась из пилотской кабины, чтобы послушно принять таблетку, поднимает на нас глаза с таким негодующим видом, что, желая избежать очередной нудной проповеди, я прекращаю этот разговор. К тому же он меня окончательно обессилил. Если моя мысль еще сохраняет ясность, это вовсе не значит, что речь дается мне столь же легко.
Затрудняюсь сказать, в какое точно время второй половины дня происходит то, о чем я сейчас расскажу. Ибо часов ни у кого нет и мы постепенно утрачиваем ощущение времени. Я говорю «второй половины дня», потому что солнце вскоре после рассвета исчезло и прошло уже «какое-то время» после того, как бортпроводница нас накормила и убрала подносы после еды.
Откуда сама бортпроводница узнаёт час, когда ей следует нас кормить, мне невдомек. Разве только Земля, как я и раньше предполагал, отдает ей на этот счет приказания. Как бы то ни было, единственным средством, при помощи которого мы можем хоть как-то членить на отрезки продолжительность времени, являются завтраки, обеды и ужины, которыми потчует нас бортпроводница. Возможно, эти ориентиры обманчивы; будь у меня аппетит, я, должно быть, мог бы об этом судить более верно. Но аппетита у меня нет. Я не в силах ничего проглотить. Это порочный круг: я чувствую себя слишком слабым, чтобы есть, и чем меньше я ем, тем больше я слабею.
Я знаю, что я слабею, но благодаря онирилу этого не чувствую. А ведь главное для нас, конечно, не сами несчастья и беды, от которых мы страдаем, главное то, как мы их представляем себе. С этой точки зрения действие онирила поразительно. Он погружает вас в состояние блаженной беспечности, где вы живете только текущим мгновением и всякая мысль о грядущем вам абсолютно чужда.
В обычное время колесо времени не довольствуется тем, что оно вращается и увлекает вас в свой круговорот. Оно ко всему еще зубчатое, и вас одна за другой беспрерывно цепляют заботы. Ты не живешь. Без передышки ты крутишься все в тех же неизбывных страхах, все в тех же неизбывных наваждениях. Всю жизнь, за исключением ранней молодости, над чудовищным грузом нашего настоящего висит грядущее, хватает его и топит в своем водовороте.
Вот почему от онирила нам становится так легко. Благодаря ему у нас возникает ощущение – и ощущение это истинно, поскольку мы именно так и переживаем его, – что колесо остановилось и позволяет нам жить в настоящем, освободившись от этого вечного кружения, сводящего нас с ума.
Итак, отныне нам нет больше дела до часов и минут и нас не заботит, приближают ли они нас к тому исходу, который предрек всем нам Робби. Неумолимо лишь колесо. Избавившись от него, мы не чувствуем бега времени. Не чувствуем, как, зубец за зубцом чудовищной шестерни, надвигается на нас конец, которого мы так страшимся.
Время я измеряю теперь только мгновеньями, когда чувства мои проясняются. Может быть, множественное число, которое я употребил, звучит здесь слишком самонадеянно и тщеславно; может быть, миг, в котором сейчас я живу, будет в моей жизни последним – не знаю. Точно подростку, когда в нем бурлят жизненные силы, мне представляется, что у меня еще есть огромный запас неиспользованных возможностей. Мне безразлично, иллюзорно ли это чувство. Важно, что я испытываю его.
Сама, по собственному почину, без моих умоляющих взоров и безмолвных призывов, бортпроводница берет мою руку, и, к величайшей своей радости, я чувствую исходящее от нее тепло. Ее пальцы живут, они сплетаются с моими и, как раньше, приносят мне нежность и понимание. Я поворачиваю к ней голову. Я вновь узнаю ее зеленые, потемневшие от волнения глаза. Это как внезапно нахлынувшая волна. Я чувствую себя счастливым, счастливым сверх всяких пределов.
Зная, чего мне стоит любое усилие, она наклоняет ко мне голову, очень близко, почти касаясь меня, и я на одном дыхании говорю:
– Миссис Бойд видела, как вы под утро вели меня в хвост самолета. Значит, все это правда?
– Тсс, – шепчет она. – Не надо об этом. Нас слушают.
Я не знаю, кого она имеет в виду. Круг? Или Землю? Но эта подробность мне кажется мелочью по сравнению с терзающей меня неизвестностью. Я продолжаю:
– Скажите откровенно, вы меня любите?
Зеленые глаза снова темнеют, и она отвечает серьезно и смело, как будто заранее обдумала этот ответ:
– Мне кажется, что люблю.
– Когда вы будете уверены в этом?
– Когда мы расстанемся.
Новый материал для раздумий. И для новых сомнений. Но и то и другое я сейчас от себя отстраняю. Я спешу перейти к тому, что не терпит отлагательств.
– Этим утром вы были со мной как чужая. Почему?
Она еще больше приближает ко мне свою голову и тоже на одном дыхании говорит:
– Я находилась под влиянием Земли.
Я спрашиваю так же тихо:
– Она выбранила вас за эту ночь?
– Нет. У нее другая метода. Она дала мне понять, что мое чувство к вам не имеет будущего.
– Потому что остается так мало времени до моей высадки?
– Да.
– Но ведь в один прекрасный день вы и сами…
Я останавливаюсь. Как ни целомудрен эвфемизм, который я собирался употребить, у меня нет никакого желания прибегать даже к нему.
– Это несравнимые вещи, – говорит она, словно рассчитывает пережить меня не на несколько дней, а на многие годы.
Я слишком удивлен и, главное, слишком ее люблю, чтобы ей об этом сказать. Я предпочитаю, чтобы она прояснила еще один пункт, который мне непонятен.
– Что же в конечном счете представляет собою Земля, чтобы до такой степени влиять на ваши чувства? Кто это – Бог?
– О нет!
Она размышляет – с трепещущими ноздрями, серьезным выражением лица и детским ртом. Я обожаю ее такой. Мне безумно хочется стиснуть ее в объятиях. Но даже если предположить, что у меня хватит на это сил, – что скажет круг? И надо ли мне давать Земле лишний повод ее бранить, даже если это делается не впрямую?
Бортпроводница всплывает наконец из глубин своих мыслей на поверхность и с робостью, которая не очень, по-моему, вяжется с другими свойствами ее натуры, говорит:
– Я боюсь того суждения, которое Земля может обо мне составить.
Вот и все. Она ничего мне больше не скажет, я это чувствую. И я должен удовлетвориться ее ответами, как ни мало они удовлетворяют меня. Я обнаружил в ней сейчас целую зону, которая повергает меня в изумление. Испытывать такое трепетное уважение к мнению Земли! Это не укладывается у меня в голове! Почему, если речь идет о ней самой, не отстаивает она независимость собственных чувств?
Чтобы немного себя утешить, я говорю себе, что никогда невозможно до конца понять существо, которое любишь. Не то чтобы оно было для тебя более непроницаемо, чем другие. Просто о нем тебе хочется знать больше, чем о других.
Эта беседа утомила меня еще сильнее, чем разговор с Робби. Я знаю, что она была последней и что я не открою больше рта до самого конца. Но не следует думать, будто ощущение, что я навсегда онемел, огорчает меня. Вовсе нет.
С наступлением темноты бортпроводница дала мне вторую таблетку онирила. Как ни мала она, мне не сразу удалось ее проглотить. После чего бортпроводница приложила свои прохладные губы к моим, и я вступил в область сна, где все удивительно легко и приятно. Мое кресло откинуто до предела назад. Так как я жаловался на холод, бортпроводница положила мне на ноги одеяло Бушуа. И теперь мне хорошо. Мне кажется, что я плыву по теплому морю на надувном плоту спиною к движению. Небольшие волны, проходя под плотом, приподнимают меня, и я всем своим телом чувствую двойную ласку солнца и ветра. Хотя я на долгие минуты закрываю глаза – что позволяет окружающим думать, будто я сплю, – я отлично осознаю все, что происходит вокруг, и прекрасно все слышу. Среди прочих подробностей я замечаю, что круг не делает по поводу моего состояния тех комментариев, которые накануне он делал в связи с состоянием Бушуа. Должно быть, под воздействием онирила круг научился не верить словам. Он совершенно прав.
В моей нынешней эйфории особенное удовольствие доставляет мне чувство, что я очень дружески отношусь к кругу. Да, я их всех люблю, даже Христопулоса, несмотря на его ужасное прошлое. Я думаю о том, что ему придется много страдать и много потеть, этому бедному Христопулосу, когда настанет его черед. Он из тех примитивных людей, которые, когда их ведут на виселицу, громко протестуют, заверяя, что их нельзя вешать, поскольку они совершенно здоровы. Я смотрю на него. Ему слишком жарко. Он мечется. Он просто изжарился. Он уже сбросил с себя пиджак и жилетку, расстегнул воротник, но все не может решиться снять с себя желтый шелковый галстук, единственный предмет роскоши, оставшийся у него, после того как уплыли все его красивые кольца.
Под воздействием онирила и последних остатков тревоги, которых пока не удается развеять, пассажиры заметно расслабились. Пако тоже снял пиджак. Блаватский сидит в одной сорочке, без стеснения выставив напоказ сиреневые подтяжки. Мадам Эдмонд расстегнулась. Даже углубившийся в размышления Караман, прикрывая рукою глаза, исподтишка расстегнул под жилетом верхнюю пуговицу брюк. Одни только viudas по-прежнему соблюдают приличия. По крайней мере в одежде. Ибо миссис Бойд, с ее безупречными металлическими буклями на круглом маленьком черепе и с сумкой крокодиловой кожи, уютно примостившейся у нее на коленях, и неподвижно глядящая своим круглым глазом куда-то вперед (пустота глядит в пустоту), позволяет себе потихоньку пускать ветры – правда, совершенно без запаха, – которые она даже уже не пытается заглушать легким покашливаньем.
Что касается миссис Банистер, которая через полчаса после приема онирила сделалась очень словоохотливой, то сначала она вновь, чтобы доставить удовольствие миссис Бойд, воскресила радостную сцену своего прибытия в четырехзвездный мадрапурский отель. (Ибо мы все, кроме миссис Бойд и Мандзони, забыли, что она прибывает туда одна.) Затем, приступив к главе о первой горячей ванне, в которой она отмывает от дорожной грязи свое прелестное тело, она меняет собеседника, поворачивается к Мандзони, берет его руки, глядит ему пристально в глаза и отнюдь не целомудренно и не украдкой, как только что сделала бортпроводница, а со спокойной самоуверенностью наклоняется к итальянцу и впивается ему в губы.
Ах, разумеется, я ее не виню! Пусть поспешит! У меня для моей великой любви был один только день, пятнадцатое ноября. В те двадцать четыре часа, которые мне были отпущены и которые теперь близятся к своему концу, мне еще можно вместить столько десятилетий, сколько я сумею и успею за это время прожить. Часы, дни, пятилетия – какая, в сущности, разница по сравнению с миллионами лет, когда нас здесь больше не будет! Одного за другим всех нас высадят из самолета, всех, включая и бортпроводницу, хотя в наивности своей она полагает, что будущего у нее осталось намного больше, чем у меня. А меж тем у нее под глазами я заметил сеточку мелких морщин, как будто за двое суток этой двадцатилетней девочке уже исполнилось тридцать. Время, насколько я понимаю, сжимается в двух направлениях.
Я только что снова открыл глаза. Я вижу в иллюминаторе солнце, оно спустилось совсем уже низко над морем тех облаков, в которых я мечтал искупаться. В сущности, с той самой минуты, когда я вошел в самолет, я уже знал, что все закончится именно этим. И мне еще повезло. Благодаря бортпроводнице я с самого начала своего пребывания на борту выделял себе в кровь свой собственный онирил. Тревога любви больше чем наполовину заслонила от меня другую тревогу.
Я чувствую сплетенные с моими пальцами теплые пальцы бортпроводницы. По правде говоря, я чувствую их немного меньше. Но все та же глубокая нежность бьет во мне, как родник. Взаимность теперь для меня не так уж и важна. Уж это дела бортпроводницы, а не мои. Что же касается самой бортпроводницы, мне немного все-таки жаль, что из-за своего чрезмерного уважения к тому, что подумает о ней Земля, она должна будет дожидаться минуты, когда меня здесь больше не будет, чтобы узнать всю правду о собственных чувствах.
Сейчас я закрою глаза и из страха, что ничего уже не увижу, больше их не открою. Взгляд, который, прежде чем позволить моим векам упасть, я бросаю на бортпроводницу, уже немного затуманен, – это последний мой взгляд. Но я знаю ее черты наизусть. Я унесу с собою ее лицо как чудесный итог красоты этого мира.
Я прекрасно знаю, как все произойдет. Я не увижу, поскольку глаза у меня будут закрыты, как зажгутся световые табло по обе стороны входа в galley. Но я услышу – ибо слух у меня еще сохранится – суету пассажиров, пристегивающих ремни, уменьшение скорости, угрожающий свист тормозной системы. Я почувствую – поскольку я еще чувствую, хотя словно где-то вдали и как будто нечто уже едва уловимое, руку бортпроводницы, – почувствую тряску на посадочной полосе.
Я больше ничего не боюсь. Я уже нахожусь по другую сторону страха. Я навсегда излечился от тревоги. Гнусавый оглушительный голос, ничуть не пугая меня, произнесет со своей механической интонацией:
– Серджиус Владимир, вас ждут на земле.
Тогда бортпроводница отопрет exit и снова вернется ко мне, чтобы помочь подняться. Никто, я надеюсь, не решится на этот смехотворный жест – не будет совать мне в руку мою дорожную сумку. Я двинусь вперед, сначала поддерживаемый бортпроводницей, а потом, на пороге, сжав последний раз мою руку, она отпустит меня.
Я уже знаю, что холода я не почувствую.
3 ноября 1975 года








