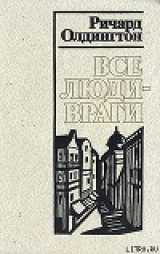
Текст книги "Все люди — враги"
Автор книги: Ричард Олдингтон
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 35 страниц)
Но как можно отказываться от ощущения, в особенности чувственного? И как бессмысленно подходить к чему бы то ни было с предвзятым: connu, connu [36] [36] Давно известно (фр.)
[Закрыть]. Пренебречь ощущениями, которые может вызвать Версаль, потому только, что все там бывали, равно непризнанию страстей Лира и Гамлета потому, что все о них читали.
Версаль и Париж – символы двух борющихся религий: с одной стороны, мистическая вера в человека-бога – в Фараона, который повелевает и владеет жизнью каждого, с другой – мистическая вера – богоносец, который не может заблуждаться, ибо глас его – глас божий, и устами его глаголет мудрость.
Всю историю можно рассматривать как непрестанную борьбу этих двух символов веры, как неразрешимый спор, непрекращающуюся, непримиримую тяжбу. Но ни одна из этих двух борющихся религий не может обойтись без другой – полная победа одной из них неизбежно ведет к застою и увяданию.
Что представляет собой народ без вдохновляющих его героев и что такое герои без народа, которому они призваны служить? Геркулес, если он не совершает подвигов для народа, такая же бессмыслица, как прерафаэлитский странствующий рыцарь.
Религия народа, которая привела к гибели Римскую империю, нашла свое воплощение в истории жизни и страданий человека-бога, а затем, чтобы уцелеть, вынуждена была создать иерархию с сенатом из князей церкви и венчанного тройной короной слугу слуг господних. Когда человек-бог – Александр, тогда весь народ становится героем, когда это Траян [37] [37] Траян (53 – 117) – римский император с 98 г. из династии Антонинов
[Закрыть] – народ обретает его спокойствие, и потомство называет годы его царствования золотым веком. Ну, а если это Гелиогабал или Людовик XV? Даже пламенная французская революция вещала устами Дантона [38] [38] Дантон Жорж Жак (1759 – 1794) – деятель Великой французской революции, один из вождей якобинцев
[Закрыть] и Робеспьера, а когда народ делает своими глашатаями Каррье, Фукье-Тенвиля… Бонапарта. Век с четвертью минул, а мы все еще тщимся выполнить заветы 1789 года. Но пламя погасло, и все воодушевление теперь сводится к грубым препирательствам из-за числа голосов, а Декларация прав человека выродилась в муниципализацию трамвайных линий, государственное страхование и тридцатишиллинговый минимум недельного заработка. Все выродилось, выдохлось, измельчало, везде застой, плесень. От них ждут, что они обновят мир, а они препираются из-за шиллингов и приходского колодца. Разрешите представить два столетия: с одной стороны – Дантон, с другой – мистер Сидней Вебб [39] [39] Вебб Сидней (1859 – 1947) – английский экономист, историк рабочего движения, идеолог тред-юнионизма
[Закрыть]!
Вышло так, что Маргарит не пожелала ехать в Версаль, все планы Тони показать ей самые интересные места потерпели крушение. Они отправились на пароходе в окрестности Сен-Клу и гуляли там в лесу.
Нельзя сказать, чтобы Энтони не мечтал об этой прогулке вдвоем с Маргарит, но это были совсем не те восторженные мечты, с которыми он ехал в Париж. Впервые в жизни он чувствовал себя смущенным, даже робким, в обществе другого человека. Он даже не был уверен в своих чувствах к Маргарит, хотя и сознавал, что образ ее в той или иной мере окрашивал каждое мгновение его жизни в Париже.
Он удивлялся тому, как непохоже было его отношение к Маргарит на его прежние чувства к Эвелин.
То было внезапное пробуждение глубоких неожиданных инстинктов и чувственных восприятий; они бессознательно, – ни он, ни она не подозревая об этом, – воскресили древний эллинский досвадебный обряд мальчика-любовника, так прекрасно описанный Каллимахом [40] [40] Каллимах (ок. 310 – ок. 240 до н. э.) – древнегреческий поэт
[Закрыть]. Отношение к Маргарит осложнялось застенчивостью и неуверенностью.
С Маргарит его страстное стремление раствориться в другом существе, жить только в нем и через него, осталось неосуществленным. Он с огорчением убедился, что, вероятно, никогда больше у него не будет таких ясных и чистых отношений, какие были с Эвелин. Но эту идиллию он пережил на рассвете жизни, в прекрасную светлую пору самой ранней юности.
Теперь все порывы и волнения усложнялись и искажались тем, что так неопределенно называлось «душой», и тяжеловесными, хотя, быть может, и необходимыми светскими правилами. Эвелин и он в полной невинности отведали пищи богов, но хотя они и были возлюбленными, они не были товарищами, поэтому в их отношениях не было никакого постоянства.
Постоянство! Какая иллюзия! Постоянство в жизни, похожей на радугу в бегущих тучах, такой же лучезарной, но и такой же мимолетной, как свет! Ему становилось смешно, когда он пытался представить себе отца Маргарит, важно допрашивавшего его, что он думает делать и на какие средства будет содержать семью – только не это, боже, только не это!
И все же, как страстно он жаждал общения с Маргарит, какое нежное чувство преданности вызывала она в нем, какую непривычную робость, от которой даже не пробуждалось желание прикоснуться к ней, а только хотелось существовать в ее присутствии, которое преображало весь мир в красоту, не оставляя места для скуки.
Все это мелькало в сознании Энтони не связным потоком мыслей, а обрывками переживаний и ощущений в то время, как они сидели рядом на покачивавшемся, но мягко скользившем пароходе. Тони, незаметно для себя поддавшийся влиянию Робина, был одет почти небрежно, допустив обычное для англичан нарушение приличий, а именно: позволил себе одеть в чужой столице твидовый костюм, которого не надел бы в Лондоне.
Маргарит была очень элегантна в белом платье, в красной шляпе и с красным зонтиком в руках, который делал ее несколько старше и как-то недоступнее в том смысле, что леди всегда кажется не простой смертной. Но она, против ожидания, была мила и очаровательна, давая ему понять, скорее всей своей манерой держаться, чем словами, что ее прежнее поведение было не преднамеренно, а навязано неписаными законами семейных и общественных приличий. Энтони не особенно старался все это анализировать. Он был слишком счастлив тем, что они снова понимают друг друга, тем, что ее оживление, случайные слова и взгляды говорили ему: ей хорошо с ним, оба они молоды, они вместе и это – высшее блаженство.
В то время как они медленно поднимались по зеленому склону, останавливаясь, чтобы поглядеть на фонтаны, бассейны и статуи, он рассказывал ей про Робина.
– Интересный субъект, – сказал Тони. – Сначала он показался мне просто одним из этих чудаков социалистов. Но он много пережил и не озлобился, как мой приятель Крэнг, школьный учитель. Его идеи сначала кажутся очень странными и бессмысленными, но в них есть последовательность. А его социализм – это, в сущности, высшая формула индивидуализма, и здесь мы с ним сходимся. Мы хотим раз навсегда покончить с этим элементарным вопросом борьбы за существование и перейти к настоящей человеческой жизни, к нашей собственной, личной.
Но самое замечательное в нем – его индивидуальность… А как можно описать чью-нибудь индивидуальность?
– Он вам очень нравится? – спросила Маргарит, с едва уловимой ноткой ревности в голосе, которой Энтони не заметил.
– Да, он мне нравится. Какой-нибудь журналист назвал бы его неотшлифованным алмазом. Он очень прямолинейный и, по нашим понятиям, даже грубоватый человек, но вполне искренний, и за этой его напускной грубостью скрывается подлинная отзывчивость. В гостиной он был бы просто смешон, но, когда чувствует себя в своей стихии, то прямо-таки зажигает вас. Он очень помог мне разобраться в самом себе.
– Я думаю, что вы можете обойтись и без посторонней помощи, – заявила Маргарит, и на этот раз Энтони уловил этот легкий оттенок ревности, который отнюдь не был ему неприятен. – Мне всегда казалось, что вы очень цельный, убежденный человек… И не пойдете ни на какие уступки.
– А зачем это нужно? Можно пойти на какие-то уступки, прежде чем вынести то или иное суждение, но если еще самому себе делать уступки, то очень скоро можно опуститься до посредственности. Посторонние люди помогают нам видеть себя со стороны, так же как мы чувствуем по-настоящему достоинства нашей страны только издалека, на чужбине. Я ощущаю себя здесь гораздо более англичанином, чем дома.
– Ну, мне кажется, вы уже немножко офранцузились, особенно с тех пор, как этот ваш новый знакомый заразил вас социализмом.
– А почему бы нет, Маргарит? Почему мне не поучиться у Робина? Почему мне не взять то, что может дать мне Франция? Неужели вы думаете, что это может изменить сущность моего «я»? Мы должны отдавать себя другим, если хотим что-нибудь получить от них. Справедливо ненавидеть то, что мы считаем дурным, но растем мы только с помощью того, что мы любим. Ненависть динамична, это меч божий.
Как могу я не ненавидеть грубого, злобного человека, если я знаю, что он угнетатель, что он всякими правдами и неправдами пробился к власти и пользуется этой властью, чтобы задушить всякую попытку сделать человеческую жизнь лучше и счастливее? Разве это социализм?
– Мне кажется, мы должны хотя бы стараться любить всех…
– Нет, нет! – перебил он горячо. – Мы можем относиться к людям хорошо, но это не значит любить. Любовь – это самое интимное, самое индивидуальное чувство. Это все равно, что цветок, который может быть отдан только кому-нибудь одному. Когда любишь, нужно отдавать всего себя и чувствовать, что тебя принимают, – а в любви принять все, может быть, еще труднее, чем все отдать. Мы знаем, что даем, но не знаем, что получим.
– Вы ужасно требовательны! – сказала она с принужденной улыбкой.
Они поднялись на откос и теперь шли узкой тропинкой в густой низкорослой чаще казавшейся бледной под тенью огромных деревьев, возвышавшихся на гребне холма. Энтони взял Маргарит за руку, и они остановились друг против друга на заросшей травой тропинке. И опять Энтони охватило странное чувство, словно он подчинялся какой-то посторонней силе, словно кто-то диктовал ему его слова и поступки.
Глаза его были устремлены на лицо Маргарит, и он скорее чувствовал, чем видел, блики света среди листвы, колебавшейся от легкого ветерка, и стаю воробьев, пролетавшую с пронзительным чириканьем вдоль длинной узкой дорожки.
– Маргарит! Я сейчас говорил вообще, но я знаю, что слова мои, в сущности, предназначались для вас. Маргарит, я никогда не ухаживал за вами, я просто любил и люблю вас. Я не заглядываю вперед. Я не могу и не хочу давать никаких обещаний.
Что значат слова? Я знаю только одно, сейчас я живу вами и только для вас.
Она не ответила, и Тони, сам не зная, как это случилось, обнял ее и прильнул губами к ее нежным губам, бессвязно шепча какие-то слова, которые даже в ту минуту казались ему бессмысленными, ничего не говорящими и в то же время единственно нужными. Но уже в следующее мгновение сознание его потонуло в ощущении бесконечного блаженства, не того солнечного золотого потока, который подхватывал его с Эвелин, но какого-то радужного восторга, в котором прикосновение терялось в смутном, непостижимом томлении. Он держал в объятиях не женщину, а любовь, не прелестное тело, а идеальную страсть. Когда-то он закрывал глаза, чтобы глубже почувствовать чудесное прикосновение Эвелин, теперь он закрывал их, чтобы уловить мечту, не подозревая, что в этой погоне за невозможным он упускает настоящее.
Маргарит первая заметила вдалеке приближающегося сторожа. Оторвавшись друг от друга, они молча пошли дальше. Маргарит пригладила волосы, приподняв шляпу, и поправила слегка измявшийся воротничок. Она раскраснелась, но казалась Тони удивительно хладнокровной и как будто крепко закованной в непроницаемую броню природного женского лицемерия. Можно было поклясться, что даже мысль о поцелуях и страстных словах не коснулась этой девической скромности. Он почти сомневался в собственных ощущениях, подсказывавших ему, что она не только принимала его поцелуи, но и возвращала их, не только слушала его бессвязный лепет, но и отвечала на него. Щеки его все еще пылали, сердце неистово билось, и все тело дрожало, когда они прошли мимо сторожа – он молча, Маргарит со спокойным «Bonjour» [41] [41] Добрый день (фр.)
[Закрыть] в ответ на: «Bonjour, 'sieur, 'dame!» [42] [42] Добрый день, мосье, мадам! (фр.)
[Закрыть].
Неужели она совсем не взволнована? Как только сторож исчез из виду, он снова поцеловал ее и осторожно прижал руку к ее сердцу. Оно билось часто, часто, так же, как и его собственное.
Энтони расстался с Маргарит у дверей ее отеля, не взяв с нее никаких обещаний, кроме того, что она постарается встретиться с ним на следующий день, чтобы поговорить обо всем. Никто из них, собственно, не знал, о чем именно им надо поговорить, но предполагалось, что если молодой человек и молодая девушка совершили невероятный, единственный в своем роде поступок – самозабвенно целовались в парке Сен-Клу, – значит, создалось положение, которое необходимо обсудить. Быть может, это благодатный дар свыше – способность влюбленных принимать себя всерьез, ибо никому другому этого и в голову не приходит.
Простившись с Маргарит, Энтони зашел в кафе и написал коротенькую записку Робину, извиняясь, что он не может с ним сегодня обедать, и занес записку к нему в отель. Затем он отправился бродить по улицам, удивляясь, как это можно чувствовать себя таким счастливым и как могут люди сердиться и быть чем-нибудь недовольны. Ему было очень жаль всех, и он сознавал, что не должен злоупотреблять тем, что он так неожиданно возвысился, сделавшись обладателем столь неисчерпаемого сокровища. Он подал нищему непомерно крупную милостыню, не подозревая, что тот поблагодарил его, бормоча себе под нос: «Вот олухи эти англичанишки, ну и олухи!» Звезды выступили на потускневшем небе, наполовину исчезая в зареве ярко освещенного города. Что могло быть прекраснее поздних сумерек в Париже с невидимой Маргарит рядом!
Ночью Энтони в полузабытьи снова и снова переживал, как какой-то долгий дивный сон, впечатления сегодняшнего дня и неясное, но сладостное предвкушение бесконечного множества грядущих дней, которые все будут, как этот, или еще чудеснее.
Из этого блаженного состояния его вывела сухопарая горничная, которая принесла ему кофе и большой круглый таз для умывания. Отпивая маленькими глотками кофе, он спрашивал себя, как сможет выдержать такое счастье, и в то же время думал, как проживет эти бесконечные часы до встречи с Маргарит. В дверь постучали, и горничная подала ему маленький сложенный вчетверо голубой бланк-телеграмму. Что это – привет от Маргарит, или она не может встретиться с ним сегодня днем? Он неумело разорвал телеграмму и прочел: «Мать тяжело пострадала катастрофе с экипажем, возвращайся немедленно Отец».
VIII
Обратное путешествие в Англию сопровождалось предчувствием неведомого несчастья. Оно было невыносимо тягостно и казалось бесконечным. Так как Энтони не медлил ни секунды, ему удалось попасть утренним поездом на первый отходивший пароход, и он даже успел дать телеграммы Маргарит и Робину. Он прекрасно понимал, что отец никогда не послал бы такой категорической телеграммы, если бы не было опасности и опасности такой, о которой он боялся даже думать. Он удивлялся своему спокойствию; было такое ощущение, точно он находится в сером безвоздушном пространстве и жизнь в нем вдруг сразу остановилась. Даже Маргарит казалась невероятно далекой. В Фолкстоне ему пришлось ждать местного поезда, который останавливался на каждой станции, затем часа полтора слоняться по платформе маленького разъезда и, наконец, ехать на лошадях семь миль до Вайн-Хауза.
После потрясения, которое он пережил, получив телеграмму, сердце его первый раз больно сжалось, когда он увидел, что дом погружен в темноту и никто не подошел отпереть парадную дверь, хотя стук колес был слышен в любой из передних комнат. Он расплатился с извозчиком и пошел кругом к черному ходу. В кухне тоже было темно; свет горел только в комнатах прислуги и в рабочем кабинете отца. Энтони с минуту постоял не двигаясь, чувствуя слабость и дурноту от тяжелого предчувствия, от усталости и голода, и в то же время его не покидало ощущение серости и отрешенности, как будто все это происходило с кем-то другим.
Он постучал тихонько, потом громче. Знакомый голос спросил испуганно:
– Кто там?
– Энтони. Впустите меня скорей, Мери.
Тот же голос в смятении крикнул:
– Джен, Джен! Мистер Энтони приехал! Боже, боже мой!
– Тише! – сердито сказал Энтони через дверь. – Впустите меня скорей и не шумите так.
Послышался скрип отодвигаемого засова, щелкнул ключ, и он очутился перед двумя заплаканными женщинами в серых фланелевых капотах; каждая держала в руке мигающую свечу. У него навсегда осталось в памяти, хотя он как будто и не заметил этого, красное, опухшее лицо кухарки и ее закрученные в папильотки волосы. Его встретили причитаниями, и ему были неприятны эти откровенные соболезнования и участие.
– Тише! Как мама?
– Скончалась, сэр! Ах, мистер Энтони, она умерла.
– Когда?
– Вчера, в четыре часа дня.
И это в то время, когда он был с Маргарит в Сен-Клу и не помнил себя от счастья!
– Так. Дайте мне свечу, Мери. Где отец?
– Наверху, у себя в кабинете, сэр. Он ничего не ел и не ложился спать с той минуты, как случилось несчастье. Заставьте его поесть. Не поставить ли ужин на стол?
– Нет, благодарю, Мери. Идите спать. Но не запирайте буфет, чтобы я мог достать ему что-нибудь.
Энтони три раза тихонько постучался в кабинет к отцу, но никто не ответил, и он осторожно приоткрыл дверь.
(Горела только настольная лампа под зеленым абажуром, и ее мягкий свет, всегда казавшийся Энтони таким мирным, сейчас представлялся мрачным и унылым. Когда он вошел, отец поднял глаза. Его бледное, бескровное лицо и остановившийся взгляд заставили Энтони похолодеть.
– Ты приехал, – сказал он, по-видимому просто для того, чтобы что-нибудь сказать.
Энтони задул свечу и осторожно поставил подсвечник на какую-то книгу. Он подошел к отцу, сел на подлокотник кресла, обнял его за плечи и обеими руками взял холодную, безжизненную руку.
– Мне сказали внизу, – промолвил Энтони тихо.
В комнате была глубокая тишина, нарушавшаяся только легким шипением лампы, которое смешивалось в ушах Энтони с шумом его собственной крови. Отец не шевелился и ничего не говорил. Энтони поймал себя на том, что машинально читает название какой-то книги на корешке и в то же время думает: «Неужели все это действительно происходит со мной, и я должен что-то сделать, чтобы заставить его лечь спать? Но что сказать ему?»
– Она… она велела что-нибудь передать мне?
– Она не приходила в себя.
Он почувствовал, как рука отца слегка стиснула его руку, и продолжал спрашивать:
– Как это случилось?
Оттолкнув руку Тони, отец порывисто встал.
– Не мучай меня вопросами! Иди спать и оставь меня одного.
Энтони тоже встал, бледный и с ощущением такой дурноты, что ему казалось, будто свет от лампы с яростным шипением надвигался прямо на него. Как бы то ни было, надо разбить это безмолвное отчаяние отца. Он сказал очень кротко:
– Не сердись на меня, папа. Я же ничего не знаю, кроме того, что было в твоей телеграмме, и внизу они мне успели сказать только несколько слов. Ведь она мне мать.
– Прости меня, Тони. Ну, пожалуйста, оставь меня теперь… Завтра…
– Можно мне пойти взглянуть на нее?
– Нет.
– Почему?
Лицо отца исказилось, но Тони не понял – от горя или от гнева.
– Потому что я велел сейчас же запаять гроб.
Энтони с содроганием понял, что она была изувечена. Он подавил слезы и сказал опять очень кротко:
– Я не могу уйти, пока не узнаю, что произошло.
Стиснув руки за спиной, Генри Кларендон прошелся несколько раз взад и вперед по комнате.
– Ты имеешь право знать, – сказал он наконец. – Она захотела поехать на новой лошади в шарабане, а грум плохо затянул подпругу. Одним словом, лошадь понесла, и экипаж разбился вдребезги о дерево. Фрэнсис умерла вчера днем. – Затем он добавил: – Кобылу пришлось застрелить. Бедное животное!
Энтони увидел слезы на глазах отца. Он достиг цели, хотя каждое слово вонзалось в него, как нож, причиняя невыносимую боль. Он быстро шагнул к отцу, обнял его и, поцеловав, прошептал:
– Ох, папа, папа! Что же мы будем теперь делать?
И вдруг с ужасом почувствовал, что все тело отца затряслось от рыданий и голова его уткнулась ему в плечо. Тони стоял неподвижно, крепко обняв отца и сжимая ему руку. Он уже не чувствовал себя посторонним и весь точно застыл. Голова мучительно болела. Он цеплялся за одну мысль, как будто только это и было важно, – заставить как-нибудь этого разбитого горем человека отдохнуть. Наконец после того, как прошла, казалось, целая вечность муки, рыдания прекратились, – это было так ужасно у мужчины, особенно у того, кто в его детском представлении был почти божеством. Энтони прошептал:
– Прости, отец. Я не хотел делать тебе больно.
Завтра, когда отдохнем, мы поговорим. А теперь пойдем спать.
Генри Кларендон слегка отодвинулся от него и покачал головой.
– Да, да, – настаивал Тони. – Ложись в моей комнате. Я лягу в другой, для гостей. Пойдем!
Он провел отца по коридору, держа в. свободной руке свечу, и посадил на кровать. При виде своей комнаты Тони почувствовал, как у него снова сжалось сердце, и ему стало мучительно больно при воспоминании о том, как он высокомерно вышвырнул когда-то обе картины Холмана Ханта. Он зажег еще две свечи.
– Подожди, – сказал он, – я сейчас вернусь.
Он спустился ощупью по лестнице, переступил через огромные колеблющиеся тени от свечи, не осмеливаясь взглянуть в сторону двери той комнаты, где находилось «это». Тони почувствовал слабый и страшный запах йодоформа, цветов и чего-то еще ему неизвестного, что заставило испуганно забиться его сердце. В кухне он нашел и откупорил бутылку кларета и залпом проглотил полстакана. Вино подбодрило Тони и прогнало мучительное ощущение холода и дурноты. Он нашел поднос и тарелку, положил ломтики холодного мяса и разорвал на куски цыпленка, так как пальцы его слишком дрожали, чтобы держать нож.
Он хотел съесть что-нибудь, но не смог. Положив один хлебец в карман, а два других на поднос и поставив туда же чистый стакан, вино и свечу, медленно поднялся по лестнице.
Отец сидел неподвижно на кровати, тупо уставившись в стену. Тони осторожно поставил поднос на маленький столик.
– Я немного поел внизу, а это принес тебе, если тебе тоже захочется. Не раздевайся, ложись прямо так. Ну вот. Я оставлю одну свечу зажженной, хорошо? Ну, покойной ночи.
Он нагнулся, поцеловал отца и почувствовал, как тот, сжав ему руку, прошептал:
– Милый мой мальчик.
Тони понял, что достиг цели.
В комнате для гостей (он выбрал ту комнату, которую никогда не занимала Эвелин) не было постельного белья, только серые полосатые одеяла.
Энтони не пошел за бельем, а застелил постель одеялами.








