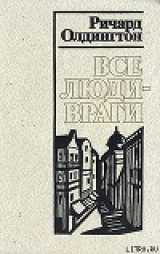
Текст книги "Все люди — враги"
Автор книги: Ричард Олдингтон
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 35 страниц)
А там можно будет сесть в поезд.
– Конечно. Идемте.
– Мне очень жаль, что все так вышло, – нерешительно промолвил Тони. – Мне, собственно, следует извиниться перед вами. Но я встречался с ним только до войны, и для меня все это было такой же неожиданностью, как и для вас.
– По-моему, вы прекрасно выдержали атаку, – мягко заметил Уотертон. – Я бы на вашем месте, наверно, взорвался. Мне жаль этого малого. Ведь он своего рода тоже жертва войны.
– Откровенно говоря, я просто потрясен. Ведь я считал его одним из своих немногих настоящих друзей. Он стал совершенно неузнаваем. Проклятая война! А вы хоть сколько-нибудь верите в то, что он говорил?
Уотертон пожал плечами.
– Что ж, это одна из многочисленных теорий, и, наверное, она привлекает тем, что так много сулит.
Меня она отталкивает, мне кажется, что она влечет за собой массу страданий и насилия во имя того, что, по-моему, может быть достигнуто и другими средствами.
– А я не мог отделаться от мысли, что как раз насилие и страдания его и привлекают. Он жаждет отомстить за себя, а не добиться счастья для народа.
– А это так всегда получается, когда люди отождествляют собственные чаяния с какими-либо политическими идеями. Мы все подвержены этой опасности.
Ну, а что касается народа, то разве вы и я не такая же часть народа, как и всякий другой?
– Да-а, – рассеянно протянул Тони.
Вечер был тихий, с реки доносились голоса и смех людей, катавшихся на лодках. Тони обратил внимание, как ярко под косыми лучами заходящего солнца выделялась чудесная золотистая зелень молодой листвы.
– Знаете, Уотертон, люди буквально помешались на политике и социологии. Это точно болезнь, вроде той мерзкой инфлюэнцы, которая прошлой зимой отправила на тот свет столько народу. Как будто в жизни, кроме спорта, не осталось ничего, о чем можно было бы судить иначе как с политической или социологической точки зрения. Это превратилось в какую-то религию, – я считаю, что, если всерьез верить во всемогущество государства, это действительно становится своего рода религией. Боже, как я ненавижу все эти политические секты. Вчера я обедал с Уолтером Картрайтом в его клубе. Он мне даже нравится, такой способный министерский работник, но, знаете, он добрую половину вечера распространялся о том, что сделают консерваторы для страны, когда выйдут из этой пресловутой коалиции.
– Это действительно скучно, – смеясь, заметил Уотертон. – Может быть, в этом отношении в армии лучше.
– О господи, там люди ни о чем не думают, но по крайней мере они хоть не ведут профессиональных разговоров. Мне осточертели эти политические споры.
Я охотно верю, что у всех этих людей самые благие намерения, но ведь не могут же они все быть правы.
И я не представляю себе, как можно достигнуть большей справедливости, мира и счастья на земле, если не прилагать усилий к тому, чтобы на свете было побольше мирных, справедливых и счастливых людей.
– Совершенно верно, но как это сделать?
– Не знаю. Во всяком случае, не путем классовой войны и не стараниями консервативной партии. Это может свершиться только с помощью отдельных людей. Но, ради бога, давайте поговорим о чем-нибудь другом.
Вечером Энтони скромно пообедал один в своей мастерской, потом сам вымыл и убрал посуду. Он хотел было пойти в Альгамбру, постоять и посмотреть часок балет, но потом решил остаться дома. Ему повысили недельный оклад до пяти фунтов стерлингов, потому что, как он пояснил отцу, другие работают еще хуже. Но жизнь была страшно дорога, и он по-прежнему – твердо держался своего решения не трогать денег, отложенных на поездку в Австрию. Решив остаться дома, он закурил трубку и сел читать Тристрама Шенди [63] [63] Герой романа английского писателя Лоренса Стерна (1713 – 1768) «Жизнь-и мнения Тристрама Шенди»
[Закрыть]. Но, как это с ним часто случалось, мысли его незаметно перешли от книги к действительности.
Воспоминание о встрече с Робином причиняло ему острую душевную боль. Утрачен еще один старый друг, обрублен еще один корень, а он так рассчитывал на Робина. Утрачен, утрачен и этот. Он с горечью подумал, что если бы ему когда-нибудь пришла в голову глупая мысль обзавестись гербом, он избрал бы себе девизом слово «Утрачен». Ему казалось, что он прекрасно подытоживает его жизнь. Обвинение Робина, что он изменил делу, ничуть не огорчило его.
К черту эти их «дела»! Важно, в сущности, одно – врожденная человеческая честность. Уж если на то пошло, то по-настоящему изменником оказался Робин, он позволил своему чувству обиды ожесточить себя и, подчинившись жестокой тирании реформаторских идей, отказался от подлинного искания, от поисков настоящего счастья, полноты жизни, поэзии бытия. Какая бессмыслица эта жажда возвести всех в боговдохновенных законодателей, в строителей идеальной жизни для всех! Какая потрясающая наглость! Не философы становятся властителями, а какой-нибудь Том, Дик и Робин распоряжаются всем миром, исходя из своих понятий о порядке и совершенстве. Заметь себе: никогда не пытайся сделать других тем, чем тебе не удалось стать самому.
Между прочим, и в писании сказано: «Не противьтесь злу».
Тут Тони задумался, так как сам он был весьма.
склонен противиться злу и его раздражало, что зло продолжает существовать, тогда как уничтожить его, казалось бы, так просто. Не противьтесь злу! Иными словами, пусть каждый поступает честно и порядочно, и зло само собой исчезнет. Исчезнет ли? Ну, во всяком случае, ведь не я создал мир. Он вспомнил, как говорил с Уотергоном о своем нежелании стать частью индустриальной машины. Ему пришло в голову, что, если он из чувства сострадания и товарищеской солидарности согласился стать частью военной машины, то должен бы из тех же соображений стать частью и индустриальной машины. Ведь там вербовка идет уже с давних времен и война длится беспрерывно. Если верно, что люди, не принимавшие участия в войне, извлекали выгоду из труда и лишений солдат, то еще более верно, что те, кому удалось избежать ига индустриальной машины, извлекают выгоду из труда и страданий других. Ему стало как-то не по себе от этой дилеммы, которую он сам себе создал.
Аналогия казалась полной, даже если было еще далеко не доказано, что убежденный противник индустриализма считается не менее опасным, чем убежденный противник войны. Впрочем, на него это не распространялось, – наследства, которое он получит от отца, хватит на то, чтобы избавить его от обязательной службы.
Энтони медленно шагал взад и вперед по комнате, снова и снова набивая трубку и продолжая раздумывать. Или, вернее, он старался отодвинуть эту проблему в глубь своего сознания, зная, что она потом снова всплывет. О военной службе ему, собственно, нечего было и думать, это дело прошлого, и он давно решил, что больше никогда служить не будет, и мог себе это теперь позволить с чистой совестью. Но вот другой вопрос серьезно беспокоил его. Если Робин добьется диктатуры пролетариата и будет введен принудительный труд, он всем существом своим чувствовал, что либо попытается сбежать за границу, либо, если это не удастся, предпочтет быть расстрелянным, чем дать себя поработить. Он долго ходил по комнате, потом вернулся к своему креслу, и все еще одолеваемый роем каких-то неотчетливых мыслей и смутных ощущений, вынул большой блокнот и стал писать:
«Дорогая Кэти, я не получил ответа на свое последнее письмо, и сейчас, вероятно, тоже пишу впустую. Больше я не буду писать, если ты не ответишь. К чему доставлять развлечение почтовым цензорам?
Я по-прежнему в Лондоне, все еще стараюсь достать паспорт и все так же безуспешно. Предполагают, что Мирный договор будет на днях подписан, и я искренне надеюсь, что это приведет к здравому образу мыслей и к приличной жизни. Все эти последние годы были сплошным мучением, и у вас, вероятно, было еще хуже, чем у нас. Когда мы с тобой увидимся, – только бы это случилось! – я чувствую, что мне придется просить у тебя прощения за эту чудовищную блокаду. А ведь затеяли ее те самые люди, которые больше всех кричали, что позорно вести войну против женщин и детей!
Недавно я познакомился с одним довольно ответственным министерским работником. Он еще совсем молод, но занимал слишком важный пост, чтобы быть призванным в армию. Его зовут Уолтер Картрайт, и он считает Британскою империю божественным проявлением наивысшей мудрости, а гражданскую службу – мозгом империи. Я не спорю с ним, а только слушаю. Я стал терпеливым, дорогая Кэти, и даже, как тебе может показаться, несколько склонным к лицемерию. Во всяком случае, я постараюсь использовать Картрайта и раздобыть через него паспорт, необходимые разрешения и визы, словом, все, что требуется. Мне неприятно это делать, особенно потому, что меня познакомила с ним Маргарит, но для меня все еще продолжается война. Война между мной и моим драгоценным отечеством за мою свободу и счастье и за твое тоже, надеюсь.
На днях у меня с Маргарит произошла мучительная сцена, она очень расстроила меня и вызвала у меня подозрение (может быть, и несправедливое), что Маргарит хотела заставить меня сделать ей ребенка.
Понимаешь, какая вышла бы неприятная и сложная история? Во всяком случае, если у нее и был такой план, он не удался. После этого я видел ее только раз, да и то на людях; она держалась с вежливым безразличием. Все это так противно.
Ты помнишь Робина? Я тебе рассказывал о нем на Эа – это тот молодой человек, который был со мною в Риме. Я встретился с ним сегодня впервые после войны. Он напал на меня, может быть, и справедливо, за то, что я не отказался идти в солдаты, а также за то, что не разделяю его революционных замыслов. Все это было очень тяжело, я был к нему когда-то очень привязан. Но меня просто тошнит от всех этих планов наделить людей по уставу предписанным счастьем. Хватит с меня всяких предписаний и уставов, я сыт ими по горло, теперь я прошу только одного – оставьте меня, ради бога, в покое.
Как бы мне хотелось узнать хоть что-нибудь о тебе. Смешно говорить о своих надеждах куда-то в пространство, а ведь я ничего, абсолютно ничего о тебе не знаю. Если ты каким-нибудь чудом получишь это письмо, напиши мне хоть что-нибудь о себе, а главное сообщи, где я могу тебя найти. Я приеду, как только это будет в моих силах.
Кэти, дорогая! Это письмо почти наверняка будут читать цензоры, поэтому мне больше нечего добавить, скажу только, что я ничего не забыл и по-прежнему живу воспоминанием о наших днях на Эа. Всегда, всегда твой
Тони».
Заклеив конверт, Тони коротко и ясно написал Уолтеру Картрайту, рассказав ему обо всех своих попытках получить паспорт и визу на въезд в Австрию и прося его о содействии.
Он наклеил марки на оба письма и, перед тем как лечь спать, пошел опустить их в почтовый ящик. На обратном пути Тони задержался ненадолго в большом сквере, засаженном деревьями, неподалеку от своей улицы. Обнесенный оградой сад казался сумрачным и таинственным, молодые листья мягко шелестели на ветру. Отдаленный гул уличного движения напоминал шум большого водопада, едва доносившийся издалека, и Тони чувствовал на себе целительное действие тишины и темноты. Он сидел в сквере, пока из-за угла не показалась какая-то шумная компания пьяных мужчин и женщин, спугнувшая таинственную тишину грубыми возгласами и громким истерическим хохотом.
VI
В день официального объявления мира Тони после обеда вышел на улицу без всякой определенной цели, но с каким-то смутным ощущением, что каждому следует присутствовать на праздновании исторических событий. Он был лишен возможности принять участие в торжественной манифестации в тот вечер, когда праздновалось перемирие, но от Маргарит и многих других слышал, что было по-настоящему весело. Тони очень хотелось побыть на людях и повеселиться со всеми вместе.
Он пошел по направлению к Трафальгар-скверу, неизменному центру всевозможных выступлений в знаменательные моменты жизни страны, но на боковых улицах не заметил ничего особенного, только движение прекратилось. Выйдя на одну из центральных улиц, он остановился. С востока на запад двигался непрерывный поток темных, безмолвных фигур, – молча, без смеха, двигались они по плохо освещенной улице, как темная бесшумная вода. Минута проходила за минутой, а Тони все стоял и смотрел на этот бесконечный поток темных людских фигур, проходивших мимо него в полном порядке, в полкой тишине, зловещих, как сама смерть. От них веяло гнетущей безнадежностью бесцельно собравшейся толпы. Они тоже пришли принять участие в непринужденном веселье, а его-то и не было. Людские волны все прибывали и прибывали, бесшумно, без всякого оживления, всегда сопровождающего демонстрации, они просто вливались в поток; это было поистине страшное, душу леденящее зрелище. Никаких звуков, только топот и шарканье подошв да отдаленные автомобильные гудки.
Тони нехотя присоединился к этому мрачному триумфальному шествию, и его тотчас же охватило гнетущее чувство плена, которое неизменно возникает у человека, стиснутого со всех сторон безликой массой.
– Запах толпы навел его на мысль о том, что мыла все еще не хватает. Не без труда добрался он, наконец, до Пикадилли. Здесь толпа была гуще и несколько оживленнее, тут было больше света, и Тони заметил несколько такси, набитых молодыми мужчинами и женщинами, которые явно пытались создать непринужденное веселье. По-видимому, они надеялись достигнуть этого при помощи северного Вакха, который не украшает своих волос виноградными листьями.
Тони некоторое время с надеждой наблюдал за ними, пока чей-то огромный сапог не опустился довольно-таки свирепо ему на ногу, а маленький, вероятно женский, и, несомненно, острый локоть не угодил ему прямо под ложечку. Он с трудом выбрался из толпы и темными переулками направился домой. На одном из перекрестков Тони снова увидел темный людской поток, все еще двигавшийся на запад. Подходя к своему дому, он чуть не налетел на углу на какого-то юношу лет восемнадцати. Юноша поддерживал очень хорошенькую девушку, которой вряд ли было больше шестнадцати. Одной рукой она ухватилась за железную решетку, за другую ее держал юноша, непрерывно повторявший:
– Ну, перестань дурить, Лиль, перестань дурить.
Девушку сильно рвало, и она стонала.
– Перестань дурить, Лиль!
Тони, незамеченный, наблюдал за ними, раздумывая, следует ли ему вмешаться или позвать кого-нибудь на помощь.
Девушка как будто несколько оправилась и заговорила хныкающим голосом:
– Зачем ты заставлял меня пить столько джина, Берт?
– Ах, перестань дурить, – раздалось в ответ.
Тони пошел дальше – ясно, оба очень пьяны.
Грустно было все это.
В конце августа Тони получил двухнедельный отпуск. Он не знал, что с ним делать. Он предполагал использовать отпускное время на поездку в Австрию, но паспорт до сих пор не был получен. Уолтер Картрайт не слишком-то обнадежил его и дал понять, что это поручение не очень для него приятно; однако он обещал сделать все, что может, хотя и не преминул заметить, что министерскому служащему «не полагается» обращаться с личной просьбой к работнику другого министерства. Тони и сам знал, что делать что-либо из простых человеческих побуждений официально «не полагается». Между тем надо было решить, как же быть с этим двухнедельным «отдыхом», ведь Тони, в сущности, нечего было делать в Англии.
Он уже почти решил остаться в Лондоне, когда получил приглашение погостить на даче у Маргарит, которая жила с семьей в окрестностях Стадленд-Бэй.
Тони долго думал над этим, сидя в кресле у себя в мастерской и покуривая трубку. Он бывал в Стадленде во время войны, когда проходил подготовку в артиллерийской школе по ту сторону Борнмута, он объездил всю эту часть побережья на велосипеде. Маргарит знала, что ему эта местность нравится. Но перспектива провести две недели в семье Маргарит… Тони хорошо представлял себе наигранную веселость и неподдельную скуку английских утренних завтраков с неизменной печенкой, ежедневную игру в теннис, чаепитие в белых костюмах в саду и домашние концерты. Согласиться на эту почти семейную жизнь с Маргарит, не означало ли это почти официально признать себя ее женихом? Инстинкт Тони мешал ему принять это приглашение, но в то же время мысль о Дорсетшире соблазняла его.
Он все еще курил трубку, раздумывая над письмом, когда в дверь постучали и вошел отец. Тони радостно встретил его, усадил в самое удобное кресло и предложил виски с содовой.
– Мне очень не нравится, что ты живешь в таком нездоровом помещении, – сказал Генри Кларендон, с неодобрением оглядывая мастерскую.
– Мне тоже. Но ведь другого нет.
– И ты все еще намерен провести свой отпуск в этой мрачной комнате без окон? Ты делаешь большую ошибку, мой мальчик. Тебе нужно стряхнуть с себя эту апатию, заняться спортом, пожить на свежем воздухе.
– Я тоже так думаю, – сказал Тони, решив не говорить о полученном приглашении и подозревая, что отец пришел к нему по наущению Маргарит. – Но в наше время свежий воздух и спорт стоят дорого, рак и все прочее.
– Но ведь тебя, кажется, приглашали погостить в Стадленде? – спросил Генри Кларендон, совершенно неспособный что-нибудь утаивать.
– Да, приглашали, – совершенно равнодушно отвечал Тони.
– Ну и что же, ты поедешь? Нет? Мне бы очень хотелось, чтобы ты поехал, хотя бы ради меня. Меня серьезно беспокоит, что ты сидишь и хандришь здесь в одиночестве.
– Очень мило с твоей стороны, отец, но у меня нет подходящих костюмов для такого общества. Я буду чувствовать себя неловко.
– На пляже можно ходить в чем угодно.
– Да? Прости, пожалуйста, папа, но, мне кажется, ты слишком поглощен наукой, чтобы обращать внимание на подобные вещи. «Ходить в чем угодно», когда гостишь на английской приморской вилле, носящей скромное название коттеджа, это значит иметь на каждый день чистый белый фланелевый костюм, темный костюм в дождливую погоду и смокинг вечером.
– Ну что ж, смокинг у тебя есть, а фланелевый костюм можно хоть завтра купить.
– Очень великодушно с твоей стороны. Принимаю костюм с благодарностью, но есть еще одно препятствие – ее семья.
– Семья? Не понимаю…
– Я ничего не имею против отца Маргарит, – продолжал Тони, – хотя под этой милой маской добродушия скрывается совершенно пустой и фальшивый человек. Типичный англичанин-делец. А вот мать Маргарит – ты ее хорошо знаешь? – это одна из тех рослых, музыкально одаренных, голосистых женщин, которые меня всегда пугают. Она играет Шопена, точно командует ротой на учении. Какая выправка, какой внушительный бюст! Она и не за роялем напоминает мне полкового капельмейстера. Даже когда она просто разговаривает, это похоже на духовой оркестр в парке, так все отчетливо, звонко. Нет, правда, отец, это кого хочешь испугает.
– Да ну, будет тебе, – смеясь, сказал Генри Кларендон, – я думаю, что уж две-то недели ты ее как-нибудь вытерпишь. Ты же знаешь женщин.
– Ты думаешь? Ну, допустим, знаю. Да только радости в этом мало.
– Тебе же не придется проводить много времени в ее обществе. Гуляй больше на воздухе с Маргарит и ее друзьями.
– А вдруг зарядят дожди? Ведь такое иногда случается в Англии. А теннис? А неизбежные партии в гольф с неотвязными спортсменами в галстуках бабочкой? И я знаю, что мне придется ходить на рыбную ловлю. Чувствую это.
– По-моему, это прекрасный отдых.
– Только не для меня. Да и не для тебя, уверен.
Нет, отец, я просто не в состоянии жить у них. Но, знаешь, – Тони вдруг осенило, – вот что я сделаю. Я поселюсь в одном из маленьких коттеджей в Корфе, а когда захочется, буду приезжать к ним на велосипеде.
– Это, пожалуй, покажется странным и как-то нетактично получится.
– Ну, тут уж я ничего не могу поделать, все-таки это будет менее бестактно, чем гостить у них, постоянно испытывая чувство стеснения. Я притворяться не умею и в один прекрасный день не сдержусь и скажу им все, что о них думаю.
Генри Кларендон пытался уговорить сына, но Тони остался непоколебим.
В то время наплыв дачников был еще не так велик, – он принял гораздо большие размеры лишь год спустя, и Тони без труда нашел комнату с пансионом у плотника, жившего вдвоем с женой. Тони они оба очень понравились, особенно хозяин, высокий смуглый мужчина, который всю жизнь трудился не покладая рук и презирал всяких социалистов с их социалистическими законопроектами. Иногда по вечерам Тони сидел с ними в кухоньке, и они разговаривали о войне, о сыне плотника, все еще не демобилизованном из экспедиционных войск, орудующих на Востоке, и о всяких новостях. Консервативные взгляды плотника были весьма ограничены и предвзяты, но Тони нравилась его независимость и то, что он никогда не слышал от него никакого ворчания и жалоб на то, как трудно приходится рабочему человеку, – он вдоволь наслушался всего этого в армии от своих товарищей однополчан. Ему казалось, что этот плотник принадлежал к той же породе, что и старый Скроп, – породе, обреченной на вымирание, – массовое, стандартное производство скоро вытеснит с рынка и его самого и его кустарное ремесло. А жаль! Уже и сейчас плотник с трудом сводил концы с концами и не представлял себе, что же будет дальше. Он работал, не щадя себя, жил скромно, готов был и впредь так же трудиться и не мог понять, почему его заработок из года в год падает. Он винил в этом политику и агитаторов, не понимая, что его судьба является результатом сдвига громадных экономических сил, совершенно не зависящих от политики, и что ненавистные ему агитаторы – это нередко те самые люди, которые стремятся обуздать эти силы и направить их к более гуманным целям. Объяснять ему все это было бесполезно, и Тони не оставалось ничего другого, как сочувственно слушать и жалеть его.
Тони жил очень тихо, но не был подавлен, он много гулял и читал и иногда ездил на велосипеде в Стадленд, оставаясь там на полдня. Случалось, на него нападала беспричинная тоска, и он часами сидел, задумавшись, среди беловато-серых развалин громадного замка. Временами его охватывало острое нервное беспокойство, и тогда он срывался с места так стремительно, точно убегал от самого себя, и часами шагал, не останавливаясь, пока не выбивался из сил. Но спал он хорошо, и в течение этих двух недель его по ночам ни разу не мучили страшные кошмары, заставлявшие прежде бояться даже самого сна. В более спокойные минуты он часто думал о Кэти и Маргарит и о странном переплетении обстоятельств, приведшем его к этому неопределенному метанию между двумя женщинами, из которых одна стала теперь уже почти мечтой, а другая – увы! – слишком близкой. Он чувствовал себя в положении буриданова осла, умиравшего с голоду между двумя охапками сена.
Это была своего рода дилемма, со стороны казавшаяся чрезвычайно простой, но для человека, которому необходимо решать ее, сложная, как мироздание.
Здравый смысл говорил: «Выбери ту, которая тебе нужна, и иди за ней». Вот именно, которая ему нужна. И если это почти наверняка Кэти, то как, черт возьми, может он «идти за ней» без паспорта? Уже не говоря о прочих препятствиях, – о том, что он рассердит отца и рискует лишиться наследства. Не то чтобы он не был готов поставить все на карту, но все это усложняло положение. Ему как-то пришло в голову, что по традиции, установленной романистами викторианской эпохи, весь этот конфликт был бы разрешен чрезвычайно просто и быстро. Кэти оказалась бы развратной иностранной авантюристкой, завлекшей в свои сети неопытного молодого англичанина, и была бы благополучно предоставлена своей собственной жалкой судьбе, а он загладил бы свою вину перед невинной девушкой англичанкой, скоропалительно вступив с ней в брак. Единственное затруднение заключалось в том, что все эти предпосылки к развязке в викторианском духе были совершенно неприемлемы для Тони. Так что пользы от этой идеи все равно не было никакой.
Одно несомненно, и от этого он никуда не мог уйти, – то, что его отношения с Маргарит никогда не были такими, как бы ему хотелось, в них не было чувства полной свободы, полного самозабвения, которое он переживал с Кэти. Маргарит никогда не была ему товарищем, каким была Кэти. В тысяче всевозможных мелочей, вкусов и ощущений, из которых складывается повседневная жизнь, Маргарит и он постоянно расходились. Он вовсе не хотел, чтобы она во всем соглашалась с ним или была его точным отражением. Напротив! Но, когда он и Кэти расходились во мнениях, Тони всегда чувствовал, что она понимает его и считается с его точкой зрения. Ее суждение всегда шло параллельно его собственному, тогда как Маргарит либо вовсе не понимала, что у него может быть какая-то своя точка зрения, либо рассуждала с какой-то слепой предвзятостью. Другими словами, Маргарит жила обычными мелкобуржуазными ценностями, а Кэти – нет. Правда, он заблуждался, считая Маргарит бесчувственной, но инстинкт подсказывал ему, что она пользовалась своим телом, подавляя и пытаясь сломить его волю, а не стремясь обогатить их расцветающее чувство. Как не похоже все это на то, что было с Кэти! С ней он никогда не испытывал amari aliquid [64] [64] Никакой горечи (лат.)
[Закрыть], никаких подозрений или разочарования. И все-таки он иногда спрашивал себя, вполне ли справедливо это сравнение. Он прожил с Кэти несколько недель в самую счастливую, самую полную пору своей жизни, среди чудесной природы, в солнечном краю, и сквозь зубчатые стены развалин замка перед ним вдруг вспыхивала яркая синева безоблачного неба, вставали рощи земляничных и оливковых деревьев, величественный купол горы и глубокое безмятежное небо, обнимавшее Эа. Маргарит была неразрывно связана с угрюмым одиночеством Лондона, с гнетом и ужасами войны. Он спрашивал себя, не любит ли он свою мечту о Кэти, которая теперь мерещится ему сквозь весь этот мрак военных лет в безбрежной дали счастливого светлого края юности и любви.
Однажды он сидел, как всегда обуреваемый этими мыслями и тысячью им подобных, одинаково мучительных и неразрешимых, охваченный смутной тоской ожидания. Ему казалось, что вся его жизнь превратилась в сплошное ожидание. Все остальное бессмысленно и нереально, как объявления на станциях, которые читаешь, чтобы скоротать время до прихода поезда. Как бы ни изнемогал он от этого мучительного хаоса чувств, он должен ждать, ждать, пока властители мира милостиво соблаговолят разрешить смиренному англичанину отправиться на поиски своей возлюбленной, в которой он по какой-то странной прихоти, изволите ли видеть, нуждается. А пока великие мира лишь разглагольствуют о том, как много они делают для всеобщего счастья. «В нашей маленькой жизни, – прошептал Тени, – на что нам все эти громкие слова?» Он почувствовал, как вся кровь бросилась ему в голову от внезапно охватившей его ярости против всей этой идиотской алчности, тупости и подлости, сжигающих мир, подобно гигантским огнеметам. К черту правительства, парламенты, королей промышленности, первенство в торговле, красные флаги, полосатые флаги, пятнистые флаги – к черту их всех.
На карту поставлена наша национальная честь, Ну и что же – кому какое до нее дело? Вечно одни и те же фразы…
Он засмеялся и закурил трубку, глядя на овец, пощипывающих мягкую траву и, по-видимому, пребывающих в полном неведении о том, что мир полон мясников.
Когда Тони не одолевали эти мучительные мысли, он с наслаждением гулял и впервые за много лет начал снова ощущать неизъяснимую радость от одиночества и красоты природы. Ему нравилась широкая, болотистая, поросшая вереском равнина, расстилавшаяся к северу и востоку от Найн-Барроу-Даун, пучки жестких трав в коричневой болотной воде, белая пушица и кусты мягкой синей генцианы, которую он никогда не видел дико растущей. Он подолгу задерживался в деревнях, особенно в Уэрт-Малтрэверс, которая сохранила отпечаток глубокой первобытной старины, заглядывал в старинную часовню в Сент-Алделмс и особенно любил длинную, поросшую по бокам ежевикой тропинку, пересекавшую Уорбарроу-Даун, откуда открывался бесконечный простор моря и пляжа. Его ледяная апатия начинала понемногу оттаивать от соприкосновения с ласковой красотой этого края, обреченного, как он знал, в более или менее недалеком будущем на эксплуатацию, но сейчас еще сохранявшего свое благородное достоинство; это была земля, на которой прожило не одно поколение людей, сжившихся с ней, земля, не подвергшаяся насилию, не разграбленная.
Бараки большого пехотного лагеря в Уорхеме и танковых частей к югу от Вула были несомненными признаками неминуемо надвигающегося разорения и обезличивания. «Да, неминуемо, – думал Тони. – Как легко мы миримся с уничтожением самого главного в жизни, незаменимого, и как мало мы думаем об этом!
Но не надо никакой искусственной охраны, никакой самодовольной опеки над красотой. Пусть все идет своим путем. Пусть проходят танки и расчищают место для стандартных бараков! Если можно мириться с тем, что люди тычутся в слепоте и только стараются выжать побольше денег в этом машинном мире, то вздыхать об исчезновении» красивых уголков»– просто слезливое лицемерие.
Примерно через день Тони ездил на велосипеде в Стадленд. Он чувствовал, что старшие члены семьи отнюдь не огорчены тем, что он не гостит у них в доме. Инстинкт его не обманул. Обособленная бесцельная жизнь семьи, живущей на даче, удручала его и напоминала ужасающее «ничегонеделание» английского воскресного дня. Это была растительная жизнь a rebours [65] [65] Наоборот
[Закрыть], ослабление, а не восстановление жизненных сил. Насколько это было возможно, они перенесли с собой в деревню все свои городские привычки, вплоть до граммофона и бриджа, – даже большая часть провизии доставлялась из Лондона. Купание было чем-то вроде «ванны», а не физическим наслаждением, которое испытываешь плавая в море. Тони поражала убогость жизни в этом богатом доме, где все так изнемогали от скуки, что даже его приезд являлся развлечением. Эти люди были похожи на глупых детей, которым нужно множество сложных и дорогих игрушек. Тони предпочитал свое собственное горькое существование, он по крайней мере хоть огорчался, страдал.
Маргарит бродила с видом полного безразличия и выглядела в белом платье девически непорочной.
Он был рад, что, благодаря присутствию посторонних, всякая близость между ними была почти невозможна, и не прилагал никаких стараний, чтобы остаться с ней наедине. Отношение родителей к нему было нейтральным – Тони считался «другом детей». Он, спрашивал себя, известно ли им, и в какой мере, о трагическом конфликте между ним и Маргарит. Во всяком случае, они не делали ни малейших попыток свести их. Да в конце концов и сам Тони благодушно признавал – не такая уж он блестящая партия для Маргарит. Он уже стал подумывать, что, может быть, она примирилась с ролью «нежного друга», которую сначала отвергла с таким негодованием. Но несколько раз Тони случайно поймал на себе ее взгляд, горевший затаенным огнем собственничества. У него мелькнула мысль, что он вел себя в отношении Маргарит в высшей степени наивно – чередование нежности и отчужденности, его приверженность к Кэти, – чувство, которое он не в состоянии был скрыть, – все это, конечно, должно было способствовать тому, чтобы простой эпизод военного времени с когда-то влюбленным в нее мальчиком превратился в пламенную страсть. Но теперь уже поздно было вести себя по-другому. А кроме того, Тони знал, что он все равно не сумел бы долго притворяться.








