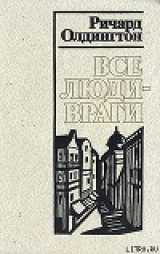
Текст книги "Все люди — враги"
Автор книги: Ричард Олдингтон
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 35 страниц)
– Для вас земля – это площадка для игр, как и для большинства богатых людей, – сказал как-то Крэнг Тони. – Если бы деревня была для вас источником существования, вы бы поняли, какая это горькая и жестокая штука. У вашего отца около двадцати акров, которые он превратил в роскошный парк и, – добавил Стивен с презрением, – в «Заповедник для птиц», для разведения всякой пернатой нечисти, разоряющей чужие поля. Если бы у него было двести акров, неужели вы думаете, что он мог бы жить на доходы с них?
– Я не думаю, – ответил Энтони с некоторым неудовольствием. – Вы же знаете, он не фермер. Но я не замечал, чтобы арендаторы мистера Скропа считали свою землю горькой и жестокой.
– Ох, уж этот старый набоб! У него три тысячи акров, но и они тоже возделываются ради удовольствия. Он назначает низкую аренду и следит, чтобы у арендаторов все было в порядке; с этим я согласен.
Но средства он получает не от земли; у него есть другие доходы, и каково бы ни было их происхождение, его деньги добываются для него прямо или косвенно промышленными рабочими. Он возится со своей землей, как с игрушкой.
Тони с сожалением должен был признать, что это, по крайней мере частичная правда. Он вздохнул.
Они сидели в маленькой комнате Крэнга, все стены которой были увешаны простыми сосновыми полками с книгами; книги лежали на столе, на стульях, были свалены кучами на полу. Тони прочел несколько названий на корешках: Ницше, «Индустриальная революция», «Денежная теория», Ибсен, «Капитал» Карла Маркса, «Насилие» Сореля, «К демократии», Макс Штирнер, Дэркгейм, Брандес, Жорес, Рассел. Большинство из них ему ничего не говорило. Он снова вздохнул, смиренно размышляя о своем невежестве и откровенно признавая, что. Крэнг гораздо более начитан, чем он. Но не только ли это начитанность? Разве можно назвать Крэнга действительно образованным человеком? Книги посеяли в нем неудовлетворенность, но хотя бескорыстная неудовлетворенность – благородное чувство, от всех этих книжных рассуждений и теорий в мозгу у него все запуталось. Книги засорили его живые восприятия отвлеченными представлениями, системами идеального строя, которые зиждились главным образом на безоговорочном признании всех предпосылок автора и беспрекословном следовании всем его заветам.
Тони поднял глаза и встретил взгляд Крэнга, чуть-чуть презрительный, но вместе с тем дружеский.
С чувством внезапной жалости он увидел следы незаслуженных страданий на бледном, худом лице Стивена; глубоко ввалившиеся щеки, грустные, тоскующие глаза, резкие линии вокруг рта, – они-то и придавали ему это презрительное, злое выражение. Годы спустя Энтони встретил такие же следы, еще более глубокие, более трагичные, но лишенные всякого озлобления, на лицах пехотинцев, возвращающихся с фронта, и вспомнил Стивена, для которого жизнь всегда была чем-то вроде гнусной войны. Правда, в этом человеке были и мягкость и великодушие, но только в – отношении обездоленных людей, с которыми он провел детство и юность, а к тому, что он называл «строем», и к «эксплуататорам» он испытывал страстную ненависть и глубокое презрение. Однако Энтони инстинктивно угадывал в этом что-то противоестественное.
По-человечески Крэнг не любил обездоленных и уклонялся от общения с ними. Он разглагольствовал об их Несчастьях и обидах, для того чтобы оправдать собственное озлобление, или в лучшем случае стремился навязать им свою собственную теорию о том, в чем именно состоит более счастливая жизнь. Фактически Крэнг предпочитал общество Тони обществу любого из деревенских жителей, хаддерсфилдских рабочих или даже своих родных братьев. А посещения Генри Скропа приятно щекотали его тщеславие, как бы он потом ни старался показать, что презирает «старого набоба».
Несмотря на эти непримиримые разногласия, которые проистекали, быть может, просто из различия темпераментов, Энтони охотно слушал Крэнга и учился у него. Он признавал, что совершенно невежествен в самых элементарных вопросах общественных взаимоотношений. Однако что-то в разъяснениях Крэнга отталкивало Энтони, – он как будто все принижал и все в жизни сводилось у него к проблеме пропитания.
Это вполне естественно, думал Энтони, что бедные интеллигенты, видя, как их знания и дарования, загубленные бедностью, пропадают даром, и сознавая власть денег, склонны считать экономику – началом и концом всех проблем. Он никогда не рассказывал Стивену о том восхищении, которое порой испытывал среди дня, и, разумеется, никогда даже и не намекал на тот сияющий мир, который открылся ему через Эвелин, но после разговоров со Стивеном его вера в чувственное восприятие жизни иной раз колебалась – так действовал на него сарказм собеседника. Когда Крэнг говорил о жалкой нищенской жизни фермеров или с какой-то язвительной радостью доказывал, что вся жизнь, которую мы наблюдаем в природе, – непрерывная война и каждое дерево, растение и животное жестоко борются между собой, пожирая друг друга, Тони начинало казаться, что его собственное представление о жизни – нелепая фантазия, глупые сентиментальные мечты. Ему не хотелось походить на ту изысканную даму, которая сетовала, что Флоренция погибла, – подумайте, там выстроили фабрику. Но всем своим инстинктом он ощущал, что его жизнь чувств – это подлинная жизнь, а то нагромождение отвлеченных понятий, лозунгов и систем, движимое не любовью и великодушием, а ненавистью и завистью, которое Крэнг называет жизнью, – это не настоящая жизнь.
Тони не меньше Крэнга знал о жестокости природы, ястреба, стремглав бросающегося на скворца, хорька, вонзающего свои острые зубы в шею визжащего кролика, осы, кладущей яйца в личинку, парализованную ее жалом и обреченную быть съеденной живьем. Но в те минуты, когда он погружался в небытие, словно завороженный чарами нимф, все эти ужасы растворялись для него во всеобщей живой гармонии. Несомненно, есть и среди людей ястребы и хорьки, но либо они должны перестать быть ими, либо уж не разглагольствовать о том, что человеческое общество создано на более благородных началах и отличается более тонкими инстинктами.
– Не смешивайте, пожалуйста, французскую революцию с промышленной, – сказал однажды с раздражением Крэнг, – французская революция была политической и окончилась заменой короля и дворянства буржуазией. Она никогда, в сущности, не преследовала ни социалистических, ни экономических целей.
Гракх, Бабёф, как впоследствии и Сен-Симон, отчасти провидели истину, но Бабёф был убит, а Сен-Симон, как ни подойди, устарел сейчас так же, как Фурье и Луи Блан [23] [23] Бабёф, Сен-Симон, Фурье, Блан – французские социалисты-утописты
[Закрыть].
Тони не ответил. Эти имена ничего не говорили ему, но он почувствовал, что Сен-Симон Крэнга не мог быть тем манерным герцогом, который своими замашками, язвительностью и своим пером так восхищал Генри Скропа. Итак, он слушал молча, а Крэнг продолжал!
– Промышленная революция – это было нечто совершенно другое, она в первую очередь совершилась в Англии, хотя и захватила весь мир. Это была замена старинного кустарного производства заводами и машинами. И не воображайте, что ремесленники жили в фантазиях Джона Болла [24] [24] Болл Джон (ум. 1381) – английский народный проповедник, один из вождей крестьянского восстания Уота Тайлера
[Закрыть], – продолжал Стивен сердито, замечая, что Тони хочет что-то сказать. – Они жили в лачугах, работали всей семьей четырнадцать-пятнадцать часов в сутки, получая за это гроши, а английские джентльмены, которыми вы так восторгаетесь, еще хотели обложить налогом их грошовый заработок.
– Они сделали это? – спросил Тони.
– Нет, – ответил Стивен неохотно. – По крайней мере в том случае, который я имею в виду. Человек по имени Купер [25] [25] Купер Уильям (1731 – 1800) – английский поэт-сентименталист
[Закрыть] запротестовал, и законопроект не прошел.
– Поэт Купер?
– Да. Но рабочих жестоко эксплуатировали, и они влачили нищенское существование. Когда в текстильной промышленности появились машины, рабочие взбунтовались и уничтожили их. Их расстреляли, а машины снова поставили, и на этот раз навсегда.
Народ со всех сторон повалил в фабричные районы, отчасти потому, что люди заразились стремлением хозяев к быстрому обогащению. Дураки! Как будто можно разбогатеть, работая на кровопийц! Как только они получали жалованье, то пропивали его, чтобы забыть свои невзгоды; когда они оставались без работы, то подыхали с голоду вместе со своими детьми. О, история промышленной революции ужасна! Да знаете ли вы, что маленькие дети работали в шахтах вместо лошадей? Конечно, вы этого не знаете. Вы, буржуа, не знаете о преступлениях и страданиях, в которых виноваты ваши деньги. Non olet! [26] [26] (Деньги) не пахнут! (лат.)
[Закрыть]
Энтони с любопытством смотрел на Крэнга, несколько удивленный его горячностью, которая, правда, немного отталкивала, но в то же время и трогала его тем личным страданием, которое за ней чувствовалось. Бледное лицо Стивена побледнело еще больше, его валлийские глаза горели, а губы дергались так, что видны были все зубы. Казалось, он задыхался от ненависти. Тони даже удивился, что такое бурное проявление чувств оставляет его почти равнодушным, наверно потому, что ему претила эта неспособность управлять собой. Но в то же время он сознавал, что зло, внушившее Крэнгу эту ненависть и это возмущение, действительно должно иметь глубокие корни. Чтобы дать Стивену время прийти в себя, он сказал мягко:
– То, что вы сейчас говорите, мне отчасти известно, хотя ваше личное отношение к этому заставляет меня острее чувствовать несправедливость. Не моя вина, что я родился в той среде и в той части страны, где ничего подобного не случалось. Я отказываюсь считать моих родителей «кровопийцами» или верить в то, что они каким-нибудь образом непосредственно виновны в тех ужасах, которые вы описываете. Их заблуждение заключается в их же добродетелях – они слишком мягки, слишком доброжелательны, чтобы допустить, что страдания могут причиняться ради наживы. А если замечают несправедливость, то надеются, что все изменится к лучшему. К тому же положение вещей, которое вы описываете, относится к давно минувшему прошлому, и голос совести, изобличавший все это, исходил как раз из среды тех буржуазных художников, которых вы так презираете, – Саути, Шелли, Элизабет Браунинг, Рескин и Уильям Моррис.
Тони заговорил только для того, чтобы дать Крэнгу время успокоиться, и замолчал, едва увидел, что достиг цели. Единственно, что запомнил Стивен, была фраза о том, что все это относится к прошлому. Он отвечал с каким-то усталым спокойствием, которое больше тронуло Тони, чем его прежняя запальчивость.
. – Давно минувшее прошлое? И вас удивляет, что воспоминания могут быть так мучительны. Если бы вы когда-нибудь были рабочим в одном из промышленных городов на севере, вы не удивлялись бы. Да, правда, благодаря профессиональным союзам кое-что в этих невыносимых условиях изменилось.
– А кто им внушил мысль объединиться в профессиональные союзы? – спросил Тони и, так как Стивен не ответил, добавил: – Мне помнится, вы как-то говорили, что положение рабочих никогда не было таким тяжелым, как в настоящее время. Верно ли это исторически?
Стивен вспыхнул, и его карие глаза опять загорелись, но он сдержался.
– Споры, резонерство здесь не помогут, Кларендон. Прежде всего это так называемое гуманное законодательство просто фарс. Детский труд запрещен, это правда, но ничего не сделано для того, чтобы возместить отсутствие их заработка. Мать, работающая на фабрике, имеет право на четырехнедельный отпуск – без всякой оплаты. Разумеется, она стремится как можно скорее вернуться на работу. Все эти полумеры ни к чему не приводят. Нужно изменить всю систему, сделать общественным достоянием все средства производства, распределение и обмен.
Тани питал глубочайшее отвращение к этой стереотипной фразеологии, которая казалась ему пустым краснобайством, лишенным настоящей мысли и правды.
– Это превратит половину населения в государственных служащих, – возразил он. – Вам по душе бюрократы? А на каких принципах вы построите производство и все остальное?
– Мы будем работать для удовлетворения потребностей, а не для прибыли.
Опять фразы!
– А как вы определите потребности? – не унимался Тони.
– Каждому по его потребностям, от каждого по его способностям.
– А как быть, если общая сумма потребностей значительно превысит общую сумму способностей?
Вот я, например, не такой уж щепетильный человек.
Я думаю, мне потребовалась бы масса излишеств.
Это значит, что я давал бы вам на пенни, а требовал бы с вас шиллинг.
– Государство нашло бы способ справиться с вами, – мрачно ответил Стивен.
– Ах, вот как, насилие! Тогда, значит, ваша система сразу оказывается негодной – мои потребности не будут удовлетворены.
– Они будут удовлетворены в разумных пределах.
– А кто будет устанавливать эти пределы? Министерства? Благодарю покорно!
– С экономической точки зрения вы – паразит, – сказал Стивен, – и как таковой, вы, конечно, будете сметены. Вы не по праву благоденствуете при настоящем несправедливом государственном строе, и, разумеется, вы не хотите, чтобы он изменился. Но он будет изменен вопреки вам и вашему классу. Что бы вы ни говорили, вы не скроете того факта, что народ у нас в цепях невежества, нищеты, рабского труда и безысходности. А как сказал Руссо, народ – это и есть человечество, остальных так мало, что они в счет не идут.
– В таком случае Руссо был несправедлив к себе, потому что он сделал больше, чем миллионы простолюдинов. Истинную пользу человечеству приносят исключительные личности – вожди. А в вашем мире бюрократов их истребят, и тогда наступит застой, а застой – это упадок, это движение вспять. Мы с вами по-разному смотрим на человечество, вы – с количественной, а я – с качественной точки зрения.
– Стало быть, по-вашему, в мире все обстоит благополучно? – насмешливо спросил Стивен.
– Нет, – сказал Тони, вставая. – Сказать по совести, я этого не думаю. Я верю вам и собственным глазам и ушам, которые говорят мне, что у нас много несправедливости. Но я считаю, что меньшее должно служить большему. Состояние общества определяется качеством его вождей и характером подчинения, которого они сумеют достигнуть… Вы в ваших расчетах игнорируете почти все человеческое в человеческой породе. Люди для вас – это просто экономические единицы с некоторыми элементарными потребностями, требующими удовлетворения. Вы отбрасываете все надежды, стремления, побуждения, порывы, трагедии, комедии, взлеты и падения человечества – в сущности, все, что делает жизнь интересной и заманчивой, и предаете нас во власть посредственности, которая расселит всех в бараках с палисадничками и будет снабжать стерилизованным молоком и пьесами Бернарда Шоу. К черту все эти ваши комитеты и системы. Люди должны идти за своими вождями, прирожденными вождями, такими, как, например, Генри Скроп.
– А-а! – саркастически фыркнул Крэнг. – Я так и думал, что мы вернемся к феодализму! Кто был снобом, снобом и останется! Ну что ж, пользуйтесь этим, пока у вас есть возможность, – это недолго продлится!
Энтони вспыхнул, задетый его оскорбительным тоном, но ничего не ответил и попрощался. Он не хотел доставлять удовольствия Крэнгу – зря тот старается вывести его из себя. По дороге домой Тони с удивлением думал, почему после разговора с Крэнгом он всегда чувствовал себя несчастным, неприкаянным, тогда как Генри Скроп, наоборот, взбадривал его и заставлял всегда ощущать, что жизнь – STO чудесное приключение, достойное того, чтобы ради удач терпеть и неудачи. Происходило ли это потому, как говорил Крэнг, что оба они несправедливо пользовались благами жизни за счет рабского положения других людей и поэтому не хотели отказаться от своих преимуществ? Он с усилием отогнал от себя эту неприятную мысль. Тони сознавал, что его возражения Крэнгу были беспомощны, необоснованны, но чувствовал, что должен следовать тому, что подсказывал ему внутренний голос. Этот же голос говорил, что оба они были неправы в своих попытках подогнать человечество под какие-то теории, вместо того чтобы предоставить ему выработать собственные принципы и законы. Ему стало смешно, когда он подумал, как серьезно взяли они на себя роль непризнанных законодателей человечества. И как оба они, в сущности, мало знали! Этакие доморощенные диктаторы! У Тони мелькнула мысль, что социальные реформы нужно проводить раньше всего у себя дома, но и она заставила его тревожно задуматься над тем, что, собственно, под ними следует подразумевать.
Спустя несколько дней, Энтони после бесплодных попыток разрешить непосильные для него вопросы, отправился в Нью-Корт. Генри Скроп сидел на лужайке под громадным кедром в резном дубовом кресле. Колени его были покрыты пледом, перед ним стоял небольшой столик, на котором лежало несколько книг и маленький колокольчик.
– Я видел, как ты ехал парком, – обратился он к подошедшему Энтони, – и позвонил, чтобы принесли стул. Сейчас его принесут. Как поживаешь? Твои родители, надеюсь, в добром здравии?
Огромная борзая появилась из-за дубового кресла, понюхала своим тонким носом ботинки Тони и затем села в живописной позе у ног старика, как бы говоря: «Надеюсь, вы понимаете, сколько усилий мне стоит охранять вас?»
Генри Скроп погладил ее по голове. Тони взял поданный ему стул, уселся и несколько нерешительно начал рассказывать о своем последнем споре с Крэнгом. Старик слушал его внимательно.
– А-а, Крэнг! – протянул он. – Этот ненавистник, потерявший душевное равновесие? Что же, пусть освежит в памяти свои обиды, от этого никому нет вреда, кроме него самого. Я когда-то тоже носился со своими обидами. Что ж, я ничего не имею против этого малого.
Тони удивил небрежный тон Генри Скропа; а он-то старался внушить себе, что во всех этих вопросах самое важное – уметь к ним подойти.
– Я тоже ничего не имею против него, – оказал он, – но Крэнг вызывает во мне какой-то душевный разлад, и потом он такой язвительный, исступленный, завистливый.
– А почему бы ему не встряхнуть тебя немножко? Если бы мы пожили его жизнью, мы тоже, на – верно, были бы завистливы.
– Значит, вы с ним согласны? – удивился Тони.
– Отнюдь. Его отношение к вещам – естественный результат его жизни, так же как мое отношение. – Заметив, что Тони немножко обижен его тоном, он ласково добавил: – Мой милый мальчик, ты ищешь в этих вещах абсолютной истины, как и во всем остальном. Что ж. Это привилегия молодости.
Желание абсолютной справедливости для всех людей – мечта очень благородная, но это только мечта.
Из плохой глины доброго горшка не получится, вот так же и с человеческим обществом, – ну, могут ли такие скверные животные, как человек, создать идеальное общество? Человеческое общество старо и состоит из пестрых лоскутов многих поколений. Крэнг хочет все это распороть и скроить заново. Будь я в твоем возрасте, я, пожалуй, согласился бы с ним.
Но сколько бы он ни распаривал, материал у него останется все тот же – люди.
– Вы, мне кажется, избегаете делать вывод, – неуверенно сказал Энтони. – Вы согласны с тем, что в мире много зла? А вы не думаете, что мы все должны стараться искоренить его?
Генри Скроп засмеялся и погладил собаку.
– Видишь ли, мой дорогой, это проблемы для специалистов, а не для нас с тобой и не для первого встречного. В частности, я так же мало верю этим экспертам, как и кому-либо другому, и очень недолюбливаю разных молодчиков, которые стараются соблазнить нас утопиями, вычитанными из элементарных учебников. По правде сказать, я сомневаюсь, можем ли мы действительно сколько-нибудь улучшить положение вещей. Обычно выходит то ж на то ж или еще хуже.
– Я сказал Крэнгу, что не верю ни в его отвлеченные системы, ни в то, что к людям можно подходить так, словно все люди похожи друг на друга!
Я сказал ему, что нам нужны вожди, вот такие, как вы.
– Ха-ха-ха! – расхохотался Скроп. – Спасибо тебе, очень мило с твоей стороны, мой мальчик. Но только должен сказать тебе, что я просто бесшабашная голова и при этом совершенно бесхарактерный, слабовольный человек, абсолютно неспособный никого никуда вести. Но бросим этот разговор. Скажи мне лучше, что ты намерен делать теперь, после школы?
– Право, не знаю, – сказал Энтони нерешительно. – Я ведь был в школе не на очень-то хорошем счету.
– Правильно, – перебил его Скроп. – Все примерные ученики большей частью болваны. В мелком почвенном слое всходят и школьные семена, глубокая почва требует, чтобы ее хорошо вскопали.
– Ни вскопать, ни закопать меня не удалось, – сказал Тони со слабой попыткой сострить, – но я сдал экзамены без всякого блеска. Отец думает, что я не способен к наукам, и поэтому мне ни к чему поступать в университет.
– Благодари судьбу, – энергично заявил Скроп. – Ох, уж эти водопроводчики от науки, сами страдающие суеверием! А ты еще не думал, кем бы ты хотел быть?
Энтони покраснел.
– Мне бы хотелось что-нибудь созидать, – сказал он робко. – Мне… мне кажется, я мог бы стать архитектором.
– Архитектором? – воскликнул изумленно Генри Скроп. – Но в наше время это то же самое, что быть водопроводчиком. Тебе ведь не предложат построить храм святого Петра или Эскуриал, тебя заставят чертить планы мясных лавок или дачных поселков. – Но, видя смущение Тони, он сказал? – Конечно, у каждого из нас есть свои мечты. Когда я был в твоем возрасте, я катался по Венеции в гондоле, закутавшись в черный плащ, и считал себя гениальнее Байрона.
Ты до такой глупости не дойдешь, ха-ха!
Энтони не мог преодолеть ощущения, что старики, как бы они ни были добры, всегда как-то обескураживают.
– А это, наверно, очень трудно, – сказал он.
– Не огорчайся. У тебя впереди еще много времени. Но вот что: ты прожил все восемнадцать лет своей жизни в Англии; почему бы не попросить отца дать тебе возможность попутешествовать? Посмотри Европу, а потом будешь решать. Ни один человек не может сказать, что знает жизнь, не побывав на Востоке.
– Я думал об этом. По правде сказать, я даже просил папу, чтобы он отпустил меня…
– Куда?
– В Париж.
Генри Скроп быстро взглянул на него.
– В Париж? А почему именно в Париж?
Энтони покраснел и не мог скрыть своего смущения.
– Мне кажется, это само собой ясно, – пробормотал он. – Ближайшая мировая столица и…
– Каждому следует побывать во Франции, тем более что французская цивилизация и жизнеспособность недооцениваются в Англии. Но не воображай, что Париж – это Франция, и не попади там в какую-нибудь беду.
Так как Тони ничего не ответил на этот намек, Скроп продолжал:
– Советы стариков молодым – это не только пустая трата времени, но и дерзость. Каждое поколение считает себя совершенно непохожим на предшествующее, но в конце концов оказывается почти таким же. Когда я оглядываюсь на свою жизнь, я вижу, что часто ошибался. То же самое будет и с тобой в мои годы. Ну что же, живи и ошибайся.
В этом жизнь. Не думай, что ты можешь быть совершенством, – это невозможно. Закаляй себя, свой характер, чтобы, когда наступит испытание, – а это неизбежно, – ты мог встретить его как настоящий мужчина. Не давай обманывать себя прописными истинами и громкими фразами. Путешествуй, знакомься с миром, узнавай людей, работай над чем-нибудь, что тебя интересует, влюбляйся, делай глупости, если так уж суждено, но делай все это с воодушевлением. Самое главное – прожить жизнь «со вкусом».
Может быть, нас ждет еще не одна жизнь, но, чтобы заслужить их, нужно исчерпать эту жизнь до конца, взять от нее все, что можно. Бойся бесцветной судьбы. Ну вот, я прочел тебе целую проповедь. Если хочешь, назови меня старым ворчуном.








