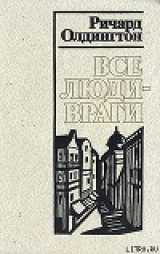
Текст книги "Все люди — враги"
Автор книги: Ричард Олдингтон
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 35 страниц)
– Прекрасно, благодарю вас, – сказал Тони.
И вышел, стараясь побороть воздействие этой диккенсовской атмосферы, чтобы не попросить «на шесть пенсов бренди с горячей водой».
Как Тони и предвидел, завтрак с Гарольдом и Уолтером оказался не особенно удачным и ничего не прибавил к сумме человеческого счастья. Едва он вошел и увидел их уже сидящих за столом с видом оскорбленного превосходства, свойственного строго пунктуальным людям, он инстинктивно почувствовал, что в воздухе носится что-то зловещее. Так оно и оказалось. Он с самого начала заподозрил, что этот завтрак «подстроен», что эти двое вкупе с Маргарит и Элен провели целое следствие и теперь ему будут давать советы, оказывать «помощь». Тони решил постараться избежать ссоры и не слишком их поддразнивать. Придется уж выслушать мудрые советы совы и тюленя.
Начал Уолтер. Он заговорил с такой преувеличенной небрежностью, что сразу выдал всю игру.
– Да, кстати, Тони, это правда, что вы отказались от места в Сити?
– Ноги моей там не было с апреля месяца, – сказал Тони весело. – Я подписал обет, что никогда больше не переступлю порог конторы.
– Разрешите поинтересоваться почему?
– По-видимому, это место для него недостаточно хорошо, – усмехнулся Гарольд.
Уолтер нахмурился, давая понять Гарольду, чтобы он замолчал, а Тони сказал:
– Быть может, это отчасти верно, Гарольд. Во всяком случае, у меня были на то свои личные причины.
Тони с любопытством следил за их различными способами нападения. Гарольд, который уже кормился «делом», говорил о «деле», жил «делом» и сам был «делом», с трудом скрывал свое раздражение и, похоже, был склонен считать уход Тони личным оскорблением. Он стоял за обуздание и суровые меры – нельзя же допускать, чтобы люди так вот и делались «большевиками». Уолтер был умнее и с высоты своего привилегированного насеста не без сочувствия поглядывал на тех, кто не одобрял современных методов ведения дел. И если бы только Тони признался, что хочет пойти по гражданской службе, Уолтер оказался бы на его стороне. Во всяком случае, ему доставляло такое удовольствие пускать в ход свою знаменитую закулисную дипломатию, что он не мог разделять желчность Гарольда.
– Дорогой Тони, – начал он непринужденным тоном, с грациозной жестикуляцией, которая уже оказала влияние на манеры второразрядных клерков, – вы же знаете, что мы ваши старые друзья и еще более старые друзья вашей жены. Вы можете нам не верить, но мы искренне расположены к вам и, насколько это в силах друзей, готовы сделать для вас все возможное – мы хотим вашего счастья и благополучия.
«Тьфу, черт! Ну и лицемер, сущий Чэдбэнд!» – подумал Тони.
– И поэтому quae cum ita sint [142] [142] Ввиду того, что дела обстоят таким образом (лат.)
[Закрыть], как выразился бы Цицерон, мы были, естественно, – как бы это сказать, – несколько обеспокоены, даже больше того, несколько задеты, услыхав со стороны, что вы, не посоветовавшись ни с кем из нас, вступили на путь, который представляется нам опрометчивым и рискованным. Более того, когда случается что-либо подобное и друзья не могут вступиться за человека, потому что он не счел нужным им довериться, про него говорят всякие гадости и распускают слухи, которые трудно опровергнуть.
– Добрейший мой Уолтер, – перебил его, слегка покраснев, Тони, – неужели вы думаете, что я, прожив столько лет в Лондоне, не научился презирать «то, что говорят люди»? Я прекрасно знаю, что нет ничего самого невероятного, чего бы не могли сказать и чему бы не поверили люди: вроде того, что через полгода я попаду в больницу, для умалишенных, или что меня вышвырнули со службы потому, что я крал мелочь из кассы, или что я принуждал свою жену принимать участие в чудовищных оргиях, которые вот-вот вызовут взрыв всеобщего негодования. Я знаю все эти разговоры, вплоть до намека на гомосексуализм: «Да, ему приходится жить за границей – вы же знаете почему». Неужели вы думаете, что я хоть в грош ставлю всех этих идиотов?
Уолтер как будто немножко опешил, но тут вмешался Гарольд.
– Вам эта пародия на действительность ничуть не поможет, Тони. Я допускаю, что все это очень остроумно, но толку от этого мало. И вы не можете игнорировать тот факт, что общественное мнение вас осуждает.
– Общественное мнение! – смеясь, воскликнул Тони. – Ничего себе «общественное». Да, я думаю, не наберется, в общем, и двухсот человек, которые бы меня знали.
– Это как раз те люди, с которыми вы должны считаться, – сказал примиряюще Уолтер. – В конце концов, дорогой мой, ваша репутация в их руках.
– Прощай, репутация, – сказал Тони, отхлебнув глоток пива. – Смею вас заверить, что я как-нибудь переживу этот позор.
– Это никуда не годится, – сказал Гарольд сердито – Вы стараетесь увильнуть от ответа и, по обыкновению, валяете дурака. Мы имеем право требовать от вас разумного объяснения и определенного ответа, если не в ваших интересах, то в интересах вашей жены.
– Ха-ха! – расхохотался Тони, обрадовавшись. – Значит, вы действительно сплетничали обо мне с Маргарит?
Уолтер снова сделал Гарольду знак рукой, чтобы он замолчал, и начал:
– Дорогой Тони…
«Он, кажется, воображает, что я представляю общественное собрание, – подумал Тони, – точь-в-точь Гладстон [143] [143] Гладстон Уильям Юарт (1809 – 1898) – премьер-министр Великобритании
[Закрыть], беседующий со старой королевой».
– Дорогой Тони, вы все понимаете совершенно превратно и очень огорчаете нас обоих. Никто так не ценит юмор, как я, но здесь он совсем неуместен.
Постарайтесь, пожалуйста, быть серьезным.
– Серьезным! – воскликнул Тони. – Да я и так серьезнее серьезного. А вот вы легкомысленны.
– Что вы хотите этим сказать?
– Я прекрасно знаю, что делаю и почему, а вы вмешиваетесь в то, чего не понимаете.
– Не знаю, почему вы называете здравый смысл вмешательством? – сердито проворчал Гарольд.
– Ну, в данном случае я называю это так, – напрямик ответил Тони.
У Гарольда уже готов был сорваться с языка презрительный ответ, но Уолтер прибег к дипломатической увертке, что весьма позабавило Тони.
– Нет, нет, – сказал он поспешно, – не будем уклоняться от сути дела. Гарольд, хотите стильтона [144] [144] Стильтон – сорт жирного сыра
[Закрыть], со мной за компанию? А вы, Тони? Да. И по стаканчику портвейна, выпить напоследок. Официант! Три стильтона и три стакана портвейна. Доу, 1908 года, не забудьте! Будем говорить по-дружески. У нас у всех самые лучшие намерения, и я уверен, что мы сможем прийти к удовлетворительному решению.
Тони, разрешите мне как старому другу задать вам несколько вопросов?
– Пожалуйста, – ответил Тони, заранее решив открываться старому другу как можно меньше.
– Следует ли нам считать, что вы окончательно и бесповоротно отказываетесь от своей карьеры?
– Да, если вы называете такого рода занятие карьерой.
– Так, – просветлел Уолтер, тогда как Гарольд еще больше нахмурился, услыхав это оскорбление божества.
– А есть у вас какие-нибудь планы на будущее? – Да: Недели через две я уезжаю в Тунис.
– Я не об этом говорю. Я имел в виду какую-нибудь серьезную работу, за которую вы хотели бы приняться. Может быть, я был бы вам чем-нибудь полезен? Ведь существует целый ряд всевозможного рода официальных и полуофициальных должностей, которые интеллигентному человеку…
– Благодарю вас, – перебил Тони, – меня вполне удовлетворит, если я и дальше буду жить как живу, без каких-либо официальных санкций.
– Что же, прикажете понимать так, что вы действительно намерены все время жить праздно, переезжая с курорта на курорт и наведываясь в Лондон лишь тогда, когда почувствуете, что не можете больше пренебрегать своей женой?
– Можете понимать как вам угодно или, вернее, как вам удобней, – сказал, разозлившись, Тони, – только, пожалуйста, не вмешивайте сюда Маргарит.
Это уж мое дело.
– Простите, пожалуйста, – поспешно извинился Уолтер, – я вовсе не хотел вас обидеть. Пожалуйста, простите меня. Но, по правде сказать, дорогой мой, еще раз прошу прощения, – поведение ваше совершенно непонятно и в высшей степени глупо.
– Охотно прощаю вам то, что вы говорите, дорогой Уолтер, потому что не придаю этому никакого значения.
Уолтера эта резкая отповедь несколько покоробила, а Гарольд, который до сих пор, по-видимому, едва сдерживался, вмешался в разговор:
– Послушайте, Тони, я знаю, что говорить с человеком о его жене считается дурным тоном и все такое, но мы не можем в данном случае не коснуться Маргарит. Неужели вы берете на себя смелость утверждать, что, по-вашему, вы не причиняете ей никакого зла?
– Разумеется, никакого зла я ей не причиняю.
– Но ведь это влечет за собой значительное сокращение доходов.
Гарольд сделал особое ударение на слове «доходы», как будто это было нечто таинственное или священное.
– Если Маргарит вышла за меня замуж из финансовых соображений, она сделала большую ошибку, – сказал Тони.
– Но не считаете ли вы, что она имеет право настаивать на том, чтобы вы обеспечили ей такие материальные условия, к каким она привыкла?
– Конечно, нет. Что это за псевдофеминистская болтовня, Гарольд? Если на то пошло, я имею право настаивать, чтобы она удовлетворялась моими условиями, которые, боюсь, покажутся ей слишком скромными. Но ничего подобного ей не угрожает – у Маргарит очень недурные собственные средства, – Да, – фыркнул, выйдя из себя, Гарольд, – могу сказать только одно, что порядочные люди так не поступают.
– Ничего другого я от вас и не ожидал, – невозмутимо отвечал Тони. – Редко встречал человека, более неспособного на остроумный ответ и более падкого на ходячие фразы, чем вы. Есть у вас еще какие-нибудь вопросы, Уолтер?
– Бесполезно продолжать разговор, раз вы не хотите относиться к этому серьезно, – сказал натянуто Уолтер, – Но я должен предупредить вас и посоветовать вам хорошенько обо всем подумать. Дело в том, что каждый человек имеет по отношению к государству определенные обязанности, которые он должен выполнять. Проболтавшись без дела год-другой, вы почувствуете скуку и неудовлетворенность и захотите вернуться к деятельной жизни, но это окажется для вас невозможным – Ведь своим теперешним поступком вы оттолкнете от себя всех своих друзей.
– Простите, пожалуйста, – весело сказал Тони, – но ведь я уже оказал миллион услуг государству во время маленькой войны и великой забастовки. Если бы нас было не так много, мы бы все могли рассчитывать на то, что нам поставят на площади памятники и дадут бесплатно столько хорошей пахотной земли, сколько может вспахать за день пара здоровых волов. Что же до того, что я соскучусь или почувствую какую-то неудовлетворенность, то позвольте напомнить вам, что я действительно скучал и чувствовал известную неудовлетворенность, участвуя в том, что вы называете активной жизнью и чему я бы дал гораздо менее лестное название. Если бы не то обстоятельство, что Маргарит по своей природе неспособна разделять со мной то, что я считаю подлинной жизнью, я был бы в настоящее время вполне счастлив. Если я буду жить так, как хочу, я не почувствую ни скуки, ни неудовлетворенности. И обещаю вам, заметив за собой что-либо подобное, тотчас же откровенно признаться в этом, более того, заранее разрешаю вам обозвать меня дураком и плюнуть мне в лицо. Есть еще вопросы?
– Нет! – сказал Уолтер, стараясь нанести последний удар. – Официант! Наши счета, пожалуйста.
«Счета? – подумал Тони. – Я бы сказал счет.
У этих господ есть чему поучиться».
– Нет, – повторил Уолтер задумчиво, тоном человека, скорее огорченного, нежели рассерженного. – У меня к вам нет больше вопросов. Я отношусь с величайшим неодобрением к вашей затее, Тони, потому что это свидетельствует о полном отсутствии у вас дисциплины. Я вижу, что вы вбили себе в голову какой-то сентиментальный вздор насчет свободной жизни. Но это не более не менее, как результат неупорядоченной эмоциональности, и в конце концов вы сами убедитесь, что упорядоченные эмоции куда лучше беспорядочных. Каковы бы ни были ваши личные чувства, необходимо соблюдать общепринятые нормы и известный декорум. Почему вы не можете признать определенный общественный порядок, подчиниться ему и поддерживать его?
– Ах, – сказал Тони, забирая сдачу и небрежно оставляя чаевые, чрезмерность коих заставила Гарольда нахмуриться, – это уже своего рода символ веры, Уолтер. «Во что я верю»– трактат, выпущенный институтом ханжества. Но, во всяком случае, это не моя вера. Как мистер Пегготи, я пускаюсь в путь разыскивать по белу свету Эмили. А моя «Эмили»– это ежедневное и ежечасное ощущение того, что я живу как человеческое существо, а не как пригнанная; к месту гайка. Итак, прощайте.
II
Год назад или, может быть, даже несколько месяцев Тони был бы расстроен этой встречей с Гарольдом и Уолтером и всем, что они говорили. Он думал бы обо всем этом, сомневался бы в самом себе и не мог бы с уверенностью сказать, не правы ли они в конце концов. Теперь же не прошло и десяти минут, как он уже совершенно выбросил из головы и их самих и их нравоучения. Разумеется, они преисполнены житейской мудрости, мудрости своего мира, но только это не его мир. То, что они говорили и чувствовали, лишь слегка задевало его, но, по существу, это его нисколько не трогало. И он радовался и торжествовал, как будто открыл, что стал неуязвимым, – а то, что они считают его дураком, не беда. Если стремиться стать юродивым ради Христа, это слишком самонадеянно, то, во всяком случае, можно осмелиться быть дураком ради спасения своей жизни.
В течение всего остального дня он с чувством какой-то почти отрешенной нежности неотступно думал об Эвелин. Оглядываясь назад, быть может, с присущей всем склонностью идеализировать тех, кого знал в далекой юности, и свои чувства той поры, он готов был поверить, что Эвелин обладала каким-то чудесным даром, который принуждена была скрывать от мира. Посредством своего прикосновения она могла сообщать – как трудно найти нужные слова! – ощущение интенсивной физической жизни, настолько более прекрасной, чем обычная жизнь, что ее бы следовало назвать «божественной». От ее прикосновения крошечное пламя его жизни вспыхнуло ослепительно ярко, как вспыхивает огонь, перенесенный из обыкновенного воздуха в кислород. Это было одно из тех переживаний, которые помогли ему понять, что, собственно, ему нужно от жизни. Он спрашивал себя, развилось ли с годами у Эвелин это качество, или оно было вытравлено, поскольку общество неизменно старается уничтожить его в сердцах молодежи. Он с горечью думал об упорной, бесплодной борьбе, которую ему пришлось вести в течение долгих лет; ведь лучшие годы своей жизни он истратил зря, чтобы вернуться к тому же, чем он жил в двадцать лет. И с какими тяжкими ранами!
Чем больше думал он об Эвелин, тем глубже проникался убеждением, что было бы большой ошибкой, своего рода профанацией, пытаться возобновить близость, возникшую между ними в Вайн-Хаузе. Не полная в одном отношении, она все же была завершенным переживанием. В нем не было ничего незаконченного, не было чувства, что кто-то им помешал, лишил их чего-то… Ему вдруг стало жаль, что он согласился на свидание с Эвелин, и он даже подумал, не позвонить ли ей в отель и сказать, что не может прийти. Но это было бы уж чересчур бестактно. Тони утешал себя мыслью, что они спокойно побеседуют за обедом, понимая друг друга с полуслова, не прибегая к прямым высказываниям, и Эвелин почувствует, что какая-то частица того, чем она была для него всегда, продолжала жить в нем. Если в ней хоть что-то сохранилось от прежнего, она поймет, что почтительная нежность гораздо более драгоценна, чем откровенное ухаживание, которое непременно приведет к позорной неудаче. А если нет…
Придя в Резиденси-отель, Тони с удивлением услышал, как псевдодворецкий сказал, обратившись к лакею: «Проводите этого господина в апартаменты номер три». Слово «апартаменты» зловеще напоминало англо-индийскую претенциозность. Тони ввели в комнату, в которой топился громадный безобразный камин. Здесь висели тяжелые репсовые драпировки, были наклеены обои в стиле короля Эдуарда, а почти посередине стоял аккуратно накрытый на две персоны стол. Лакей сказал:
– Миссис Моршед сейчас выйдет, сэр, – и удалился.
Тони подошел к камину, где рядом с большим креслом стоял другой стол – жалкая имитация чудесных флорентийских столиков, красиво выложенных цветным камнем. На нем валялось какое-то рукоделие и были небрежно брошены два или три романа, но внимание Тони сразу привлекли три фотографии в рамках: на одной был изображен мужчина средних лет в белом костюме, какие носят в тропиках, с пробковым шлемом в руке, на других – два мальчика в итонских воротничках и школьных фуражках. В наружности старшего не было ничего особенного, но грустное выражение лица младшего мальчика, как показалось Тони, чем-то напоминало тонкие черты Эвелин. Он взял портрет в руки, чтобы поближе рассмотреть его, – да, конечно, здесь есть что-то от стройной девушки, которую он когда-то знал.
Он так углубился в созерцание портрета, что не услышал, как отворилась дверь. И вздрогнул, когда высокий, звонкий, несколько властный голос произнес:
– А, вы любуетесь моими сокровищами?
Тони поспешно поставил рамку обратно на стол и пошел навстречу Эвелин со словами:
– Прошу прощения, Эвелин. Ну, как вы поживаете?
Они обменялись рукопожатием, и Эвелин посмотрела на него таким пристальным, испытующим взором полкового начальства, что Тони почувствовал себя неловко.
– Так, значит, вы – Тони! – сказала она. – Выросли и пополнели, но я бы всегда и везде узнали вас. Так, так!…
Был какой-то оттенок в этом «так, так!», который невольно внушал мысль, что вас уже взвесили на весах и вес ваш найден неудовлетворительным. Тонн смутился и не находил, что сказать, может быть, потому, что живая Эвелин, стоявшая перед ним, была так непохожа на ту Эвелин, которую он знал и рисовал в своем воображении. Даже в самые мрачные минуты он не представлял ее себе таким воплощением мэм-саиб, приехавшей погостить в Англию; впечатление это еще усиливалось несколько вышедшим из моды вечерним туалетом и довольно безвкусными драгоценностями. Он почувствовал, что совершил gaffe [145] [145] Оплошность (фр.)
[Закрыть], явившись не во фраке, – а то, что его визитка была – реликвией тех дней, когда он еще одевался у Сэвайль Роу, служило слабым утешением. Он решил не извиняться, хотя Эвелин, очевидно, этого ждала, и сказал:
– Я не мог не заглядеться на фотографии ваших сыновей. Мне показалось, что в лице младшего есть что-то от вас, той, какую я знал когда-то.
– Они такие очаровательные, мои сокровища! – сказала Эвелин, игнорируя его замечание о сходстве, она говорила покровительственным тоном материнского собственничества, который всегда возмущал Тони. – Мне очень жаль, что вы не видели их до того, как они уехали в школу. Джим – настоящий спортсмен, уж если работает, так работает, а играет, так играет. Он, наверное, возьмет первенство школы в этом семестре. Младший, Боб, немножко нас беспокоит. Вечно сидит на одном месте, о чем-то мечтает и совсем не интересуется тем, чем должен интересоваться мальчик. Мы оба решили, что ему необходима дисциплина, здоровая товарищеская среда, чтобы немножко его расшевелить. Конечно, он еще слишком мал, чтобы жить вые дома, но мы устроили его в подготовительную школу. Мне, уверяю вас, пришлось напустить на себя ужасную строгость, когда мы расставались. Я не хотела, чтобы он расплакался при всех и осрамил меня и себя в первый же день. Джим, конечно, совсем другой, он как будто и не скучает по дому, хотя аккуратно пишет нам раз в неделю. Но я надеюсь, что здесь выбьют дурь и из Боба. Кстати – у вас есть дети, Тони?
– Нет, – сказал Тони, ставя на место портрет Боба с немым восклицанием: «Увы, бедный Боб!»
– Ну, тогда вам это все неинтересно.
– Наоборот, очень интересно. Я бы дорого дал, чтобы знать, что дети в таком возрасте думают о нас и о том мире, который мы оставляем им в наследство, – Я уверена, что они не ломают себе голову над такими глупостями, – сказала, рассмеявшись, Эвелин и нажала кнопку звонка. – Какой коктейль вам?
Мартини? Сайд-кар?
– Благодарю, никакого.
– О, но вы должны непременно выпить. Я буду пить сайд-кар. Но если вы не любите коктейлей, выпейте хересу.
. – Хорошо, пожалуй. Благодарю вас.
Когда Эвелин отдала распоряжение лакею, Тонн сказал:
– Маргарит, моя жена, просила передать вам, что она очень сожалеет, что не смогла прийти. Ваше приглашение пришло так поздно, что она не могла отказаться от визита» который должна была сделать.
– Я тоже очень сожалею. Мне очень хотелось посмотреть, какая женщина сумела прибрать вас к рукам, Тони. Я пригласила еще одного знакомого, чтобы нас было четверо, но он придет попозже. Это капитан Мартлет. Вы, конечно, знаете капитана Мартлета из индийской армии?
– О нет, боюсь, что не знаю, – отвечал Тони, который до этой минуты и слыхом не слыхал о славе капитана Мартлета.
– Он вам очень понравится. Капитан блестяще проявил себя на северо-западной границе. Разумеется, сейчас на долю горной артиллерии выпадает не так уж много работы – теперь, чтобы образумить этих язычников, вое больше прибегают к воздушным силам.
Потрясенный этим внезапным крушением своей юношеской мечты, Тони грустно сел обедать. Британская Индия блестяще сделала свое дело – от Эвелин, которую он когда-то знал, не осталось и следа. Он вспоминал ее девическое тело, свежее и нежное, как заря, занимающаяся над прекрасным миром, и его охватило чувство глубокой скорби три мысли о том, во что мужчина превращает женщину. Чуть ли не каждое слово этой Эвелин резало Тони какой-то фальшью, словно это была заученная ею роль дамы, претендующей на светскость, и она так старательно разыгрывала эту роль, так вошла в нее, что последняя вытеснила в ней живого человека. Осталась только эта подставная фигура. Мысли, чувства, даже внешность Эвелин приобрели тот специфически провинциальный оттенок, которого люди сами не ощущают, воображая как раз обратное. В этом не было непосредственности настоящей провинции, которая может быть и искренней и живой, а только жалкие потуги казаться светской и не отставать от столицы.
Тони с ужасом думал, как он будет поддерживать разговор за обедом, – но он напрасно беспокоился.
Эвелин превратилась в одну из тех женщин, которые чванятся тем, что они хорошие хозяйки. А это означает, что они берут на себя девять десятых разговора и довольствуются одобрительными репликами, пусть даже и не совсем искренними. Она говорила обо всем:
об Индии и об Англии, развязно порицая политику правительства, распространялась о спорте и развлечениях на Британских островах, о колебании цен на фондовой бирже, о торговой политике империи, о преимуществах и недостатках автомобилей той или иной марки и об абсолютной необходимости пожить в свое удовольствие до наступления старости. Пока она придерживалась этих тем, его роль была сравнительно не трудна, так как знакомство с женщинами подобного типа научило его, чего можно от них ожидать.
Трудности возникли, когда она завела разговор об искусстве. Тони вынужден был признаться, что не видел большинства пьес, которые она называла, и очень редко бывает в ночных клубах, никогда не играет в бридж, вообще не состоит ни в каком клубе, не слушает радиопередач и никогда не слыхал о писателях, которыми она восхищается.
– Вы какой-то совсем отсталый человек, – сказала она, – вы, наверно, один из тех тружеников, у которых не хватает времени на развлечения. Джим, мой муж, приблизительно в таком же роде. Мне всегда приходится «вытаскивать» его, уговаривать немножко развлечься, а не корпеть над работой. Но я вас не осуждаю, Тони. Человек должен создать себе положение, пока он молод, не правда ли?
– Несомненно, – согласился Тони.
И, наконец, она задала вопрос, которого он больше всего страшился:
– Кстати, чем вы занимаетесь, Тони?
Тони твердо решил не ссориться с Эвелин, несмотря на происшедшую в ней странную и отталкивающую перемену. Он не мог допустить, чтобы эта до крайности банальная женщина убила в нем воспоминание об ее умершем «я», хотя бы ему пришлось играть для этого унизительную роль и даже показаться «отсталым человеком». Поэтому он спокойно рассказал ей, что был одним из директоров промышленной компании, но бросил службу.
– Бросили службу! – воскликнула она. – Почему? Наверно, вы присмотрели себе что-нибудь получше?
– Вот именно, – ответил он, чувствуя, что этот двусмысленный ответ избавит его от неприятного разговора.
– А это не сопряжено с известного рода риском?
Вы твердо уверены, что получаете нечто лучшее?
– Абсолютно уверен. У меня нет на этот счет ни малейшего сомнения.
Тони наслаждался, этой невинной хитростью – это было единственное удовольствие за весь вечер.
Во время дальнейшей беседы он поймал себя на том, что, подобно Веллингтону [146] [146] Виллингтон Артур Уэлсли (1769 – 1852) – герцог, английский фельдмаршал. Командбвал англо-голландской армией в сражении при Ватерлоо
[Закрыть], молит о наступлении ночи. Он пытался навести Эвелин на разговор о детях, надеясь, что тут она по крайней мере будет искренней, но она уклонилась и попросила его рассказать о себе. Это было новым затруднением, но он ухитрился сообщить ей как можно меньше, употребив на это как можно больше слов, а так как Эвелин была очень щедра на комментарии, то сумел даже придать их разговору некоторую теплоту, отсутствие которой было вначале так заметно.
Часы на камине пробили девять. Эвелин поднялась и сказала:
– Здесь на столике портвейн или, если хотите, виски с содовой. Сейчас придет капитан Мартлет.
Займите его, пожалуйста, до моего прихода – я сейчас вернусь.
В первую минуту Тони даже не понял, что старый светский обычай, уже выходивший из моды, соблюдался здесь даже при свидании родственников; но все же он успел ринуться с места и отворить ей дверь. Эвелин проплыла мимо него с улыбкой, которую, вероятно, надо было считать благосклонной.
Когда дверь за ней закрылась, Тони глубоко вздохнул, вытер платком лоб и выпил стакан содовой. Вошел, по-видимому, получивший инструкции лакей и предложил провести его в туалет, а когда Тони отклонил это предложение, вошел другой лакей и доложил о приходе капитана Мартлета. Не прошло и пяти минут, как они уже познакомились и оживленно беседовали. Мартлет интересовался больше всего открытием новых земель, но так как открывать в этом мире оставалось, в сущности, не так уж много, то он путешествовал по отдаленным и малоизвестным местам.
Тони нашел, что он умный и хорошо осведомленный человек, и заметил, к немалому своему удивлению, что их взгляды во многом совпадают. Он с глубоким вниманием слушал его рассказ об одной экспедиции, когда Эвелин вернулась, и капитану Мартлету пришлось поневоле прервать свой рассказ.
Через несколько минут Тони попытался вернуть разговор к этой безопасной и к тому же интересовавшей его теме, но Мартлет дал ему понять, что не намерен продолжать. В присутствии Эвелин он словно стал другим, более заурядным человеком. Тони не без зависти прислушивался к тому, как Мартлет с изысканной любезностью изливал целые потоки светской болтовни, настолько пустой, что у Тони не осталось в памяти ни единой фразы. Между тем Эвелин, очевидно, не только считала такую болтовню вполне естественной, но и наслаждалась ею.
Единственно, в чем Мартлет проявил искренность, было одобрительное замечание по адресу Джима, мужа Эвелин, из чего Тони заключил, что Мартлет и Джим – большие друзья, несмотря на то, что Джим много старше. Под прикрытием «беглого огня» Мартлета Тони ломал себе голову над вопросом, почему люди, по-видимому, вполне порядочные и неглупые, заставляют своих жен быть тем, чем стала Эвелин.
Кто а этом виноват, они или женщины?
Около десяти часов Тони поднялся, чтобы уйти, сославшись на то, что обещал зайти за Маргарит и проводить ее домой. Как будто Маргарит нуждалась в том, чтобы ее провожали! Но это показалось ему удобным предлогом, который и на самом деле был понят. Присутствие Мартлета оказалось во всех отношениях великой удачей, и в течение последнего часа атмосфера стала положительно сердечной. Тони надеялся, что холодок, ощущавшийся в начале вечера, мог сойти за вполне понятное смущение при встрече после стольких лет разлуки. Он намекнул на это вскользь при прощании и с радостью убедился, что это было принято как должное. Эвелин сошла вниз проводить их и, когда они прощались, сказала Тони:
– Могу я надеяться увидеть вас и Маргарит до отъезда? Мне бы очень хотелось познакомиться с ней.
– Мне самому бы этого ужасно хотелось, но, боюсь, вряд ли это удастся, – сказал Тони с светским лицемерием. – Я не сегодня-завтра уезжаю в Тунис.
– В Тунис? Зачем? По делу?
– Да, и на этот раз по настоящему делу.
– Боюсь, что вам не удастся поиграть там в гольф.
Тони не мог удержаться, чтобы не пустить на прощание маленькой парфянской стрелы.
– Ну, как сказать. Я слышал, что в Сахаре замечательные поля для гольфа. До свидания.
На Пикадилли Тони распрощался с Мартлетом, пожалев, что предлог, придуманный им, чтобы уйти от Эвелин, не позволял ему проводить капитана и дослушать его рассказ об экспедиции. Теперь эта история останется для него навсегда незаконченной, а все потому, что приходится лгать людям, вместо того чтобы сказать откровенно: «Я ухожу» или «Я не смогу увидеться с вами до вашего отъезда». Досадно, что ведь все знают: под этой ложью скрывается отсутствие мужества заявить обо всем честно. И вот в чем громадное преимущество кафе перед частным домом – там вы не гость, вы платите за место и за то, что выпьете, и можете уйти, когда вздумается. Этим и объясняется страсть молодежи к ресторанам – на кой черт им быть рабами семейного круга и хозяйки отеля?
Улицы были еще грязными после утреннего дождя, но Тони все же решил идти домой пешком. Ему необходимо было перед тем, как лечь спать, переварить метаморфозу, происшедшую с Эвелин… В сущности, ничего не поделаешь. Он просто должен привыкнуть к факту, что Эвелин, жившей в его памяти, больше не существует. До сих пор, когда он думал о ней, он всегда представлял себе свою Эвелин живущей где-то на белом свете, а теперь должен примириться с фактом, что она для него мертва, как если бы он сам присутствовал на ее похоронах.
Холодный северо-западный ветер сгонял тучи, а когда Тони свернул на более темную улицу, то увидел, что кое-где уже проступают бледные звезды. Он грустно раздумывал о том, что все, кого он знал и любил до войны, либо умерли, либо стали ему чужими и так или иначе ушли из его жизни. Но его ли это вина? Весьма возможно, но тем не менее это факт и довольно прискорбный. В самом деле, пора ему как-то обновиться, найти новый стимул к жизни.








