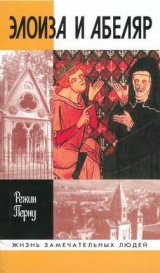
Текст книги "Элоиза и Абеляр"
Автор книги: Режин Перну
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 18 страниц)
«Наконец я прибыл в Париж». Это слово «наконец» очень сближает Абеляра с нашим временем, ведь сегодня любой студент, изучающий философию и начавший постигать курс наук в провинции, в одном из университетов, выразился бы именно так и никак иначе. Абеляр не сообщает нам никаких подробностей о своем путешествии. Примерно в тот же период некий монах из Флери (Сен-Бенуа-сюр-Луар) Рауль Тортер, проделавший путь от городка Кан до городка Байё, оставил нам очень живое, красочное описание этого маршрута; он с восхищением описал все товары, увиденные им на рынке в Кане, и рассказал о том, как повстречал на дороге кортеж короля Англии Генриха I, о том, что король был облачен в пурпурную тунику, что ехал он в окружении свиты, состоявшей из оруженосцев и щитоносцев, и что за королевским кортежем следовал настоящий зверинец, где имелись дикие животные, в том числе один верблюд и один страус. Монах рассказал, как он, оказавшись на морском побережье, стал свидетелем охоты на кита, каковую он и живописал в самых красочных выражениях, а завершалось повествование сообщением о том, что ему показалось, будто бы его отравили неким напитком, а именно кислым вином из виноградных выжимок, – им он угостился, добравшись до Байё. Но мы должны отказаться от поисков как в «Истории моих бедствий», так и в иных произведениях Абеляра описаний конкретных деталей, ибо Абеляр – философ, а не повествователь. Представляется наиболее вероятным, что Абеляр, сын богатого (или просто состоятельного) сеньора, ободрявшего его в стремлении продолжать учение, не оказался в той толпе, состоявшей в основном из очень бедных, даже нищих школяров, что брела по дорогам в облаках пыли; вероятно, он совершал путешествие так, как путешествовал в те времена всякий состоятельный человек, то есть верхом, быть может в сопровождении слуги, останавливаясь на ночлег в придорожных кабачках; следуя с запада, он направлялся, вероятно, по той дороге, чьи следы даже сегодня заметны на плане Парижа: это прямая линия, образованная улицами Томб-Иссуар, Сен-Жак и Сен-Мартен.
Быть может, Абеляр приближался к Парижу в небольшой группе школяров. Школы Парижа еще только обретали известность и доброе имя; да, разумеется, школа Нотр-Дам-де-Пари собора Парижской Богоматери существовала уже давно, основана она была, вероятно, еще во времена правления королей из династии Каролингов, но только в конце XI века, совсем незадолго до прибытия в
Париж Абеляра, стал нарастать поток школяров, желавших продолжить образование в Париже. Так, известен лотарингец Ольбер, ставший впоследствии аббатом в Жемблу и обучавшийся в аббатстве Сен-Жермен-де-Пре; известен и некий Дрогоний, который, вероятно, преподавал в одной из школ на острове Сите; совсем близко к Абеляру по времени шла молва и об уроженце Льежа по имени Губальд, преподававшем в школе на холме Святой Женевьевы; известно также и то, что земляк Абеляра бретонец Роберт д’Арбриссель тоже прибыл в Париж, чтобы совершенствоваться в науке, которую мы называем словесностью, или филологией. Но только с появлением в Париже прославленного диалектика Гийома из Шампо и самого Абеляра в качестве учителя утвердилась слава Сите как средоточия учености. Поэт Ги де Базош, живший во второй половине XII века, утверждал, что Париж выбрали в качестве места жительства семь сестер, то есть семь муз искусств, а англичанин Готфрид Винсальвский, живший чуть позднее, сравнивая Париж и Орлеан, заявил:
«Париж в области искусств распределяет хлеб, коим питают сильных, Орлеан же питает своим молоком тех, кто еще лежит в колыбели».
Современник Абеляра, Гуго Сен-Викторский в одном из своих трактатов, написанных в форме диалога, нарисовал очень живую картину, изображающую толпу парижских школяров и ту страсть к познанию, тот пыл, что ими движет:
– Повернись в другую сторону и смотри.
– Я повернулся и смотрю.
– Что ты видишь?
– Я вижу много школяров. Толпа их велика; я вижу здесь людей всех возрастов: детей, подростков, юношей, стариков. И изучают они разные дисциплины. Одни учатся произносить новые звуки и издавать необычные слова. Другие прилагают усилия к тому, чтобы познать правила склонения слов, их состав, их образование, сначала их слушая, а затем многократно повторяя вслух и про себя, как бы записывая их в памяти. Другие трудятся над восковыми табличками, выводя на них при помощи стилей [11]11
Стиль– палочка для письма. – Прим. пер.
[Закрыть]буквы. Другие рисуют разнообразные фигуры, чертят линии, набрасывают контуры различных очертаний и разных цветов, уверенно водя перьями по пергаменту, ибо руки их тверды. Другие же, горя более пылкой страстью и побуждаемые большим усердием, ведут между собой споры о важных вещах, по всей видимости, взаимно и обоюдно стремятся одержать победу над соперником при помощи изворотливости ума и изощренных аргументов. Я вижу также и тех, кто занят вычислениями. Другие, пощипывая пальцами струну, натянутую на деревянной подставке, извлекают разнообразные мелодии; иные объясняют, что означают разнообразные линии и рисунки, что есть такое меры длины и объемов; другие описывают расположение светил и их ход по небосклону и объясняют при помощи разнообразных инструментов явления, происходящие на небесах, и вращение планет; есть и такие, кто рассуждает о природе растений, о телосложении человека, о его свойствах, о различных особенностях и действиях.
Такова была среда, в которой Абеляру предстояло найти свое место, и, конечно же, это место было среди тех, «кто шел на приступ» секретов изворотливости ума и изощренной аргументации, то есть среди диалектиков. Если он прибыл в Париж, то не за тем ли, чтобы услышать самого прославленного из них – мэтра (магистра) Гийома из Шампо? И здесь надо представить слово ему самому, потому что никто лучше не сумеет столь кратко и в то же время полно описать жизненное поприще школяра, которое очень быстро превратится в жизненное поприще учителя.
«Я провел какое-то время в его школе. Сначала он принял меня хорошо, но вскоре я не замедлил стать ему неприятным и неудобным, ибо я старался опровергнуть некоторые из его идей и так как я, не боясь вступать с ним в спор, иногда имел преимущество и побеждал его. Подобная отвага и дерзость возбуждали гнев у тех из моих соучеников, что почитались первыми, и гнев их был тем сильнее, что я был младше их по возрасту и так как я пришел в школу позже всех. Так начались мои бедствия, которые продолжаются и по сию пору».
Конечно, надо обрисовать сцену, на которой происходили события, и действующих лиц. Итак, имелся преподаватель, пользовавшийся хорошей репутацией, можно даже сказать, прославленный; имелись ученики, теснившиеся вокруг наставника; и вот появился новичок, в котором остальные ученики сразу же усмотрели лицо подчиненное, того, кем можно помыкать, и того, кто будет смиренно все сносить; но предполагаемый смиренник не замедлил выказать свой независимый нрав и вызвать к себе всеобщую ненависть, ибо он прерывал всех (в том числе и учителя), кстати и некстати, постоянно оказываясь зачинщиком состязаний в красноречии и в рассуждениях, которые приводили всех в раздражение, тем более что он часто выходил из них победителем. В среде учеников начались «разброд и шатания», начался раскол, ибо прилежные ученики встали на сторону наставника, другие же, более независимые, более отважные и дерзкие, приняли сторону новичка, и вот уже там, где еще совсем недавно царили согласие и безмятежный покой, возникает всеобщее замешательство, воцаряется смута.
Абеляр, констатируя тот факт, что именно тогда началась череда его бедствий, совершенно прав: на протяжении всей своей жизни он будет для других человеком докучливым и несносным, тем, кто вечно спорит и приводит неопровержимые доводы, кто всем надоедает, ко всем пристает и всех раздражает, кто повергает многих в отчаяние. На протяжении всей своей жизни он одновременно будет возбуждать противоположные чувства: восторг и негодование. Разумеется, именно таким неудобным людям, именно таким «возмутителям спокойствия» человечество и обязано своими самыми значительными и неоспоримыми успехами. Но замечательные качества и дарования Абеляра несколько «подпорчены» непомерной его самоуверенностью. Кстати, подобная вера в себя, подобное тщеславие и кичливость относятся как раз к тому разряду недостатков, что любой преподаватель, наставник не прощает молодым людям, когда те бросаются в наступление и атакуют его престиж, то есть покушаются на самое для него драгоценное. Короче говоря, Абеляр был «постылым, ненавистным» учеником, и Гийом из Шампо реагировал на него так, как будут реагировать в будущем на таких учеников и студентов все университетские преподаватели: он проникся к нему ненавистью и ненавидел его так, как умеют ненавидеть интеллектуалы – яростно, упорно и неизменно.
Чтобы все отчетливо представить, надо постараться мысленно поставить себя в условия, в которых в эпоху Абеляра осуществлялось преподавание. Следует заметить, что между лекциями в том виде, что существуют сегодня в наших университетах, когда преподаватель говорит, а студенты делают записи, и уроками (или лекциями) в средневековых школах нет ничего общего. Чтобы представить себе царившую во время тех занятий атмосферу, скорее надо вспомнить о семинарах, что постепенно входят в практику во Франции в подражание университетам «англо-саксонских стран», где сохранились некоторые традиции, унаследованные от университетов Средневековья. На таких занятиях между наставником и учениками происходило то, что мы называем сегодня «диалог», – взаимный обмен мнениями. Кстати, процесс обучения неотделим в данном случае от процесса исследования, научного поиска; процесс обучения является как бы отражением процесса исследования и порождает ответную реакцию; всякая новая идея тотчас же становится предметом изучения, критики и споров, в ходе которых она видоизменяется и из нее произрастают новые побеги мысли; можно сказать, что динамизм в области философии тогда был весьма схож с тем динамизмом, что наблюдается сегодня в различных областях техники.
В основе подобного процесса обучения лежит чтение и изучение некоего текста, «lectio», а преподаватель – это тот, кто «читает». Данная практика наложит на систему преподавания столь глубокую печать, что и поныне на наших факультетах существует звание или должность «лектор». Соответственно, «читать» означает «преподавать» – именно в таком смысле следует понимать этот термин, когда заходит, скажем, речь о том, что в XII веке некоторые епископы запретили «читать» Аристотеля, то есть опираться на его наследие в системе образования; надо все же заметить, что этот запрет имел совсем иной смысл, чем запрет, налагавшийся особым списком запрещенных католической церковью книг, который появился в истории Церкви только в XVI веке.
Итак, «читать текст» означало изучать этот текст и давать к нему комментарии. Наставник, после вводной краткой части, сообщив ученикам сведения об авторе текста, сведения о его творчестве, конкретном изучаемом произведении и об условиях его создания, а также о его композиции, переходил к изложению темы, то есть собственно к комментариям. Традиция требовала, чтобы комментарий затрагивал три аспекта: словесность, то есть объяснение текста с точки зрения грамматики, смысл, то есть содержание текста с точки зрения разумности, и, наконец, сентенцию, то есть глубинную сущность текста, его содержание с точки зрения научной доктрины. Совокупность всех возможных комментариев составляла так называемую глоссу, и в наших библиотеках содержится великое множество манускриптов, являющихся «отражениями» подобного метода преподавания: в самом центре страницы помещается изучаемый текст, а на полях – разнообразные глоссы, относящиеся к областям, именуемым на латыни «littera», «sensus» и «sententia». До наших дней дошли глоссы, начертанные рукой Абеляра, – он сделал их в период «чтения» текстов Порфирия.
Но изучение текста, в особенности когда школяры добирались до глубинной его сущности, порождало массу вопросов, и завязывался диалог между наставником и учениками; вопросы переходили в «диспут», то есть дискуссию; определенно, дискуссия являлась необходимой составной частью упражнений, выполнявшихся школярами, в особенности в области диалектики, которая представляла собой, как мы уже видели, не только искусство рассуждать и делать умозаключения, но искусство вести спор. Надо сказать, что подъем, нет, даже взлет диалектики в XII веке был столь велик, что сей метод «публичных обсуждений спорных вопросов» получил распространение во всех науках, во всех областях знаний, как связанных с религией, так и чисто мирских, светских. В середине XII века появятся различные произведения Фомы Аквинского под названием «Сумма…», и подобно многим трактатам той эпохи все они будут иметь подзаголовок «Questiones disputate», [12]12
Обсуждаемые вопросы (лат). – Прим. ред.
[Закрыть]что является своеобразным свидетельством того, в каких условиях создавались эти произведения; они состояли из высказываний, из суждений, изучавшихся и обсуждавшихся в ходе диспутов, то есть представляли собой результаты, плоды преподавания в той же мере, в которой являлись результатами развития индивидуального мышления. Кроме дискуссий между наставником и учениками школяры иногда присутствовали и на диспутах, завязывавшихся между преподавателями, и о некоторых из этих споров до нас дошли определенные сведения: так, например, в эпоху, когда Абеляр постигал начала диалектики, монах Руперт, преподававший в Льеже в монастырской школе, игравшей очень важную роль в научной жизни того периода, отправился в Париж, чтобы принять участие в диспуте с Ансельмом Ланским и с Гийомом из Шампо по поводу теологической проблемы зла. Он не смог вступить в спор с Ансельмом Ланским, ибо тот незадолго до начала дискуссии умер, но, как свидетельствуют тексты, сошелся в яростном словесном поединке с Гийомом.
Что касается распределения времени занятий (мы сейчас называем это расписанием), а также разнообразных упражнений, которыми были заняты дни школяров, то мы располагаем свидетельством человека очень известного, прославленного – Иоанна Солсберийского, который был весьма близок с Томасом Бекетом и королем Англии Генрихом II Плантагенетом еще до того, как был возведен в сан епископа Шартрского, каковым и оставался до конца дней: «Мы должны были ежедневно вспоминать часть того, что нам сказали накануне, каждый в зависимости от его способностей. Таким образом, для нас каждый последующий день был последователем предыдущего; вечерние упражнения, именуемые упражнениями в склонении, были посвящены столь насыщенному изучению грамматики, что тот, кто предавался этим упражнениям с усердием и рвением в течение года, если он не был слишком скудоумен, уже мог по истечении этого срока излагать свои мысли устно и письменно должным образом и понимать смысл того, что нам обычно говорили на занятиях».
Итак, утро посвящалось проверке работы и знаний ученика, а вечер – собственно преподаванию. Иоанн Солсберийский упоминал также о таком явлении, как «collation», «чистка» или «поверка», то есть о собрании, в ходе которого наставник и ученики совместно в конце дня перебирали в памяти все пережитое и услышанное, делали краткие выводы; вероятно, всякий раз проходили совместные беседы, когда ученики стремились проявить свое остроумие, читались проповеди и наставления ради блага учеников.
О повседневной жизни школяров можно составить себе представление и при чтении советов, которые дал в следующем веке Робер де Сорбон. [13]13
Робер де Сорбон – духовник Людовика Святого, предоставивший средства для устройства в Латинском квартале Парижа коллегии для студентов, изучавших богословие; в его честь Парижский университет именуется Сорбонной. – Прим. пер.
[Закрыть]Существовало шесть правил, которым школяры должны были следовать неукоснительно:
1. Предназначить строго определенный час для каждого рода занятий или изучения текстов.
2. Сосредоточить свое внимание на том, что школяр читает.
3. Извлекать при каждом чтении текста некую основную мысль или истину и зафиксировать ее (сохранить) в памяти.
4. Составлять краткое резюме всего прочитанного.
5. Обсуждать свою работу с соучениками; и споры по поводу изученного материала королевскому духовнику казались более важными, чем собственно чтение текстов; наконец, в шестом пункте называлась молитва, ибо молитва, – утверждал Робер де Сорбон, есть истинный путь к пониманию.
Общее впечатление о школах, возникающее при чтении подобных заметок, рассыпанных там и сям по текстам той эпохи, таково: жизнь в школе того времени была «бурной, шумной, суматошной и отмеченной печатью непосредственности»; точно такое же впечатление оставляет и повествование Абеляра.
Что касается споров Абеляра с Гийомом из Шампо, походивших на состязания, то мы знаем о них как «от самого Абеляра», так и из единственного труда его наставника, дошедшего до нашего времени под названием «Sententie vel questiones XLVII». [14]14
47 нравоучений и вопросов (лат.) – Прим. ред.
[Закрыть]Разумеется, предметом этих споров-состязаний был вопрос, возбуждавший самый живой интерес среди тех, кто изучал диалектику, а именно вопрос об универсалиях. Позиция Гийома из Шампо была прямо противоположна той, что занимал Росцелин. Гийом был реалистом: для него термины, перечисленные «Во введении к Порфирию», о котором упоминалось выше, соотносились с реально существующими вещами и соответствовали им; итак, он поучал своих учеников в таком духе и утверждал, что вид есть нечто реальное и что он «проявляется» всегда один и тот же и целиком в каждом отдельном индивидууме.
Однако аргументы, приведенные Абеляром, заставляли Гийома отказаться от своей системы воззрений, ведь, доведенная до логического конца, эта система приводила к совершенно абсурдным выводам: из нее следовало, что Сократ и Платон, относящиеся к одному виду существ, являли собой человека. Гийом из Шампо был вынужден несколько подправить свой первый тезис: Сократ и Платон вовсе не один человек, но и в том, и в другом «проявляется» один и тот же вид, человеческая природа того и другого одинакова. Но подобное мнение, изложенное таким образом, может ли снискать милость Абеляра? Нет! Ученик вынуждает наставника уточнить употребленные термины и признать, что человеческая природа Сократа и человеческая природа Платона не идентичны, что они только схожи между собой.
Именно так можно изложить вкратце суть спора-состязания, длившегося много лет, в ходе которого соперники делали резкие выпады друг против друга и пускались в пространные рассуждения по поводу того, что собой представляет в Сократе его «сократичность», то есть особенность, а в человеке – его разумность и т. д., стремясь как можно точнее аргументировать каждое положение дискуссии. Свидетельством того, что соперники выстраивали целые «здания», громоздя массу умозаключений и выводов в попытке утвердить собственные мнения, можно считать отрывок из манускрипта, являющегося, вероятно, результатом трудов одного из учеников Абеляра, в котором автор этого текста, перечисляя положения, высказанные Гийомом («Наш учитель Гийом говорит…»), тут же приводит опровержение («Что касается нас, то мы заявляем…»). Как уже говорилось, Абеляр, прежде чем стать учеником Гийома, был учеником Росцелина, а это означает, что он владел целым «арсеналом» аргументов, которые можно было бы противопоставить аргументам Гийома из Шампо. Но вне всяких сомнений, Абеляр не ограничился повторением суждений и умозаключений первого наставника, ибо он вскоре создал собственную систему воззрений, отличную одновременно и от реализма Гийома, и от номинализма Росцелина, причем отличную до такой степени, что превратил первого учителя в своего непримиримого врага.
Сам же Абеляр тем временем начал карьеру преподавателя, и начал ее с поступка, о котором мы сейчас бы сказали, что он наделал много шуму.
«Так как я возымел о самом себе очень высокое мнение, не соответствующее моему возрасту, я, будучи еще очень молод, осмелился мечтать о том, чтобы стать главой школы».
Позже, много позже Абеляр, давая советы своему сыну, начнет их с рекомендаций, исполненных для него самого огромного смысла: «Хлопочи более о том, чтобы учиться, а не о том, чтобы учить». Далее он настоятельно советует: «Учись долго, преподавать начни поздно и обучай только тому, в чем уверен. Что же касается письменных трудов, то не торопись».
Таким образом Абеляр пытался уберечь дорогого ему человека от тех испытаний, через которые прошел он сам. Совершенно очевидно, что за обретение жизненного опыта пришлось дорого платить, что испытания были тяжкими и болезненными, по крайней мере те, которые ему выпали в середине и в конце пути, так как его первые шаги сопровождались оглушительным успехом, который он сам описывает с большим вдохновением и пылом: «Мысленно я уже наметил себе место, театр моих действий, это был Мелен, бывший тогда значительным городом и королевской резиденцией. Мой учитель заподозрил, что у меня есть подобные намерения, и тайно привел в действие все средства, коими он располагал, для того чтобы отдалить мою школу от своей; он пытался, пока я не покину его школу, помешать мне открыть мою школу, а также стремился не допустить меня в избранное мной место. Но среди сильных мира сего было немало его недоброжелателей, и при их поддержке и содействии мне удалось осуществить мое желание, а проявленная им зависть даже породила благорасположение ко мне».
Итак, Мелен стал первым «местом действия», где предстояло совершать подвиги Абеляру, перешедшему из разряда учеников в разряд преподавателей. Это был «королевский город», и в него легко можно было приехать из Парижа по дороге, которую, как и дорогу, связывавшую Париж с Орлеаном, проложили еще римляне. Школы этого города пользовались известностью и доброй славой, быть может, именно благодаря тому, что Абеляр провел там некоторое время… Роберт из Мелена, англичанин по рождению, впоследствии преподававший теологию в Париже, обязан своим именем как раз тому обстоятельству, что он жил и учился в этом городе, когда был школяром. Существует предположение, что Абеляр преподавал в школах коллегиальной (то есть обладавшей капитулом) церкви Нотр-Дам-де-Мелен. Однако пребывание Абеляра в Мелене было недолгим – жажда успеха и честолюбие заставляли его обращать свои взоры к другому городу. Он явно желал выступить в качестве соперника своего бывшего учителя Гийома из Шампо. Вдохновленный и ободренный своими успехами Абеляр, если верить его утверждениям, был окружен многочисленными учениками и теперь мог быть уверен в том, что отныне и впредь его слава знаменитого диалектика утвердилась прочно. «Так как успех только укрепил мое высокое мнение о моих способностях, я поспешил перевести мою школу в Корбейль, городок, расположенный неподалеку от Парижа, дабы иметь возможность приумножить количество моих нападок на моих соперников и противников».
Таким образом, можно смело утверждать, что в начале пути Абеляр выказывает основные черты своего характера, которые будут проявляться на протяжении всей его жизни: умение чрезвычайно искусно вести дискуссию на философские темы, благодаря чему он приобрел славу лучшего «спорщика» своего времени, замечательные способности к преподаванию, а также активность, воинственность, напористость. Невозможно представить себе Абеляра без свиты, состоящей из школяров, из восторженных учеников, из свиты, которая буквально преображается, как только он открывает рот или всходит на кафедру, предназначенную для наставника юношества; невозможно также представить себе Абеляра и без соперника, без врага, с которым предстоит сойтись в поединке и которого он должен одолеть. Похоже на то, что его первое призвание, унаследованное от воинственных предков-рыцарей, призвание воина, проявившееся не на поле битвы, а на мирном поприще, все же реализовалось, ибо Абеляр всего лишь перенес в область философских дискуссий присущий ему от природы боевой дух и воинственный нрав, и он сам не может удержаться, чтобы при описании первых шагов своей карьеры преподавателя не употреблять термины, свойственные скорее речи воина-стратега, а не магистра-философа или богослова.
Однако в Корбейле Абеляру пришлось на время прервать свою карьеру, так сказать, отступить… Начало ее оказалось воистину триумфальным, но этот великий успех был достигнут ценой чрезвычайно напряженной работы, за которой последовала неизбежная расплата: переутомление. Абеляр стал жертвой того недуга, что так хорошо известен нашему поколению: нервного и умственного перенапряжения. На человека легковозбудимого и впечатлительного, каким был Абеляр, успехи и неудачи оказывали одинаково сильное воздействие, истощая нервы и лишая сил к сопротивлению; надо заметить, что дальнейшая история его жизни представит и другие примеры подобного плачевного эффекта.
Как бы там ни было, но в результате то ли чрезмерно напряженной работы, то ли излишних треволнений Абеляр испытал внезапный упадок сил и, страдая от болезни, которую он называл «изнеможением», был вынужден вернуться в родные края, в Пале, чтобы поправить пошатнувшееся здоровье в кругу семьи. По сему поводу в своей автобиографии он не преминул заметить, что «об его отсутствии страстно сожалели те, кто питал страсть к диалектике».
Укрепив здоровье, Абеляр поспешил вернуться в Париж, полагая, что пребывание в Бретани, в лоне семьи, слишком напоминает изгнание. Похоже, тогда он задался целью когда-нибудь приступить к преподаванию в Париже, а это означало, что ему надлежало выйти победителем в споре, в котором он в философском плане противостоял своему бывшему наставнику Гийому из Шампо. Когда Абеляр возвратился в Париж, Гийом из Шампо преподавал уже другой предмет – он читал курс риторики, и Абеляр вновь поступил к нему в обучение. Быть может, Гийом не особенно обрадовался, увидев, что Абеляр восседает у подножия его кафедры, ведь он вновь «оказался под огнем» сыпавшихся на него вопросов и доводов несносного ученика. Именно тогда Гийом изменил свою первоначальную позицию по отношению к знаменитому вопросу об универсалиях. «Гийом из Шампо был принужден изменить свое мнение, а затем и вовсе отречься от своих прежних воззрений, и он увидел, что к его лекциям ученики стали относиться с таким пренебрежением, что ему едва позволяли преподавать диалектику». Хотя повествование в данном месте страдает нечеткостью изложения, все же мы узнаем от Абеляра, что он сам спустя несколько месяцев вновь приступил к преподаванию, и не где-нибудь, а в самом Париже, в школах собора Нотр-Дам. «Самые ярые приверженцы этого знаменитого наставника покинули его ради того, чтобы присутствовать на моих лекциях; сам преемник Гийома из Шампо явился ко мне и предложил занять его место на кафедре, а также для того, чтобы смешаться с толпой моих слушателей в том самом помещении, где когда-то блистал его и мой учитель». Данная фраза Абеляра означает, что Гийом из Шампо, разочарованный и павший духом от неудач, оставил кафедру в пользу одного из своих учеников, которого Абеляр не замедлил вытеснить, то есть выжить с места.
Однако для того, чтобы составить себе полное и верное представление о героях этой истории и происходивших в те времена событиях, надо знать, что причиной этих событий было не только соперничество Абеляра и Гийома из Шампо. Действительно, если верить тому, что написано в «Истории моих бедствий», все это происходило после 1108 года, то есть после того, как Гийом из Шампо основал Сен-Викторское аббатство уставных каноников на месте, где прежде находился небольшой монастырь. Итак, на левом берегу Сены, ниже холма Святой Женевьевы, там, где можно было вброд перейти речушку Бьевр, в доме настоятеля монастыря вокруг Гийома из Шампо однажды собрались несколько священнослужителей и приняли решение, следуя «веяниям» времени, вести совместную жизнь. Вскоре на этом месте возник крупный монастырь, превратившийся в монашеский орден со своими школами, где впоследствии будут блистать некоторые из самых выдающихся мыслителей XII века, такие, как Гуго, Ришар и Адам Сен-Викторские и многие, многие другие. Однако не вызывает никаких сомнений то, что Гийом из Шампо, удалившийся за стены Сен-Викторского аббатства, не мог спокойно отнестись к замене наставника в школах собора Нотр-Дам, ведь оставил он там после себя одного из самых верных своих последователей, а на его месте вдруг оказался нелюбимейший из учеников. «Не имея никаких оснований для того, чтобы объявить мне войну открыто, он выдвинул против того, кто уступил мне свою кафедру, гнусное, позорное обвинение, дабы иметь повод отстранить его от дел и поставить на его место другого в школах собора Нотр-Дам, дабы нанести мне удар». У Абеляра не было иного выхода, кроме как вернуться в Мелен и вновь открыть там свою школу. «Чем более я подвергался преследованиям со стороны завистника, тем более я выигрывал в уважении других согласно словам поэта: „Величье – мишень для зависти; бури обрушиваются на горные вершины“» («Высшее – зависти цель. Бурям открыты вершины», цитата из «Лекарства от любви» Овидия). После того как Гийом из Шампо прочно обосновался в Сен-Викторском аббатстве, Абеляр, движимый честолюбием и непреходящей жаждой успеха, возвратился в Париж. «Но так как он посодействовал тому, что мою кафедру занял мой соперник, я разбил свой лагерь вне города, на холме Святой Женевьевы, так, словно собирался держать в осаде того узурпатора, что незаконно получил мое место».
«Мою кафедру… мое место…» Итак, если судить по этим словам, то можно утверждать, что Абеляр рассматривал школу собора Нотр-Дам в качестве своей личной собственности. Именно вокруг него собирались теперь ученики, именно к нему они стремились попасть, и поток этот все ширился, к вящей досаде его бывшего наставника. «При сем известии Гийом, утратив всякий стыд, возвратился в Париж, переведя остававшихся при нем учеников и немногочисленную братию в прежний монастырь, словно для того, чтобы освободить от моей осады того наместника, что он там оставил». Далее Абеляр «приставляет к своим устам рог», чтобы протрубить о своей победе: «Но желая оказать ему услугу, Гийом его погубил. В действительности у сего несчастного [у главы школы собора Нотр-Дам-де-Пари] еще оставалось несколько учеников, в основном из-за его лекций о Присциане, благодаря коим он и обрел свою репутацию. Когда же учитель [Гийом] вернулся в Париж, он их всех тотчас же потерял, был вынужден отказаться от руководства школой и вскоре, совсем отчаявшись обрести мирскую славу, принял решение приобщиться к жизни в монашеской обители. Всем давно хорошо известно о том, что мои ученики вели споры с Гийомом и его учениками после его возвращения в Париж, о том, сколь успешны для нас были исходы этих битв, ибо фортуна даровала нам победу, а также о том, что победами этими мои ученики были обязаны мне. Все, что я могу с гордостью сказать о себе, если вы спросите меня о том, каков был итог сего сражения, то, питая чувства более скромные, чем питал Аякс, все же повторю его слова: „Спросите ль вы об исходе битвы меня, то отвечу я вам: побежденным я не был“». Абеляр цитирует Овидия, он, как это было принято в его время, буквально «усыпает» свои труды цитатами из творений античных авторов и из трудов отцов Церкви; но общая тональность «Истории моих бедствий» – это тональность античного эпоса, и выпады в адрес противника здесь следуют один за другим, как в ходе поединка на рыцарском турнире. Несомненно, Абеляр теперь обладал всеми преимуществами победителя. Но рассказ об этих событиях, но сам тон повествования, в котором скромность всего лишь «позаимствованная», напускная, выдают нам нашего героя с головой. Да, Абеляр – совершенный, безупречный диалектик, несравненный учитель, великолепный наставник, и перед нами он раскрывается как человек величайшего ума, но, щедро наделенный всем, что касается интеллекта, он был, увы, гораздо скупее одарен собственно человеческими добродетелями. Зависть – ее приписывает Абеляр своему старому учителю, Гийому из Шампо, – явление вполне вероятное и понятное, ведь подобные чувства может испытывать всякий учитель, наблюдающий, как бывший ученик превосходит его в учености. Однако Абеляр на этом не останавливается и не стесняется приписать Гийому из Шампо чувства и намерения, безусловно, несовместимые с теми фактами, что известны нам из биографии Гийома. Когда Абеляр пишет, что Гийом «совлек с себя свои прежние одеяния, дабы вступить в монашеский орден, руководствуясь мыслью о том, что проявление ревностного усердия, как поговаривали, поможет ему продвинуться по пути обретения высокого сана, что и не замедлило случиться, ибо он был назначен епископом в Шалон», то обвинение это легко можно опровергнуть, поскольку известно, что Гийом из Шампо трижды отказывался от места епископа Шалонского. К тому же очень трудно вообразить, что созданием такой обители, как Сен-Викторское аббатство, Церковь обязана всего лишь честолюбию человека, который мог бы с гораздо большим успехом привлечь к себе всеобщее внимание и гораздо быстрее продвинуться по пути «обретения высокого сана», проповедуя в парижских школах, чем удалившись в глушь, в безвестный монастырь на берегу реки Бьевр.








