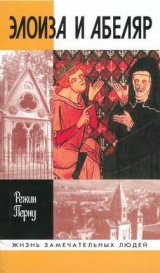
Текст книги "Элоиза и Абеляр"
Автор книги: Режин Перну
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 18 страниц)
Режин Перну
Элоиза и Абеляр
На свете есть всего две драгоценности:
одна – это любовь,
другая, куда менее ценная, – это ум.
Гастон Берже
ПОВЕСТЬ О ВЕЛИКОЙ ЛЮБВИ И ВЕЛИКОЙ НЕНАВИСТИ

Из всего обширного литературного наследия этой замечательной женщины, не так давно от нас ушедшей, на русском языке до сих пор были опубликованы только две книги. [1]1
Перну Р., Клэн М.-В. Жанна д’Арк. М., 1992, Перну Р. Ричард Львиное Сердце. М., 2000.
[Закрыть]Теперь появилась третья, не уступающая тем двум как по важности темы, так и по манере исследования и изложения. Но прежде чем говорить о книге, нелишне вспомнить об авторе.
Режин Перну (1909–1998) родилась и провела детские годы в Шато-Шиноне, небольшом городке Центральной Франции с большим историческим прошлым. [2]2
Как известно, Шато-Шинон был местом исторической встречи Жанны д’Арк с дофином Карлом, будущим Карлом VII.
[Закрыть]Окончив университет в Экс-ан-Провансе и не считая свое образование завершенным, она поступила в парижскую Школу хартий, обитель прославленных эрудитов, защитила докторскую диссертацию в Сорбонне, а затем преодолела еще один рубеж – Школу искусств при Лувре, овладев специальностью не только историка-архивиста, но и искусствоведа. А дальше пошли научные изыскания, преподавание, литературный труд.
Первые печатные произведения Режин Перну появились в сороковые годы XX века, причем многие из них уже тогда носили полемический характер, отвечая на острые запросы времени. Среди обширного списка ее опубликованных в разное время работ обращает на себя внимание книга, вышедшая еще в первой половине столетия, – «Свет Средних веков», [3]3
Lumière du Moyen Age. Р., 1946. Переиздана в 1988 году и удостоена престижной литературной премии.
[Закрыть]само название которой говорит о многом: автор как бы противопоставляет свое видение той далекой эпохи легиону обскурантов, толкующих о «мрачном Средневековье» как о некоем провале в истории человечества. И уже здесь ощущается коренная особенность менталитета мадемуазель Перну – ее глубокая и искренняя религиозность, пронизывающая все ее творчество и весь жизненный путь. О чем бы она ни писала, будь то биографии средневековых монархов и королев, история Крестовых походов или даже такой далекий от эмоций обобщающий труд, как «История буржуазии во Франции», [4]4
Histoire de la bourgeoisie en France. V. 1–2. P., 1976–1977, переиздана в 1981 году.
[Закрыть]– всюду особенность эта неизменно обращает на себя внимание. Главными же среди трудов Перну, отнюдь не преуменьшая значения всего остального, следует считать «Жанниану» – стойкую защиту Жанны д’Арк от всех происков и вывертов лжеисториков и воссоздание истинного образа бесстрашной французской героини. На этой стезе мадемуазель Перну не только морально уничтожила своих противников, всех этих «кошонов», следуя ее ироническому определению, [5]5
Пьер Кошон – епископ, пославший Жанну на костер. По иронии судьбы, французское слово «кошон» (cauchon) означает «свинья». См. публицистический труд Р. Перну «Jeanne devant les cauchons». P., 1970.
[Закрыть]но и сумела создать нечто, ярко высветляющее ее незаурядный талант организатора: любимое детище, пестуемое ею в течение почти пятнадцати лет, – Орлеанский центр Жанны д’Арк, который, собственно, нас и сблизил.
Впервые мне довелось встретиться с Режин Перну летом 1976 года, на своеобразной пресс-конференции, устроенной журналом «Советская женщина». Результатом этой встречи стало приглашение в Орлеанский центр, на коллоквиум, посвященный 750-летию освобождения Орлеана Жанной д’Арк. [6]6
Об Орлеанском центре Жанны д’Арк и коллоквиуме 1979 года см. Левандовский А. Жанна д’Арк. Издание второе, исправленное и дополненное. М., 1982. Книга 4, глава 7.
[Закрыть]На коллоквиуме пишущий эти строки в единственном числе представлял советскую делегацию и выступал от лица всей отечественной медиевистики. Не стану на этом задерживаться, скажу лишь, что на протяжении всего коллоквиума я ежедневно, в свободное от заседаний время, встречался с Режин Перну, и беседы, а затем и переписка с ней оставили незабываемый след в моей жизни. И вот тут-то, в ходе нашего общения, впервые промелькнули имена Абеляра и Элоизы. А затем мне довелось повстречаться и с этой книгой, но тогда ее создательницы уже не было на свете…
***
Литература об Абеляре и его горестной истории довольно обширна, в том числе имеются и работы, доступные русскоязычному читателю. [8]8
См. библиографию в конце книги. К ней из числа русскоязычных работ следовало бы добавить кн. Гаусрат Р. Средневековые реформаторы. Т. 1. Абеляр – Арнольд Брешианский. СПб., 1900.
[Закрыть]Однако смело можно сказать, что никто из прежде писавших не проник столь глубоко в суть отношений Абеляра и Элоизы, как это сумела сделать Режин Перну. И далеко не случайно в заглавии она поставила Элоизу на первое место, хотя большая часть текста (что вполне обоснованно) посвящена Абеляру. По существу, эта книга прежде всего – гимн Женщине и ее великой любви. С поразительным мастерством Перну сумела показать или, точнее, выстроить линию ее возникновения, развития и апофеоза, начиная с простого «блуда» и завершая подлинной любовью в самом высоком смысле слова. В этой коллизии ведущее место почти все время принадлежало Элоизе. Если Абеляр с самого начала действовал с эгоизмом мужчины, думая лишь о разрешении своих сексуальных проблем, а потом больше всего заботясь, как избежать неприятных для себя последствий, то Элоиза, отдавшись чувству со страстностью, не иссякшей и после того, как любовник и муж стал для нее недосягаем, одновременно проявила редкую самоотверженность и своим упорством в конце концов победила эгоизм Абеляра, доведя его чувство до «небесных высот», к которым, уже с его помощью, пришла и сама.
Эта линия, очень ясно и четко прочерченная, – безусловно, одно из главных достижений автора. Но, разумеется, в работе об Абеляре гораздо большее место должен был занять другой сюжет, а именно его научная и преподавательская деятельность со всеми сопутствующими проблемами. Интеллектуальная жизнь Абеляра разобрана в книге подробно и динамично, с экскурсами в разные эпохи и страны. Однако при этом автор рассчитывает на такое знание средневековой философии и теологии, какое не только для нашего, но и для французского читателя, далекого от «научных» споров XII века, едва ли характерно. Поэтому будет совсем не лишним дать некоторые разъяснения, или, точнее говоря, выяснить самую суть причины той великой ненависти, которую проявили к своему собрату его оппоненты, а позднее и Церковь в целом, ненависти, которая придавила, а затем и раздавила Абеляра как в переносном, так и в прямом смысле слова.
Пьер Абеляр формировался как философ в условиях жестокой идейной борьбы, волновавшей весь Запад в период классического Средневековья. То была схватка между двумя направлениями, зародившимися еще в эпоху поздней Античности, между «реалистами» и «номиналистами». Реалисты, последователи Платона, считали, что первичными являются понятия о предметах, а сами предметы – лишь отражение этих понятий: nominalia sunt realia, то есть реальны только имена. Номиналисты же, отталкиваясь от положений Антисфена, некогда критиковавшего Платона, напротив, утверждали, что идеи или понятия (универсалии) сами являются лишь отражением материальных предметов и, не имея реального содержания, существуют не в действительности, а только в воображении. Первый из учителей Абеляра, широко известный в ученых кругах Росцелин, исповедовал номинализм и считал, что универсалии – «не более чем колебания воздуха». Что до второго и последнего учителя будущего философа, Гийома из Шампо, то он принадлежал к крайним реалистам и был непримиримым врагом Росцелина.
Видя, как его наставники яростно поносят друг друга, молодой Абеляр последовательно отошел и от одного, и от другого, обратившись к Аристотелю, который, в отличие от Платона, считал, что общее существует в неразрывной связи с единичным, являющимся его внешней формой. Исходя из посылок Аристотеля, Абеляр стал внушать своим ученикам, что универсалии не обладают самостоятельной реальностью, реально существуют лишь материальные вещи, но при этом универсалии получают некоторую реальность в сфере ума, обобщающего отдельные качества вещей, благодаря свойственной уму способности к абстракции. Таким образом, отвергая реализм, Абеляр, в отличие от номиналистов, утверждал, что в единичных предметах все же есть нечто общее, а именно концепт (смысл). Вследствие этого учение Абеляра и получило в дальнейшем название концептуализма.
Блестяще изложенное учение это, вызывая восторг учеников, сделало учителя в короткое время самым популярным из всех своих коллег. Но это же вызвало и лютую злобу его бывших наставников и их кланов; если раньше Росцелин и Гийом изрыгали хулу друг на друга, то теперь совместная ненависть их сторонников обратилась против общего врага. Впрочем, это пока что мало беспокоило Абеляра – он был достаточно силен, чтобы обороняться и давать сдачи. Но когда, все более воодушевляясь своими успехами у слушателей, он вступил на новый этап, перейдя от философии к «науке всех наук» – богословию, положение круто изменилось: теперь ему пришлось иметь дело с противником неизмеримо более сильным, с всемогущей Церковью.
Как известно, христианская религия, будь то католицизм, православие или протестантизм, построена на догматах, не подлежащих критике. Еще во II веке один из отцов церкви, Тертуллиан, сформулировал знаменитый постулат: credo quia absurdum – «Верю, потому что нелепо», а современник Абеляра, Ансельм Кентерберийский, утверждал: «Верю, чтобы понимать». Но Абеляр, с его отточенно-логическим мышлением, не хотел верить нелепому, и выдвинул противоположное положение: «Понимаю, чтобы верить». Иначе говоря, он стремился осмыслить христианскую догматику, придать ей логическое обоснование, не отдавая себе отчета в том, к чему это могло привести.
Главным камнем преткновения, о который Абеляр сначала споткнулся, а затем и разбился, был центральный догмат христианской теологии – существо Троицы. Согласно этому догмату единый Бог, воплощающий самопознание и любовь, существует в трех неслиянных и нераздельных лицах – Отца, Сына и Святого Духа. Вот эту-то «неслиянность» и «нераздельность» Абеляр и рискнул логически объяснить. Он определил Троичного Бога как единое высшее совершенство в трех проявлениях: Божественная Сущность в своем могуществе есть Отец, в своей мудрости – Сын-Слово ( Logos), в своей любовной благости – Дух Святой. Отношение этих трех ипостасей, согласно Абеляру, подобно трем лицам грамматики: одно и то же лицо одновременно является. 1-м, 2-м и 3-м, не меняясь в своем существе. Такое утверждение, слишком тонкое для теологов XII века, показалось им более чем подозрительным, и они усмотрели в нем прямую «ересь». Абеляра обвинили в том, что он якобы дерзнул «разделить неразделимое», отрицая могущество и мудрость Святого Духа, мудрость и благость Отца, благость и могущество Сына. К этому, главному обвинению было добавлено множество других, и все вместе рассматривалось как покушение на основы религии и Церкви.
Следует, правда, заметить, что святые отцы не сразу сокрушили своего оппонента: сначала они сделали ему предупреждение. Суассонский собор, хоть и осудил Абеляра, но в дальнейшем осуждение это не имело больших последствий и вскоре было забыто. Философ вновь смог рассуждать и преподавать, его успехи у аудитории росли от года к году, и он настолько уверился в прочности своего положения, что даже, рассчитывая взять реванш, первым бросил перчатку: он стимулировал созыв нового, Санского собора, на котором думал оправдаться и побить своих врагов. И только уже в самом Сансе он понял, что дело плохо, что против него собран весь синклит Церкви, что решение уже принято и пощады не будет. Понял настолько ясно, что потерял и свой задор, и душевные силы, в результате чего даже отказался от выступления и отбыл с собора, не дождавшись его конца. Интуиция его не обманула. Действительно, собор не только осудил, но и погубил Абеляра, сразив его насмерть…
Здесь остановимся и вернемся к автору книги, ибо впереди ждет один деликатный вопрос, на котором нельзя не остановиться.
Выше я отмечал глубокую религиозность Режин Перну. И вот, по мере того как повесть об Абеляре приближалась к концу, ее создательница должна была чувствовать себя все в более и более сложном положении. Как автор, влюбленный в своего героя, она хотела бы оправдать Абеляра, но как верная дочь католической церкви сделать этого не могла. Ей виделся только один выход: примиритьгероя с уничтожившей его Церковью. И она приложила максимум стараний, чтобы это сделать. Согласно ее видению, «мятежник» в конце концов «образумился», а Церковь пошла ему навстречу: в Клюнийском монастыре он нашел гостеприимное убежище от всех мирских треволнений, а аббат монастыря, Петр Достопочтенный, став его духовным врачевателем, обеспечил ему душевное выздоровление и умиротворение. Вряд ли можно согласиться с подобной трактовкой. В действительности Абеляр как тонкий мыслитель и талантливый педагог был полностью сломлен Церковью, осудившей, заточившей в монастырь и обрекшей «на вечное молчание» его, поразившего мир своим красноречием и отточенной логикой мысли. Уже на Санском соборе он почувствовал, что это конец, и не смог даже найти в себе силы, чтобы выступить с ответом на обвинения. А дальше… Дальше была медленная агония, закончившаяся неизлечимой болезнью и преждевременной смертью. И при этом Абеляр еще должен был благодарить судьбу, что жил в XII веке: родись он на три-четыре столетия позднее, гореть бы ему как «еретику» на том костре, который сжег Яна Гуса, Жанну д’Арк и Джордано Бруно…
На такой ноте не хотелось бы заканчивать разговор о прекрасной книге, написанной прекрасным автором. А потому вспомним еще раз о той великой Любви, которую сумела понять и изобразить Режин Перну, о любви, которой сама она была наделена и которая всегда оказывается сильнее ненависти и злобы.
А. П. Левандовский
Глава I. НАЧАЛО ПУТИ: ОДАРЕННЫЙ ШКОЛЯР
На протяжении всей жизни тебе сопутствовал успех и величавый блеск славы
Абеляр. Плач Давида над телом Авенира
«Ну наконец-то: вот он – Париж!» – подумал молодой школяр, на протяжении многих дней двигавшийся по почти прямой дороге, что соединяла Орлеан с Парижем и была своеобразным «наследством», доставшимся от древних римлян. А теперь в излучине Сены он увидел возвышавшиеся над берегом башни и колокольни. Слева осталась маленькая церквушка Нотр-Дам-де-Шан, оправдывавшая свое название тем, что стояла она в чистом поле; направо – аббатство Сент-Женевьев на вершине холма, на склонах которого уступами располагались виноградники. Он миновал приземистое здание, более походившее на крестьянскую постройку, чем на монастырь, тем более что поблизости виднелся пресс, на котором отжимали виноградный сок; окружавшие монастырь виноградники и мощные, крепкие его стены только увеличивали сходство этого старинного, вернее, очень древнего здания, именовавшегося в эпоху правления Юлиана Отступника Дворцом терм, с крестьянским строением. И вот уже наш школяр оказался вблизи Малого моста, слева от него находилась церковь Сен-Северен, справа – церковь Сен-Жюльен-ле Певр, а впереди, на западе, он различал очертания Сен-Жермен-де-Пре. Поднявшись на мост и лавируя между домами и лавками, нависающими над рекой, он продолжал повторять про себя: «Наконец-то, наконец-то я в Париже!»
Но почему Пьер Абеляр так жаждал увидеть Париж? Почему он считал прибытие в Париж самым главным, самым решающим моментом в своей жизни? Ведь о Париже того времени можно было сказать то, что сказал о нем поэт – современник Абеляра: «Париж в те дни был очень мал».
Париж, теснившийся в границах острова Сите и не выходивший за его пределы, тогда был весьма далек от того, чтобы быть и считаться столицей. Конечно, король появлялся иногда в Париже и проводил какое-то время во дворце, но все же чаще его можно было видеть в других резиденциях: в Орлеане, Этампе или Санлисе. Определяющей в желании увидеть Париж не могла быть в данном случае и «притягательность» большого города; кстати сказать, в ту пору, то есть около 1100 года от Рождества Христова, такой притягательной силы вообще не существовало. К тому же для двадцатилетнего юноши могло найтись множество иных причин отправиться в путь-дорогу.
Год 1100… Всего шесть месяцев прошло с того момента, как Готфрид Бульонский и его рыцари вновь завладели святым городом Иерусалимом, более четырех веков назад утраченным для христианского мира, казалось, навсегда; один за другим возвращались теперь из Крестового похода владетельные благородные сеньоры и простые воины, выполнившие свой обет, а навстречу им уже двигались другие, воодушевленные стремлением с оружием в руках поддержать горстку рыцарей, что остались за морем: зов Святой земли стал отныне столь же привычным, как и призыв отправиться в паломничество по святым местам. На дороге, по которой шел Пьер Абеляр, на дороге, ведущей не только в Париж, но и в Сантьяго-де-Компостела, он встретил немало таких паломников, следовавших группами от одного пристанища, или приюта, находившегося на так называемых «остановках», до другого; вероятно, видел он на этом пути и немало торговцев, гнавших впереди себя вьючных животных, они добирались с рынка на ярмарку, с берегов Луары на берега Сены…
Но ничто из того, что он видел, не волновало Пьера Абеляра. Если его и вдохновляла жажда славы, то утолить ее он рассчитывал отнюдь не рыцарской доблестью. Абеляр был старшим сыном своего отца, то есть наследником отцовского состояния, и только от его решения зависело обретение славы на военном поприще. Однако Абеляр, старший сын владетельного сеньора-рыцаря из Пале, владевшего землями у границ Бретани, уступил свое право первородства одному из своих братьев – то ли Раулю, то ли Дагоберу. Он разделял со многими своими современниками страстную веру в Господа и усердно, с великим пылом предавался молитвам, но в Париж он отправился все же не для того, чтобы принять постриг и стать монахом одного из аббатств: Сен-Дени, Сен-Марсель или Сент-Женевьев. Нет, цель у него была иная…
Что больше всего привлекало его, что притягивало словно магнитом? Как он сам объясняет в «Письме к другу», [9]9
Это произведение можно назвать его автобиографией, оно известно в русском переводе как «История моих бедствий». – Прим. пер.
[Закрыть]Париж в то время уже был воистину «городом свободных искусств» и «в особенности процветала среди них диалектика, то есть искусство вести полемику». Ибо быть школяром (или, выражаясь современным языком, студентом) в XII веке означало заниматься диалектикой, то есть вести бесконечные споры по поводу тех или иных тезисов или антитезисов, высшего и низшего, основного и второстепенного, «предшествующего» и «последующего». У каждой эпохи есть свой «конек» – излюбленное увлечение, излюбленная тема дискуссий. В наше время великим человеком может считаться тот, кто осуществляет исследования в сфере генетики или в области атомной энергии, но всего лишь несколько лет назад мощный поток увлекал множество молодых людей к идеям экзистенциализма, и живейший интерес заставлял их вести споры по поводу бытия и небытия, сущности и существования. Можно смело утверждать, что во все времена движение человеческой мысли обретало некое доминирующее, главное направление, которое было способно оказать огромное воздействие на целое поколение, и в этом XII век ничем не отличался от XX века.
Более всего занимала тогда умы людей образованных диалектика, то есть искусство рассуждать, искусство вести полемику. Диалектика почиталась действительно истинным и высоким искусством, ее считали, как писал за 200 лет до того Рабан Мавр, «наукой наук, ибо она обучает тому, как надобно обучать, она учит учить, именно в ней разум открывает и показывает, что он есть и чего он желает, что он видит».
Итак, понятие «диалектика» в XII века охватывало примерно ту же сферу, что и понятие «логика»; диалектика учила использовать тот инструмент, который был главным орудием человека – разум, рассудок, для поисков истины. Однако логика может быть инструментом деятельности одинокого мыслителя, следующего от одного рассуждения и умозаключения к другому для того, чтобы сделать какой-либо вывод, к которому приводят его поиски, причем поиски индивидуальные; диалектика же в отличие от логики предполагает дискуссию, беседу, обмен мнениями. И именно в такой форме, в форме спора или диспута, то есть публичного обсуждения, и осуществлялись тогда поиски истины. Возможно, именно это и отличает существовавший тогда «мир школы», «мир обучения» от существующего сегодня «мира образования»; все дело в том, что в те времена не представлялось возможным достижение некой истины, которая прежде не подверглась бы процессу обсуждения. Вот чем обусловлена важнейшая роль диалектики, обучающей ставить вопросы, которые могут служить предпосылками беседы; диалектики, обучающей тому, как надо правильно, сейчас сказали бы «корректно», формулировать некие предположения, как надо упорядочивать высказывание и употреблять термины, как и в какой последовательности выстраивать части речи, элементы спора и выражать свою мысль, – то есть в конце концов обучающей всему тому, что позволяет дискуссии быть плодотворной.
Именно так и судил о диалектике Пьер Абеляр, изучению именно диалектики и совокупности ее доводов он отдавал предпочтение среди прочих разделов философии. Одержимый жаждой знаний и страстно желавший учиться, Абеляр прежде всего «объехал провинции», по его собственному выражению, чтобы побывать на уроках прославленных диалектиков, где бы они ни находились. Как он сам пишет (а следует заметить, что стиль его произведения возвышен и весь пропитан воспоминаниями об Античности), он «покинул совет Марса, чтобы найти прибежище в лоне Минервы», он променял «все военные доспехи и оружие на оружие логики и пожертвовал блеском побед на полях сражений ради состязаний в ходе диспутов и ради побед, обретаемых в дискуссиях». Но не следует видеть в нем сына знатного семейства, решившегося на разрыв с семьей: Абеляр отрекся от своего права старшинства и от причитающейся ему доли наследства с согласия своего отца – Беренгария; тот сделал все, чтобы ободрить сына и помочь ему следовать своему призванию, каковое уже тогда было явным, ибо Пьер весьма рано продемонстрировал, что он от природы наделен недюжинным острым умом, и блестящие способности сына очень радовали отца и соответствовали отцовским наклонностям. «Отец мой, прежде чем перепоясаться воинским поясом, получил некоторое образование, а позднее он проникся к наукам столь страстной любовью, что пожелал дать своим сыновьям образование в области словесности еще до того, как приступить к обучению их военному делу. Именно так он и поступил. Я был его первенцем, его любимцем, и с тем большим тщанием и рвением он пекся о моем образовании». [10]10
Здесь и далее отрывки из «Истории моих бедствий» даны в переводе Ю. М. Розенберг.
[Закрыть]
Подобное явление вовсе не было в те времена исключением, достаточно вспомнить, что в тот же период граф Анжуйский Фульхерий Хмурый собственноручно составлял историческую хронику своего рода; граф Блуасский Этьен, отправившийся в первый Крестовый поход, писал жене письма, которые представляют собой драгоценнейший источник сведений о том историческом событии, в коем он принимал участие; не забудем также и о графе Пуатье Гийоме VII, герцоге Аквитанском, которого можно назвать самым первым, самым ранним в рядах наших трубадуров.
Итак, Пьер Абеляр покинул родную Бретань, свой родовой замок, свою семью и, по его собственному выражению, «постоянно ведя диспуты», путешествовал из одной школы в другую, движимый неуемной, неутомимой жаждой, страстным желанием (которое было сродни алчности) наполнить свою память и свой рассудок всеми средствами и способами дефиниций, а также приемами и методами аргументации, что были «в ходу» в ту пору. Он научился правильно использовать философские термины, без чего нельзя было приступать к изучению «категорий» Аристотеля, чтобы «познать, что такое есть род, отличие, порода, вид, что есть сущность, что есть свойства, присущие чему-либо, и что есть случайность, акциденция, внешний признак». Далее в связи с этим Абеляр писал: «Возьмем некоего человека, индивидуума, например Сократа. Он имеет нечто особенное, некое свойство, определяющее его сущность, нечто, что делает его именно Сократом, а не кем-то другим. Но если пренебречь этим отличительным свойством („сократичностью“), то в Сократе нельзя будет видеть никого, кроме просто человека, то есть разумного и смертного животного, и вот это и есть род (род человеческий). Если же при рассуждениях, производимых в уме, пренебречь еще и тем фактом, что он разумен и смертен, остается только то, что означает термин „животное“, и это и есть род…» и т. д. Абеляр научился устанавливать связи, существующие между родом и видом, которые представляют собой связи и отношения между целым и частью; он научился отличать сущность от случайности, овладел правилами построения силлогизмов, научился верно использовать посылки силлогизмов и ставить их на соответствующее место, чтобы иметь возможность делать выводы (все люди смертны, Сократ – человек, а потому Сократ…). Короче говоря, Абеляр овладел всеми основами отвлеченных рассуждений и умозаключений, суть которых по моде того времени выражали в коротких мнемотехнических стихах: «Коль есть солнце, значит, есть свет; сейчас светит солнце, значит, есть свет; без солнца света нет; сейчас есть свет, значит, светит солнце; не может быть такого, чтобы светило солнце, но была бы тьма; сейчас светит солнце, значит, есть свет» и т. д.
Эти первые элементарные понятия, эти «начала» диалектики Абеляр, несомненно, постиг еще в родных краях. Разве Бретань не пользовалась доброй славой края, рождавшего людей, «одаренных живым умом и прилежных в обучении искусствам?». Он сам заявляет, что обязан «проницательностью и изворотливостью ума» родной земле. И действительно, в многочисленных текстах мы находим упоминания о существовании в те времена в Бретани множества школ, появившихся уже в XI веке: одна находилась в Порнике, другая в Нанте, и преподавал там некий Рауль Грамматик; имелись школы и в Ване (Ванне), и в Редоне, и в Кемперле и т. д. Однако ни одна из них не могла сравниться известностью со знаменитыми крупными школами Анжера, Манса и в особенности со школой Шартра, которую прославили два земляка Абеляра, два бретонца, Бернар и Теодорик Шартрские. Когда Абеляр писал, что он побывал во многих провинциях в целях обретения знаний, то речь, несомненно, шла о Мене, об Анжу и о Турени, и совершенно точно известно, что он учился в Лоше у знаменитого диалектика Росцелина. Позднее Росцелин напомнит Абеляру, что тот долгое время «сидел у его ног как самый ничтожный из его учеников» (между тем за прошедшее время ученик и учитель стали врагами).
Любопытная фигура этот Росцелин, он стоит того, чтобы немного поговорить о нем, потому что он сыграл определенную роль в судьбе Абеляра. Жизнь Росцелина была весьма бурной. Сначала он преподавал в школе в Компьене, но вскоре рассорился с церковными иерархами. В 1093 году Росцелин был осужден на церковном соборе в Суассоне и оказался вынужден провести какое-то время в изгнании, в Англии; однако и там проявился его неуживчивый характер, ибо не нашел он ничего лучшего, как возвысить голос против нравов, царивших среди представителей английского духовенства; надо сказать, что в ту эпоху церковь Великобритании была не слишком строга в вопросе о соблюдении целибата (обета безбрачия), и Росцелин крайне возмущался тем, что в Англии в ряды духовенства допускали сыновей священников. Он вернулся во Францию и стал каноником в городке Сен-Мартен-де-Тур. Почти сразу же по возвращении из Англии у Росцелина начался конфликт с Робертом д’Арбрисселем (тоже земляком Абеляра), знаменитым странствующим проповедником, чье слово неизменно приводило к Богу тех, кто слушал его проповеди, и заставляло следовать за ним огромную толпу почитателей, где перемешались рыцари и клирики, благородные дамы и продажные гулящие девки. Росцелин, о котором можно сказать, что он «видел зло повсюду», очень сурово судил о «разношерстной» толпе, следовавшей за Робертом д’Арбрисселем и вскоре «осевшей» вместе с проповедником в аббатстве Фонтевро, где и был основан новый орден. Великий знаток канонического права Ив Шартрский обратился к Росцелину с призывом «отказаться от желания выказать себя более благонравным и целомудренным, чем следует», и Росцелин, вняв этим увещеваниям, вернулся к преподаванию в Лоше, и именно от него Абеляр, вероятно, впервые услышал о великом идейном споре, занимавшем умы всех мыслящих людей той эпохи, о споре по вопросу об универсалиях. Суть спора заключалась в следующем: когда, следуя логике категорий Аристотеля, говорят о роде и виде, то обозначают при этом какие-то реальные явления или имеют в виду лишь отвлеченные понятия, порождения человеческого ума, или речь идет вообще просто о словах? Вправе ли мы с полным на то основанием говорить о человеке вообще, о животном вообще и т. д? Существует ли в таком случае в природе какое-либо реальное явление или реальная вещь, некий архетип, своеобразная модель, по отношению к которой каждый человек является как бы более или менее удачным воплощением этой модели, отдельным экземпляром, отлитым в образцовой форме? Или, напротив, термин «человек» есть всего лишь слово, искусственное средство языка? И нет ли какого-либо элемента тождества между одним человеком и другим человеком? Все эти вопросы обсуждались во время горячих, страстных дискуссий и разделяли великих диалектиков эпохи, ибо каждый из них предлагал свою собственную систему воззрений и свои ответы.
Действительно ли Абеляр был «самым ничтожным», то есть наихудшим из учеников Росцелина? Надо сказать, что Абеляр на протяжении всей жизни нес на себе некий отпечаток воззрений своего первого учителя, ибо для Росцелина универсалии, такие, как род и вид, были всего лишь словами и ничем иным. И если однажды ученик и отошел от этой концепции, если он в конце концов и выступил в качестве противника своего бывшего наставника из Лоша, то все же легкий намек на приверженность идеям, воспринятым в самом начале обучения, сохранился.
Без сомнения, образование Абеляра не ограничивалось изучением одной только диалектики. Как и все школяры того времени, он был приобщен к «семи свободным искусствам», на которые тогда подразделялись разнообразные области или ветви знания; естественно, он изучал начало всех начал в образовании – грамматику, не только и не столько то, что мы сейчас обозначаем этим словом, но и все то, что ныне подразумевается под более общим термином «филология», то есть литературу. Он был очень хорошо знаком с произведениями древнеримских (тогда говорили: латинских) авторов, чьи тексты в ту эпоху были известны и изучались: Овидия, Лукана, Вергилия и многих других. Он изучал риторику и упражнялся в искусстве красноречия, к которому питал естественную склонность, а также, как мы уже знаем, и в диалектике, то есть в умении вести дискуссию; что касается других областей знания, таких, как арифметика, геометрия, музыка, астрономия, они интересовали его гораздо меньше; Абеляр признавал, что чрезвычайно слаб в математике, хотя он и прочел трактат Боэция, составлявший основу основ этой отрасли знания.
Заметим, что Абеляр, подобно большинству представителей духовенства того времени, обладал кое-какими познаниями в древнегреческом и древнееврейском языках, не очень обширными, но достаточными для того, чтобы постичь смысл некоторых отрывков из Священного Писания. Из наследия великих греческих мыслителей он был знаком только с произведениями, переведенными на латынь и получившими распространение в странах Запада: из творений Платона – «Тимей», «Федон», «Государство», из произведений Аристотеля – «Органон»; к тому же следует заметить, что знакомство с произведениями авторов Античности в основном происходило посредством изучения комментариев различных авторов, писавших на латыни, авторов как античных, таких, как Цицерон, так и средневековых, таких, как Боэций.








