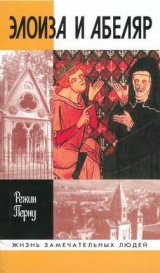
Текст книги "Элоиза и Абеляр"
Автор книги: Режин Перну
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 18 страниц)
Кстати, англичанин Иларий вскоре отправился завершать свое обучение в Анжер. Почему так случилось? Почему Абеляр недолго преподавал в Параклете? Сам Абеляр на сей счет дает лишь весьма расплывчатые объяснения. По словам философа, его успехи вновь пробудили зависть тех, кого он именует своими „соперниками“, несомненно, имея в виду бывших соучеников, Альберика и Лотульфа. „Чем больше был приток учеников, чем более суровым лишениям они подвергали себя в соответствии с моими строгими предписаниями, тем больше мои соперники видели в том славы для меня и позора для них. Они сделали все, дабы мне навредить, и теперь страдали при виде того, как все обернулось к моему благу… Вот за ним пошел весь свет… преследования с нашей стороны ни к чему не привели, мы только увеличили его славу. Мы хотели, чтобы блеск его имени погас, но сделали его еще более ярким“.
Отзвуки соперничества двух преподавателей, Абеляра и Альберика Реймсского, слышны в поэме того времени, написанной Гуго Примасом, знаменитым клириком и прославленным „голиардом“. Он превозносит школу в Реймсе, которая не сотрясается, как многие другие, от шума споров и от доводов диалектиков, а является убежищем, где в тиши процветает „священная наука“, там школяры не найдут „…ни семи искусств Маркиана, ни томов Присциана, ни пустых и никчемных сочинений поэтов, а найдут только великие откровения пророков. Там не читают поэтов, а читают Святого Иоанна и других пророков. Там не обучают тщеславию, там преподают доктрину истины, там не произносят имя Сократа, а взывают к вечной Святой Троице“.
Далее автор обрушивается на Абеляра; нет, он не называет прямо его имени, но указывает на него достаточно ясно, именуя Гнафоном, то есть называя именем приживала-прихлебателя („парасита“) из комедии Теренция „Евнух“:
„О вы, страдающие от жажды доктрины и пришедшие к источнику, дабы услышать слово Иисуса Христа, станете ли вы слушать этого мошенника? В этом святом месте будете ли вы внимать этому Гнафону? О ты, достойный презрения и насмешек, как осмеливаешься ты находиться здесь? Возвращайся к своему клобуку, надень вновь одеяние, прикрывавшее тебя…“. Тон сего произведения не оставляет сомнений в том, каким злобным нападкам подвергался Абеляр. В свою очередь, он обвинял Альберика и Лотульфа в том, что они пробуждали к нему недоверие, а затем и враждебность двух особ – их имен он не называет, но в них можно узнать двух очень известных людей, чье влияние на общество тогда достигло апогея. „Один из них похвалялся тем, что он возродил к жизни принципы уставных каноников, другой же кичился тем, что сделал то же самое с принципами монахов“. Без сомнения, речь шла о Норберте, основателе монастыря в Премонтре и ордена премонстрантов, и о Бернаре Клервоском.
С этого момента нам становится все труднее доверять рассказу Абеляра и видеть все только с его точки зрения. Если мы вынуждены – в крайнем случае и за невозможностью это проверить – принимать на веру его оценку таких фигур, как Ансельм Ланский или Гийом из Шампо, то счесть хотя бы „приемлемыми“ его взгляды на результаты трудов всей жизни таких религиозных деятелей, как Норберт или Бернар, мы не можем. Ведь и тот и другой занимались не только тем, что „похвалялись“ или „кичились“, нет, они делали и кое-что другое – они оба осуществили реформы, которых требовала эпоха: один из них вернул к общинному образу жизни духовенство соборов и приходов, другой же возродил строгий устав святого Бенедикта. Влияние, которым они оба пользовались, столь велико и общеизвестно, что не требует доказательств, как и их добродетель, способствовавшая их канонизации. Абеляр сам ставит себя в весьма затруднительное положение, когда, говоря об этих людях, вдруг обвиняет их в „бахвальстве“, в „хвастовстве“, а затем пишет: „Эти люди, проповедуя по всему свету, бесстыдно нападали на меня и сумели на какое-то время возбудить против меня злобу и презрение некоторых представителей светских и церковных властей; распространяя как о моей вере, так и моей жизни чудовищные слухи, они сумели отвратить от меня даже кое-кого из моих друзей. Что же касается тех из моих друзей, кто еще сохранил какую-то любовь ко мне, то они более не осмеливались мне ее выказывать“.
Иными словами, горести, преследовавшие Абеляра, были плодами настоящей клеветнической кампании.
На чем основаны подобные подозрения? Мы не видим никаких следов клеветнических измышлений в тех проповедях и письмах Норберта и Бернара, что дошли до нас. Самое большее, что можно предположить, в трактате Бернара Клервоского „De baptismo“, адресованном Гуго Сен-Викторскому, были перечислены и разоблачены ошибки, приписываемые Абеляру, но имя его там не называется. Правда и то, что все наследие как Норберта, так и Бернара не дошло до нас полностью, и, конечно, биографы вольно или невольно могли умолчать о некоторых эпизодах их жизни.
Но можно задаться и вопросом, в какой мере Абеляр был жертвой собственного поведения и своей позиции. Бесспорно, в нем была какая-то неуравновешенность, в его душе жили недоверие и опасения, питаемые к себе подобным, и с возрастом все эти страхи обострялись и углублялись. Беды, обрушившиеся на Абеляра, весьма своеобразно на него повлияли, „привили ему вкус к горю“, и так как он был сосредоточен на себе самом, то стала развиваться склонность видеть в других людях лишь врагов и завистников. Проследить, как углублялась эта ипохондрия, можно, вчитываясь в главы „Истории моих бедствий“: если суждения Абеляра о других и вызывают сомнения, то нельзя не поражаться тому, насколько трезво и точно он анализирует свои действия и судит о себе. Уже тогда, когда Абеляр бежал из Сен-Дени, он заявил, что, находясь в отчаянии, воображал, будто против него „строит козни и составляет заговор целый свет“. Именно это произошло с ним вновь и в Параклете: „Бог да будет мне свидетелем, всякий раз, когда я узнавал о каком-либо собрании лиц духовного звания, то не мог не думать, что оно было созвано с целью моего осуждения“. Печальных воспоминаний о Суассонском соборе вполне достаточно для того, чтобы оправдать подобные предположения, но, быть может, и склад ума Абеляра способствовал возникновению всяческих страхов и подозрительности, превращавшихся постепенно в манию преследования; можно, пожалуй, даже задаться вопросом о том, как развивались бы события, будь Абеляр менее сосредоточен на себе самом. Быть может, он тогда легче преодолевал бы свои страхи… и судьба его сложилась бы иначе…
Однако все эти опасения, обоснованные или мнимые, оказались достаточно сильны, чтобы вынудить Абеляра покинуть Параклет. Сам Абеляр так описывает те, порой весьма экстравагантные планы, которые как бы сами собой возникали у него под воздействием всяческих страхов: „Господу ведомо, как часто я впадал в столь великое отчаяние, что помышлял о бегстве из христианского мира и о переселении к язычникам, с тем чтобы там ценой уплаты некоей дани купить себе право жить по-христиански среди врагов Христа. Я говорил себе, что язычники окажут мне радушный прием, поскольку обвинения, выдвинутые против меня, заставят их усомниться в моих чувствах и воззрениях христианина, а потому они будут питать надежду легко склонить меня к идолопоклонству“.
Тем временем до Абеляра дошло поразительное известие: монахи одного дальнего монастыря, расположенного в Бретани, в епископстве Ваннском, избрали его отцом-настоятелем. Речь идет о монастыре Святого Гильдазия Рюиского, который находился недалеко от родных мест Абеляра. Возможно, именно это обстоятельство, а также слава Абеляра и предопределили выбор монахов. Абеляр поспешил ответить на сей „призыв“ согласием, ибо, по его словам, был чрезвычайно утомлен теми притеснениями, которым он подвергался, и теми обидами, что сыпались на него в изобилии. Быть может, школа причиняла ему слишком много хлопот, быть может, мысль о том, что он будет управлять аббатством самовластно, польстила ему, ибо в силу своего нового положения он, согласно канону, становился равным Сугерию из Сен-Дени и Бернару из Клерво. Увы, надеждам и чаяниям Абеляра суждено было столкнуться с жестокой реальностью: „Местность дикая, варварская, язык ее жителей мне был незнаком, народ проживал там грубый и необузданный, а образ жизни монахов в монастыре был таков, словно они не ведали никакой узды“.
Сен-Жильда сегодня летом представляет собой живописное курортное местечко, где толпы отдыхающих собираются у очень красивого храма, сохранившего со времен Абеляра свою строгую, даже суровую архитектуру и великолепные капители в том виде, в каком, вероятно, видел их и он. Но когда курорт с приходом зимы пустеет и над ним начинают завывать ветры, приносимые бурями, тогда там без труда можно вновь ощутить чувство заброшенности, удаленности от мира, одиночество, то чувство „края земли“, о котором говорится в письме Абеляра и которое он испытывал, глядя на простиравшуюся перед ним плоскую, голую, поросшую чахлыми, редкими деревцами равнину, где вдоль берега возвышаются одинокие скалы, словно свидетели медленного, происходившего на протяжении тысячелетий неумолимого и неотвратимого наступления океана на сушу. Бретань, и в наши дни столь резко отличающаяся от всех других районов Франции, Бретань, сохранившая в наших глазах свой странноватый, несколько даже чужеродный характер, в XII веке действительно казалась краем диким, непостижимым и неприступным для пришельца из Иль-де-Франса. Власть сюзерена и авторитет сюзерена (а таковым вскоре предстояло стать королю Англии Генриху Плантагенету, а потом – его сыну) для местных владетельных сеньоров на протяжении долгого времени были понятиями более или менее теоретическими. Однако в Бретани находилось множество монастырей, и искусство романского стиля там процветало, находя свое воплощение в местном граните, вроде бы непокорном резцу, этому орудию труда резчика по камню. Вне всякого сомнения, реформаторское движение в церковной сфере затронуло тогда еще только узкую полоску Бретани: Нант, и его окрестности.
Прибытие Абеляра в монастырь Святого Гильдазия послужило появлению забавной истории, которую рассказывали долго – даже в следующем веке. Итак, легенда гласит, что Абеляр, добравшись „до места назначения“, оставил своих лошадей на постоялом дворе, а сам направился в монастырь пешком, закутавшись в рваный плащ; монахи его якобы приняли весьма нелюбезно и отправили ночевать в монастырский приют среди бродяг и нищих, коим в ту пору всякая обитель давала убежище. На следующий день он прибыл в монастырь вновь, но на сей раз с большой пышностью, на своих лошадях и в окружении слуг; монахи якобы засуетились, принялись оказывать ему знаки внимания, приличествующие духовному лицу в звании аббата; его с помпой ввели в зал капитулов, где тотчас собрались монахи. И вот тогда он начал свою первую проповедь с того, что пристыдил их, говоря, что если бы сам Христос пришел бы к ним в одеянии бедняка и босой, то они оказали бы Ему очень дурной прием, ибо их гостеприимство распространяется не на людей, а на богатые одежды, хороших лошадей и большой багаж. Автор, передавший нам свою версию этой легенды, некий Этьен де Бурбон, жил лет на сто позже Абеляра, и вполне возможно, что его „историйка“ представляет собой чистую выдумку. Однако она свидетельствует о том, что Абеляр с великим усердием собирался осуществлять реформы в церковной, а именно в монастырской жизни; усердие, вернее, рвение это было столь велико, что вполне могло породить устные предания, героем которых стал тот, кто горел этим рвением. Можно смело утверждать, что монастырь Святого Гильдазия Рюиского был, пожалуй, наилучшим местом, где подобное рвение могло найти себе приложение. „Сеньор, властвовавший в тех краях и имевший власть и могущество воистину безграничные, воспользовался тем, что в монастыре царил беспорядок, и уже давно подчинил себе монастырь. Он завладел всеми домениальными [25]25
Землями, принадлежащими монастырю. – Прим. пер.
[Закрыть]землями, а монахов обложил тяжкими поборами, быть может, даже более тяжкими, чем те, что принуждены были платить иудеи. Монахи осаждали меня просьбами об обеспечении их ежедневных нужд, ибо в монастыре не было никакого общего имущества, каковое я мог бы распределить среди них, и каждый из них, чтобы поддерживать свое существование, а также существование своей наложницы и своих сыновей и дочерей, брал некоторую долю из тех средств, что он когда-то принес в монастырь при вступлении в него. Не довольствуясь зрелищем моих мучений от их настоятельных просьб, монахи крали и тащили все, что только могли взять для того, чтобы создавать для меня новые трудности и принудить меня либо ослабить дисциплину, либо покинуть монастырь. Так как все местные жители представляли собой дикую орду, не ведавшую ни законов, ни узды, то не было там никого, к кому бы я мог воззвать о помощи. Между нами не было ничего общего. Вне стен монастыря меня преследовали и подавляли уже упомянутый местный властелин и его стража, а внутри мне беспрестанно устраивала ловушки вся братия“. Надо признать, что удручающая картина, нарисованная Абеляром, способна повергнуть в смятение любого, и хотя Абеляр, вероятно, несколько сгущает краски, она вполне может соответствовать действительности. Достаточно точно воспроизведена ситуация, существовавшая во многих монастырях и приходах до григорианской реформы, когда повсеместно представители местной феодальной знати „накладывали лапу“ на имущество духовенства, мало того, подчиняли себе это духовенство, которое в результате оказывалось в положении сословия зависимого, ибо аббаты и монахи, епископы и простые священнослужители вынуждены были потакать капризам владельцев замков и поместий. В конце правления династии Каролингов Церкви предстояло преодолеть глубокий кризис, который в X веке усугублялся еще и катастрофическим положением, в котором находился сам институт власти папы римского. Институт папства пребывал в состоянии глубокого морального разложения, оказавшись „в руках“ известного римского семейства Теофилактов, которое сажало на святой престол кого ему заблагорассудится. Реформа, проведенная в Клюни, была первым шагом на пути реформирования всей Церкви. Итак, религиозное возрождение становилось все более явным, а папы римские, оказывавшиеся у власти в XI веке, побуждаемые к действиям тем самым монахом Гильдебрандом, которому предстояло стать папой Григорием VII, постепенно освобождали Церковь от тяжкого гнета светской власти феодалов, распределявших по своему усмотрению и бенефиции, и должности священнослужителей в приходах и аббатов в монастырях. В Бретани, по всей видимости, движение в сторону реформ еще не сказывалось на положении дел в полной мере в тот момент, когда Абеляр прибыл туда, чтобы возложить на себя все тяготы, связанные с должностью аббата: монахи вели беспорядочный образ жизни, иными словами, предавались распутству, капризы и прихоти местного властителя-феодала были законом – здесь требовалось реформировать все и в сфере духовной, и в сфере материальной, в сфере бенефициев духовенства.
Как и в Сен-Дени, Абеляр, теперь обладавший полной властью, достаточной для того, чтобы быть услышанным, предпринял попытку восстановить образ жизни, соответствующий идеалу монашеской жизни. Но если Абеляр и проявлял рвение, достойное реформатора, то все же у него не было для этого необходимых свойств характера. Кстати, именно в то время Сугерий проводил в своем аббатстве ту самую реформу, которую хотел бы, но не мог осуществить Абеляр, и делал он это по наставлению и с благословения Бернара Клервоского. Увы, у Абеляра на подобный подвиг не было сил. „Всем известно, какие муки днем и ночью терзали мое тело и мою душу, когда я размышлял над тем, сколь велико было непослушание монахов, коими я взялся управлять. Мне было совершенно ясно, что если я попытаюсь заставить их вновь вступить на путь той праведной монашеской жизни, на который они обязались вступить, давая свои обеты при постриге, то тем самым подвергну свою жизнь большой опасности, на сей счет у меня не было никаких иллюзий. С другой стороны, не предпринимать никаких шагов для проведения необходимых реформ, не делать ничего, что было в моих силах, означало призвать на свою голову вечное проклятие“. Да, здесь требовался человек действия, а Абеляр обладал гораздо большим талантом к произнесению речей, чем к действию. Некоторые отрывки из „Истории моих бедствий“ дают нам живо и ясно почувствовать, какое ощущение всеобъемлющего ужаса он испытывал в этом диком краю: он был бесконечно одинок и очень далек от своего привычного окружения, от учеников, с которыми можно было бы поспорить, порассуждать, прийти к каким-то выводам; и жизнь его протекала на фоне дикой, суровой природы, составлявшей столь разительный контраст с приятными для взора пейзажами Иль-де-Франса или Шампани:…на берегу океана, откуда неслись ужасающие, зловещие звуки, я оказался на краю земли, границы коей лишали меня всякой возможности бежать далее». Бежать, бежать как можно дальше – вот каково отныне единственное желание Абеляра, и, естественно, это не способствовало его успокоению, тем более что психическая неуравновешенность всегда была ему присуща. Ведь теперь положение его было совсем иным – это уже не тихое уединение на берегах речки Ардюссон, нет, это была изоляция, полнейшая отчужденность от людей, и находился он в изоляции среди величественной, но явно враждебной к нему природы, которая была чужда ему, человеку из другого мира, из мира городов и школ.
Впрочем, вскоре ему представился случай (вернее, была дарована свыше возможность) совершить побег из сего места заточения.
Вероятно, Абеляр провел в монастыре Святого Гильдазия два или три года (он был избран настоятелем в 1125 году и прибыл в аббатство лишь несколько месяцев спустя после избрания), когда до него дошли встревожившие его известия о том, что Элоиза и находившиеся под ее руководством монахини изгнаны из монастыря в Аржантейле и распределены по другим обителям.
Что же произошло на самом деле? Историки зафиксировали только сам факт изгнания монахинь из монастыря, не прояснив должным образом сего события. Все дело в том, что монастырь в Аржантейле во времена основания, а именно в эпоху царствования Пипина Короткого, находился в зависимости от монастыря Сен-Дени. В период правления Карла Великого он был отделен от Сен-Дени и превратился в женский монастырь, настоятельницей которого стала дочь императора Теодрада; после смерти аббатисы было оговорено, что обитель в Аржантейле будет возвращена в зависимость от королевского аббатства, и аббат Хильдоний, о котором уже речь шла выше, добился того, что сын императора Людовик Благочестивый дал слово исполнить обещание и вернуть аббатство под управление Сен-Дени, – Людовик не мог отказать Хильдонию, ведь тот был его капелланом, то есть отправлял службу в королевской капелле. Однако, несмотря ни на что, монастырь в Аржантейле долгое время, почти на протяжении трехсот лет, оставался женским монастырем, где одна аббатиса сменяла другую. Но вот на должность аббата Сен-Дени был избран Сугерий. Он сам рассказывал, как в юности изучал с великим рвением и тщанием различные документы, в том числе и монастырский устав Сен-Дени и разнообразные грамоты, и изумлялся тому, какое огромное множество нарушений и отклонений обнаруживалось в ходе изучения этих документов. И вот, оказавшись во главе Сен-Дени, Сугерий стал проявлять талант управителя опытного, искушенного и даже алчного в том, что касалось соблюдения прав и привилегий, которыми аббатство было наделено, но которых оно лишилось, причем лишилось незаконно при его предшественниках; в одном из трудов, дошедших до нас, Сугерий сообщает о результатах своих усилий, отмечая с гордостью, что такой-то участок земли, дававший прежде всего 6 мюи зерна, теперь приносит 15, что в Вокрессоне, где земля раньше не обрабатывалась и где, как считали, было настоящее логово разбойников, по его повелению поля вспахали, построили дома и церкви, и теперь в этом месте проживают около 60 крестьянских семей новопоселенцев. Памятуя о том, что монастырь в Аржантейле некогда был составной частью имущества монастыря Сен-Дени, Сугерий поспешил предпринять действия, чтобы вернуть его в первоначальное положение, и отправил посланцев в Рим передать представителям церковной власти старинные устав и грамоты, написанные еще при основании монастырей, дабы заставить папу римского Гонория признать права монастыря Сен-Дени и провести по этому поводу расследование.
Все было бы довольно просто, если бы выражения, употребленные в грамоте, датированной 1129 годом и составленной папским легатом Матье д’Альбано, не бросали бы некую тень сомнения на все это дело. «Недавно, – говорится в грамоте, – в присутствии Его Величества Короля Франции Людовика, мы с нашими братьями епископами Рено, архиепископом Реймсским, Стефаном, епископом Парижским, Готфридом, епископом Шартрским, Иосцелином, епископом Суассонским и другими, коих было большое число, обсуждали в Париже вопрос о реформе священного ордена [следует понимать: вопрос о реформе монастырей] и вспомнили о различных недостатках, существующих в тех аббатствах Галлии, в коих рвение в служении Господу значительно охладело; внезапно среди собравшихся возник ропот по поводу скандального и позорного положения дел в одном из женских монастырей, прозываемом Аржантейль, в коем некоторые монахини вели себя самым гнусным, самым отвратительным образом, к бесчестью их ордена, уже давно запятнав все окрестности своим скандальным и непристойным поведением».
Разумеется, Сугерий, воспользовавшись этими обстоятельствами, тотчас же предъявил документ, свидетельствовавший об определенных правах аббатства Сен-Дени на этот монастырь, и без промедления было принято решение, что королевское аббатство вновь вступит во владение утраченной собственностью, что монахинь из обители в Аржантейле выдворят, а их место займут монахи. Позднее особая папская булла прибыла из Рима, и в ней подтверждалось решение о возврате монастыря в Аржантейле королевскому аббатству Сен-Дени; там содержалось уточнение: на Сугерия возлагается ответственность проследить, чтобы монахини, изгнанные из монастыря в Аржантейле, были помещены в обители, пользовавшиеся хорошей репутацией, «из опасения, – как говорилось в папской булле, – как бы одна из них не сбилась с пути истинного, не впала в грех или не лишилась бы рассудка и не погибла бы по его вине».
Итак, монахинь изгнали из Аржантейля в результате гнусных обвинений, и обвинения эти тем более значимы для нашего повествования, что Элоиза в то время была заместительницей настоятельницы этого монастыря, то есть занимала самую высокую должность после аббатисы и несла самую тяжелую ответственность после нее. Если она не принимала участия в тех «бесчинствах», в которых обвинили насельниц монастыря, то, по крайней мере, несла ответственность за состояние дел в монастыре. Совпадение во времени, когда появились эти, быть может, основанные на клеветнических измышлениях обвинения и были предъявлены требования Сугерия, представляется весьма и весьма странным, чтобы без сомнений согласиться с тем, что такое совпадение оказалось просто результатом игры случая. Но, с другой стороны, эти обвинения нигде и никем не были опровергнуты, даже Абеляром. Он, всегда готовый возвысить свой голос против клеветы, он, не убоявшийся открыто, во всеуслышание бичевать монахов королевского аббатства – в котором он и сам жил – за их неблаговидные поступки и за царившее там распутство, так вот, он не говорит ни слова о скандале, разразившемся в связи с поведением монахинь из Аржантейля, скандале, случившемся столь своевременно, что это облегчило осуществление намерений Сугерия. Элоиза тоже нигде не упомянет о сих печальных обстоятельствах, и подобное умолчание такого важного вопроса дает нам богатую пищу для догадок. В «Истории моих бедствий» сказано только следующее: «Случилось так, что аббат Сен-Дени, потребовав вернуть во власть аббатства Сен-Дени якобы когда-то подчинявшуюся его юрисдикции обитель в Аржантейле, в которой приняла постриг и проживала скорее сестра моя во Христе, чем супруга, добился своего и жестоко изгнал оттуда общину монахинь, приорессой коей была моя бывшая супруга».
Итак, мы никогда не узнаем, имелась ли доля истины в тех обвинениях или они были абсолютно ложными. Но можно с уверенностью сказать, что поведение Элоизы и чувства, о которых свидетельствуют ее письма, ставят ее вне всяких подозрений.
Что же касается Абеляра, то его отныне одолевала одна забота: Элоиза лишилась надежного убежища. Кстати, на протяжении всего своего пребывания в монастыре Святого Гильдазия Рюиского он мучился мыслью о том, что его молельня под названием Параклет оставалась пустой, поскольку «крайняя бедность тех мест едва позволяла прокормиться одному служителю». Провидению было угодно подсказать Абеляру решение сразу двух проблем. Узнав, что Элоиза и ее монахини оказались рассеяны по разным обителям, он понял: «…что Господь предоставил мне благоприятный случай позаботиться о том, чтобы в моей молельне совершались службы. Я отправился туда, я пригласил туда прибыть Элоизу с монахинями из ее общины, когда же они туда прибыли, я подарил им эту молельню со всем принадлежащим ей имуществом; затем с согласия и по ходатайству местного епископа папа Иннокентий II подтвердил сам факт дарения и навечно закрепил за ними все привилегии – за ними и за их преемницами».
У Этьена Жильсона есть замечательные строки, посвященные этой истории дара Абеляра Элоизе. Вот что он пишет: «В его горестной, тяжелой, преисполненной всяческих бедствий жизни можно с легкостью найти десятка два моментов, гораздо более трагических, но я не уверен, что найдется момент, который был бы столь волнующий… Ведь Абеляр не владел ничем, кроме жалкого клочка земли, подаренного ему неким благодетелем; на нем и возвели его ученики эту убогую молельню и несколько хижин. Но как только Абеляр узнает, что Элоиза лишилась убежища и, по сути, превратилась в бродяжку, он устремляется к ней из бретонской глуши и отдает ей в собственность то немногое, чем он обладал, отдает безвозвратно, и мы можем только едва-едва догадываться, какие богатства, какие великие сокровища чувств таятся за этим великодушным и величественным жестом». Этот благородный жест свидетельствует «о любви священнослужителя к своей Церкви», о милосердии, проявленном аббатом-бенедиктинцем к своей сестре во Христе, о нежности, питаемой супругом к супруге.
Кстати, именно этот благородный, возвышенный жест открывает перед Абеляром весьма приятную, ведущую к счастью перспективу: быть может, он, несчастный, гонимый странник, найдет наконец «место отдохновения»? Почему бы ему не обосноваться в Параклете? Почему бы ему не стать аббатом в этом новом монастыре, где аббатисой будет его жена перед Богом? Дойдя до «поворота», то есть до пятого десятка лет жизни, Абеляр увидел, как впереди начали вырисовываться контуры печальной старости; он принес в жертву свои честолюбивые чаяния и стремления, он пожертвовал ими так же, как пожертвовал и телесными радостями. Повсюду он наталкивался на враждебность, на преследования и травлю: «Люди приписывают мудрецам наличие нечеловеческого разума, будучи неспособны понять, какую боль испытывают их сердца».
Хуже того: Абеляр осознавал, что вся его жизнь – это поражение, ибо она была «бесплодна, бесполезна» для него самого, как и для других, и доказательством тому для него служила хотя бы его полная неспособность оказать какое-либо влияние на монахов монастыря Святого Гильдазия Рюиского, аббатом которого он был избран. Но здесь, в Параклете, являющемся его собственным детищем, в этой молельне, возникшей среди тростниковых зарослей по его воле, почему бы ему не приступить к исполнению своих обязанностей священнослужителя, аббата, преподавателя? Почему бы ему не найти наконец здесь добрый прием и внимательных слушателей, в которых он так нуждается? Почему бы ему не забыть о прошлых невзгодах, став центром общины, которая обязана ему выживанием?
Явное удовольствие, с которым Абеляр «развивает» сей план в «Истории моих бедствий», свидетельствует о том, что речь идет о давно лелеемой им мечте. У него было много причин и оснований, в том числе и самого благородного свойства, для того чтобы действовать: прежде всего он осознавал свой долг, понуждавший его помогать материально общине, изо всех сил боровшейся за существование в этой бедной и безлюдной пустынной местности. «Соседи всячески осуждали меня за то, что я якобы не делал всего возможного, чтобы помочь пребывающим в нищете сестрам этого монастыря, тем более что мне не составило бы большого труда это сделать, например, произнося проповеди». Разве святой Иероним не поступал так же, когда в Вифлееме обосновались Паула и ее подруги? А разве апостолов и самого Иисуса Христа не сопровождали женщины, внимавшие их проповедям, разделявшие их апостольские труды? Слабый пол не может обходиться без сильного пола. К тому же разве он, Абеляр, не находился вне всяких подозрений? Будучи евнухом подобно Оригену, разве он не мог посвятить себя обучению женщин, нашедших убежище в Параклете благодаря ему? «Не имея сил и возможности творить добро среди монахов, я полагал, что, быть может, смогу сделать что-то доброе для монахинь».
Нам неизвестно в точности, по каким причинам Абеляр был все же вынужден вернуться в монастырь Святого Гильдазия Рюиского, сам же он лишь невнятно упоминает о происках недоброжелателей, чьи наветы и измышления заставили его отказаться от осуществления своей мечты, заставили оторваться от клочка земли на берегу реки Ардюссон, ставшей отныне и впредь вдвое дороже его сердцу.
«Те действия, которые побуждали меня предпринимать чистейшее милосердие, коим я руководствовался, мои враги в их обычной злобе истолковывали дурно и низменно, что приводило к выдвижению против меня гнусных обвинений. Они говорили, будто я якобы все еще одержим чарами плотских наслаждений, потому будто всем якобы видно, что я не могу переносить разлуку с женщиной, которую я прежде любил». Существует большое искушение припомнить по сему поводу письмо Росцелина, который обвиняет Абеляра в том, что тот якобы «принес Элоизе плату за прежний грязный разврат», но весьма маловероятно, чтобы Росцелин был еще жив в 1131 году, а его письмо было написано явно раньше первого осуждения Абеляра, состоявшегося десятью годами ранее.








