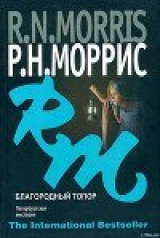
Текст книги "Благородный топор. Петербургская мистерия"
Автор книги: Р. Н. Моррис
Жанр:
Триллеры
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 20 страниц)
Глава 6
АРТИСТИЧЕСКАЯ НАТУРА
Щеки у Порфирия Петровича рдели от морозного воздуха, несмотря на жаркий кокон енотовой шубы, придающий его фигуре сходство с меховым колоколом. Внушительности придавала и высокая, барского вида шапка. Запорошенный снегом город, с его величавыми каменными зданиями и словно наспех умещенными меж ними деревянными хибарами, был в этот час молчалив. Присыпанные белым покровом, они, казалось, взирают вокруг себя с дремотным равнодушием, не сознавая того высокомерия или, наоборот, приниженности, которые им при возведении придали их создатели.
На рынок Порфирий Петрович попал через Апраксин двор, с той стороны, где Садовая соприкасается с Апраксиным переулком. Пройдя под висящей над деревянными воротцами иконой Николая Чудотворца, он ступил в освещенную призрачным светом густую людскую толчею – ни дать ни взять чистилище. Зудение шарманки смешивалось с припевками тачальщиков и зычными криками лотошников и зазывал из лавок. Сверху, звучно взмахивая крыльями, то и дело планировали голуби. Они бесцеремонно усаживались возле равнодушных кошек, взволновать которых могло разве что появление мыши. Торговые ряды связывались меж собой перекинутыми через верхние ярусы мостиками, которые увенчивали непременные образа. Сосредоточенные в тех или иных частях рынка ремёсла нетрудно было опознать по присущим им запахам, из которых особо забористые исходили от рядов специй с пряностями, а также чая с кофеем и табака. По ходу их сменяли не такие сильные, но тоже притягательные ароматы от прилавков с сотовым медом и благоухание выпечки. Приятный запах чуть забродивших фруктов шел от рядов, где торговали вареньями. И наоборот, те лавки, где держали негашеную известь и деготь, словно гнали поскорее мимо себя – никакие украшения в виде расписных балалаек не спасали. Уже не оглядываясь, Порфирий Петрович миновал ряды с конской упряжью, будки сапожников и жестянщиков, а также несколько ювелирных лавок. Иной раз к характерным запахам примешивался запах снеди от корзины проходящего мимо пирожника, или перегарная вонь из встречного трактира, или же благочинный запах свечного воска из рыночной часовенки.
На противоположной части, как бы на отшибе, располагался Блошиный рынок с обилием старьевщиков и общей атмосферой затхлости. Здесь, в малоприметном углу, находилась лавка процентщика Лямхи.
Приход посетителя возвестил своим дребезжанием дверной колокольчик. Из полумрака пронафталиненной, не вполне чистой лавки проступало ее беспорядочное тесное убранство – престранное смешение драгоценного и бесполезного. Ювелирные изделия за стеклом соседствовали с полками, загроможденными щербатыми горшками. Висела на плечиках не первой свежести одежда, от роскошных некогда мехов до полунищенских заношенных юбок. Кое-кто из побывавших здесь заложил даже манишки и воротнички с манжетами. Сундуки обуви и корзины очков и пенсне, ящики табакерок и подносы с россыпями наперстков. Все эти предметы, словно оставленные себе на произвол, демонстрировали некую прелесть, эдакий магнетизм покинутости. Ну и разумеется, то, что все находящееся здесь, в лавке, было некогда частью чьей-то жизни. За каждым из предметов, неважно, сколь малозначительным на вид, скрывалась история человеческого отчаяния, а то и трагедии.
Едва войдя, Порфирий Петрович заслышал бубнеж низкого мужского голоса. В драматично дрожащем теноре было что-то искусственное, можно сказать театральное. Декламатор обратил на себя внимание почти сразу: краснолицый, щекастый, с объемистым выпирающим животом. Не меньше, чем выспренный монолог, внимание привлекала его жестикуляция. Поток сценического красноречия сводил ему лицо словно судорогой, и ему приходилось компенсировать застывшую мимику колыханиями туловища – выходило внушительно. Судя по всему, мужчина разыгрывал перед процентщиком некий сценический монолог. Взгляд свой «артист» (именно так определил его амплуа Порфирий Петрович) опустил долу. Все это действо на слух воспринималось довольно необычно. Речь персонажа произносилась нетрезвой скороговоркой, но вместе с тем все слова в ней звучали вполне отчетливо. Более того: голос, даже звучащий вполсилы, заполнял собой все помещение. Процентщик – тощий как кощей субъект, считающий, вероятно, дурным тоном представать перед клиентами в упитанном или преуспевающем виде, стоял осклабясь, закинув голову набок. Руки в перчатках без пальцев поглаживали лежащую перед ним на прилавке семиструнную, с бантом гитару.
Наконец прозвучала последняя реплика мизансцены: «Ах, боже ты мой, хоть бы какие-нибудь щи! Кажись, так бы теперь весь свет съел. Стучится – верно, это он идет».
– Браво! – бодро возгласил Порфирий Петрович, хлопая в ладоши. Тем не менее, процентщик ограничился лишь кривой ухмылкой и принялся оглядывать гитару. – Монолог Осипа, из «Ревизора»!
Человек артистической натуры оглянулся с польщенным видом и церемонно поклонился, дохнув перегарцем.
– Лично играл в пятьдесят шестом-с, в тогдашнем составе Мариинского-с! А вы, осмелюсь спросить, ценитель драматических искусств?
– Я ценитель Гоголя.
– Семь рублей, – проворчал процентщик, кладя загудевшую струнами гитару обратно на прилавок.
– Сколько? Семь? Да ты шкуродер! Кровопивец, жидовская морда! Она мне самому в десять раз дороже обошлась! Ты знаешь, кому она принадлежала? Самому Саренко! Вдумайся, чудак-человек: Са-рен-ко!
– Семь рублей.
– Да один мой монолог на все семь потянул!
– Монолог твой у меня никто не купит. Если докажешь, что вещь принадлежала Саренко, дам девять рублей.
– Слово свое даю!
– Тогда семь с полтиной.
– Семь с полтиной! Не сердце, а камень. Вот жидовин! – страдальчески пробасил артист, словно за поддержкой обращаясь к Порфирию Петровичу.
– Да ты сам вдумайся, – подал голос процентщик. – Я же, парень-брат, даю, лишь сколько сам смогу за нее выручить.
– Да ты за нее озолотишься! Сотню огребешь, не меньше!
– Семь с полтиной. Хошь бери, хошь нет.
– Что ж, будь по-твоему! – голосом трагика завибрировал артист. – Но вот вы, смею вас заверить, бойтесь фармазона сего: всю-то кровушку он из вас выпьет! – назидательно сказал он Порфирию Петровичу. Приняв от процентщика деньги, артист отступил на шаг-другой, но уходить не собирался. Он как будто чего-то выжидал. Порфирий Петрович, подавая процентщику закладную, чувствовал присутствие актера за спиной.
Глаза на изможденном лице оглядели Порфирия Петровича с подозрительностью.
– А деньги при вас есть?
Порфирий Петрович выложил на прилавок десятирублевую ассигнацию. Краем глаза он замечал, что артист неотрывно за ним наблюдает. Между тем процентщик, дежурно осклабясь, с непроницаемым лицом отошел и возвратился со стопкой перевязанных бечевкой книг.
– Но ведь вы не Виргинский, – заметил он.
– Разрежьте мне, пожалуйста, бечевку, – попросил Порфирий Петрович. – Хочу рассмотреть книги поподробней.
– Но вы же не Виргинский, – повторил, словно с намеком, процентщик.
– А кто такой Виргинский?
– Ну, этот… Который заложил эти книги.
– Ну и какая разница? Я оплачиваю его долг. И сумма предостаточная, чтобы выкупить залог от его имени. Прошу вас, разрежьте бечевку.
Процентщик, по-прежнему колеблясь, еще сильнее втянул пергаментные щеки, и без того туго обтягивающие скулы. Сунув, наконец, лезвие перочинного ножа под бечевку, он неприкрыто, в упор разглядывал странного посетителя.
Первые четыре книги оказались русскими переводами «Круговорота жизни» Молешотта, бюхнеровской «Силы и материи», «Суеверия и науки» Фохта и «Диалектики природы» Дюринга. Пятая – альманах в бордовом переплете – именовалась «Тысяча и одна девичья головка».
– А-а, – послышалось над ухом как раз в этот момент. – Так вы, я вижу, завзятый поклонник «Приапа»!
Порфирий Петрович, спешно захлопнув книгу, оглянулся на артиста с видом нарочито неприветливым.
– «Приап» – мое излюбленное издание, – поспешил объяснить, явно пытавшийся завязать знакомство, артист. (Название и в самом деле значилось на корешке.) – Нет ничего сравнимого с тем наслаждением, что испытываешь, разрезая страницы свежего «Приапа»! Случись вам, мой друг, испытать когда-либо потребность в дружеском содействии по взрезанию оных, смею вас заверить, что рука у меня на подобное деяние очень даже наметана!
– Прошу простить, сударь, но я не вполне вас понимаю.
– Что, право, дурного в том, что два благородных мужа занимаются вместе изысканным времяпровождением? Это вполне сродни тому, как если б мы совместно откупоривали бутылочку-другую доброго вина или, под стать североамериканским краснокожим, трубку с зельем. Но стоит ли останавливаться перед взрезанием девственного листа бумаги, когда вместо того можно вожделенно вонзаться острием в лакомую, девственную плоть? Ведь вокруг нас, сударь, столько юных, пресладких, податливых дев! Лично вам стоит лишь сказать – мы все устроим.
– У меня нет подобного желания.
– Разумеется, я понимаю. Наиредчайшая услада уединенно, интимно практикуемой методы, можно так выразиться. Тут еще и вопрос гигиены, не говоря уже о проворстве. Сие есть рациональный выбор. И, тем не менее, рука помощника здесь может ох как пригодиться, скажу я вам. Признаюсь вам как другу, зачастую это, пожалуй, самый что ни на есть идеалистичный подход…
– Сударь, я возмущен!
– А я, напротив, потерян! Однако, судя по остальному вашему чтению, вы, сдается мне, в едином лице и материалист и идеалист. При таких воззрениях какие же иные цели могут над вами довлеть?
– Я в своем вольнодумстве до этого еще не дошел.
– Тогда мне вас жаль!
– А мне – вас.
– О, не стоит!
– Между прочим, я из управления.
– Гм?
– Да-да, из полиции. По уголовному делу.
– Пршу пардона-с… – Театрал уже летел к выходу, даже не попрощавшись.
Весьма позабавленный этой стычкой, Порфирий Петрович обернулся к процентщику, глянувшему на него с неприкрытой дерзостью. Цепкий, колючий взгляд на миг показался едва ли не более непристойным, чем тот пресловутый альманах про девиц.
– Как вы сказали? Виргинский? – переспросил, возобновляя разговор, Порфирий Петрович.
– Павел Павлович. Пал Палыч.
– Вы, я думаю, догадываетесь, что речь идет о полицейском расследовании?
– Мне о том ничего не известно.
– Вы мне можете его описать? Процентщик пожал плечами.
– Он отличается, скажем, ростом? Или, наоборот, как бы это выразиться, миниатюрностью?
– Да не особенно.
– Понятно. В общем, никаких особых примет?
– Ну, бледный. Внешности, я бы сказал, предосудительной. Хотя студентов пол-Петербурга таких ходит. Так что ничего приметного и нет.
– А из вашего знакомства с ним, получается, он ваш регулярный клиент?
– Да, вроде того.
– Вам не известен адрес этого Павла Павловича?
– Почему, известен.
Ко все еще лежащей на прилавке красненькой Порфирий Петрович добавил еще одну.
– Надо всего-навсего пойти в доходный дом Липпенвехселя. Там и спросите Пал Палыча Виргинского.
Процентщик взял обе банкноты, но при этом одну из них протянул Порфирию Петровичу.
– Здесь у нас все по закону. Вы мне долг, я вам сведения. – Порфирий Петрович слегка поклонился. – Я хотя и еврей, но верноподданный.
Их взгляды встретились; в смоляных глазах процентщика читалась глухая неприязнь. Порфирий Петрович принял купюру.
– Не соблаговолите ли снова мне их обвязать? – попросил он насчет книг, убирая ассигнацию в кошелек.
Процентщик с протяжным вздохом повиновался.
Глава 7
АЗАРТ ИГРЫ
Доходный дом Липпенвехселя на Гороховой походил скорее на непомерно разросшийся в разные стороны живой организм, чем на нечто планомерно продуманное и построенное. Обветшалые, с облупленной штукатуркой, разномастные фронтоны и крылья опоясывали пространство замусоренных дворов, в колодцы которых с трудом пробивался солнечный свет. Налетающие порывы ветра ощущал каждый жилец, неважно где – у печи ли, за самоваром, под коконом тряпья или сидя скрючившись в шкафу. Возле Каменного моста дом выходил фасадом на Екатерининский канал – в эту пору скованный льдом, летом же служивший открытой сточной канавой. В долгие жаркие дни зловоние впитывалось в зияющие трещины стен и растекалось по всему строению, смешиваясь с запахами кухни и проникая в саму жизнь постояльцев, въедаясь в сокровенную ее суть и заражая сны.
Внутри дом разделялся шаткими перегородками и лабиринтом коридоров, кое-как и кое-где подсвеченных масляными лампами. Двери по большей части были незаперты, а то и отсутствовали вовсе. Семьи ютились чуть ли не друг на друге. Многие комнаты дополнительно делились на углы: наиболее оборотистые сами брали к себе жильцов, и таким образом экономили на своем проживании. По одну сторону занавески мог раздаваться пьяный op и звуки побоев, по другую – шумное сопенье совокупляющихся. И везде, где-нибудь на заднем фоне, неброским лейтмотивом слышались тягостные вздохи и приглушенный плач, непреходящий, как тихий шум прибоя.
Порфирий Петрович все с той же связкой книг стоял на разветвлении скупо освещенного лабиринта коридоров. Сняв шапку, он вдохнул сырой и затхлый запах этого многоэтажного узилища. Тут и там коридор пронизывали поверху пунктиры бельевых веревок. С визгом сновали оборванные дети, не признавая невидимых границ, отмежевывающих одно жилье от другого. Где-то в дебрях, судя по всему, была в разгаре карточная игра: слышались смех и брань, хлесткое шлепанье карт и звяканье монет.
Пытаясь машинально определить, где бы это могло быть, Порфирий Петрович неожиданно увидел появившуюся на пересечении одного из коридоров девичью фигуру. Она шла быстро, слегка наклонив голову. Несмотря на скрывающий ее черты полумрак, ему показалось, что где-то он ее уже встречал.
Он окликнул. Девушка обернулась, но, увидев Порфирия Петровича, вдруг повернулась и заспешила прочь. Порфирий Петрович, притиснув к груди книги, тронулся следом, ускоряя шаг. В тот миг, когда девушка вскинула лицо, он ее узнал: та самая Лиля, которую приводили давеча в участок.
Впереди на некотором расстоянии скользила ее длинная юбка, то и дело скрываясь за очередным коридорным изгибом, а то и просто проходя через кое-как занавешенные комнаты. Таким образом, погоня представляла собой сплошное нарушение границ, не вызывая, однако, при этом особых нареканий со стороны обитателей – как будто нарушитель был невидимкой. Поставили его на место единственно тогда, когда он случайно вломился к тем самым картежникам, и то – заругались они лишь потому, что он потревожил их столбики из монет. Пока Порфирий Петрович извинялся, беглянки и след простыл. Заглянул за угол: никого, лишь духами чуть припахивает.
Порфирий Петрович возвратился к игрокам.
– Господа, простите великодушно, что невольно прерываю вашу игру. Я так, на минутку.
Стол огласился негодующим ревом. Причем из играющих глаза так никто и не поднял: все как один поглощены были картами. Кто-то лениво ругнулся в адрес Порфирия Петровича, вызвав за столом всплеск хрипловатого смеха, вполне беззлобного. Слово «игра» было здесь употреблено явно не к месту: оно не передавало всего накала страстей.
– Тут сейчас прошла одна юная особа, – повторил Порфирий Петрович. – Вы, часом, не заметили куда…
Бесполезно: всем сейчас было явно не до него – настолько, что в его адрес уже и реплик никто не отпускал. На столе стоял полупустой штоф; большинство сидящих курило трубки. И ничто, выходящее за пределы окутывающего стол табачного облака, их сейчас не занимало.
Порфирий Петрович, подтянув к себе скрипучий стул, сел поближе к играющим, стопку книг поставив на пол. Подождав, пока закончится очередной кон, он подал голос:
– А вот я ищу Пал Палыча Виргинского.
Сидящие переглянулись. Постепенно взгляды сошлись на одном из игроков, небритом хлыщеватом прощелыге с прилизанным пробором. Одет он был в донельзя заношенный, латаный-перелатаный фрак. Почесав грязными ногтями щеку, прощелыга цепко оглядел незваного гостя, что-то прикидывая.
– Ну а с господином Штосом ты знаком? – спросил он наконец.
– Штосом? Которым таким Штосом?
Стол грянул раскатистым смехом, кто-то даже восторженно грохнул кулаком по столешнице. Впрочем, взрыв веселья тут же утих. Все выжидающе уставились на заводилу во фраке.
– Штос, друг мой, не человек. Штос – игра!
– В таком случае не знаком, – сказал Порфирий Петрович. – Я в карты не особо.
– Да пустое, – отмахнулся заводила. – Штос – штука нехитрая. Она фартовых любит.
– Понятно. А как в нее играют?
– Да проще простого. Алешка, дай-ка гостю колоду! Какой-то юнец (маляр, судя по засохшим брызгам краски на посконной робе) подал Порфирию Петровичу колоду карт.
– Ну так вот. У тебя одна колода, – пояснил фрачник, – а у меня другая, вот эта. – Он выудил из кармана еще одну. – Для начала назначим ставки. Играем мы двое. Если ты выигрываешь, я говорю тебе, как найти этого твоего Виргинского.
– А если проиграю?
– А если проиграешь, шубу твою махнем на мой фрак! Судя по тревожному гудению, даже сами игроки сочли такой расклад не вполне справедливым.
– Нет, годится не вполне, – покачал головой Порфирий Петрович. – Лучше давайте так. Если я выигрываю, вы мне показываете, как пройти к Виргинскому. А коли проиграю, то посылаю за вторым штофом, и вы его разыграете уже меж собой.
Действительно, даже в случае проигрыша можно будет таким образом удержаться в компании. Кто-нибудь все равно от его щедрости разговорится и покажет, как и куда пройти. Предложение Порфирия Петровича было встречено так бурно, что заводила невольно вынужден был сдаться.
– Ну ладно, ладно. Всё, играем. Бери из своей колоды любую карту и клади вниз лицом на стол, так чтоб я не видел. Так, ладно. А вот теперь моя колода. Надо, чтобы ты ее мне подрезал. Знаешь, как это делается?
Порфирий Петрович молча кивнул и сделал так, как сказали.
– Благодарю, – бросил фрачник, сноровисто складывая половинки колоды по новой. – В штосе я вскрываю в своей колоде две верхние карты. Первая карта кладется справа, вторая слева. Эдак вот. – Он вскрыл червовую девятку, а после нее тройку пик. – Так. Если твоя карта совпадает по числу с моей первой – скажем, если это девятка любой масти, – ты проиграл. А если, наоборот, со второй, что слева, – ты выиграл. Если не совпадает ни с одной – сдаем еще пару и продолжаем играть, пока не составится партия. Ну что, идет?
– Идет.
– Тогда будь любезен, вскрой свою карту. Оказался трефовый валет.
– Мимо, – сказал фрачник. – Ничего, валяем дальше. Сыграли еще на раз, и еще: шестерка бубен, затем бубновая же десятка. Затем пиковый король – тоже безрезультатно.
Фрачник, угрюмо кивнув, сдал еще две карты – опять невпопад.
Игроки пристально смотрели друг другу то в глаза, то на руки, словно могли тем самым привлечь на свою сторону удачу. У Порфирия Петровича даже вспотели ладони. Между тем игра захватывала, безотчетно хотелось продолжения. При каждой сдаче сердце всякий раз замирало, вторя остроте момента. Тут уж и неважно, выиграешь или проиграешь – само ощущение чего стоит!
Рано или поздно момент истины все же наступил: Порфирию Петровичу выпала-таки семерка, червовая.
– Похоже, я… выиграл? – как бы не веря глазам, проговорил он. Радость выигрыша чуть омрачало то, что игра окончена (вот бы еще конок!).
– Что ж, твоя взяла, – нехотя протянул фрачник. – Значит, так: сейчас сворачиваешь налево, вон там, где чахоточная кашляет за занавеской. Сразу упрешься в переход, там начинается крыло дома. Виргинский как раз там внизу и обретается, в полуподвале у Кезеля, шкатулочника.
Вслед за спадом напряжения, вызванным концом игры, за столом воцарилось бесшабашное веселье. Остроты и колкости теперь приходились на долю фрачника, который для восстановления подмоченной репутации не замедлил послать за свежим штофом.
Из-за стола Порфирий Петрович вылезал с неохотой, едва ли не с разочарованием, несмотря на «выигрыш». Разбитная компания игроков тут же про него забыла. Оставалось лишь вернуться к выполнению служебных обязанностей.
* * *
«Кезель», – гласила выведенная на двери мелом надпись.
Самого Кезеля дома не было; открыла его жена – тихая запуганная женщина со следами побоев на лице. Она и подвела Порфирия Петровича к крохотной каморке, где за занавеской обитал студент Виргинский. Процентщик описал его вполне правдоподобно: нездоровая бледность, одежда истрепана. К тому же, судя по всему, недоедает – да так, что темные круги изнеможения вокруг остекленелых глаз. Студент трясся от озноба. Что странно, при появлении посетителя он не выказал никакого удивления, словно сам сидел и дожидался. А может, изнеможение достигло такой степени, что человек уже и эмоций особо не выказывает. Приподнявшись было при появлении нежданного гостя, Виргинский тут же снова упал на кровать. Кроме как на постель, сесть в каморке было некуда, потому Порфирий Петрович остался стоять. Против ожидания, в каморке веяло духами.
Оглядев вызывающую жалость худую фигуру на кровати, Порфирий Петрович невольно вспомнил прошлогоднее дело о совершенном студентами двойном убийстве. Так что жалость жалостью, а все же…
– Вы будете Павел Павлович Виргинский? – спросил он чуть более сухо, чем намеревался.
– Я.
– Позвольте представиться. Порфирий Петрович, из следственного управления. Направлен сюда Департаментом расследования уголовных дел.
Виргинский на это никак не отреагировал.
– Вам знакомы эти книги?
Тот, оглядев обвязанную бечевой стопку, вяло кивнул.
– Вам известно, кому они могут принадлежать? Виргинский снова кивнул.
– Как они к вам попали? – чуть приподнявшись, просипел он. Спросил, впрочем, без всякого любопытства. Даже глаза вслед за тем прикрыл.
– Я выкупил их у процентщика Лямхи, – пояснил Порфирий Петрович.
– Это невозможно, – проронил Виргинский, не открывая глаз.
– Почему же, Павел Павлович?
– Потому что закладной билет у меня.
– У вас!
Виргинский кивнул.
– Очень вас прошу, это крайне важно: вы не могли бы мне его показать?
Виргинский открыл наконец глаза. Секунду-другую его оживший было взгляд вселял надежду. Но, увы, вскоре он опять затуманился и потускнел.
– Павел Павлович, – со всей серьезностью спросил Порфирий Петрович, – вы когда в последний раз ели?
– Ел?
– Да, ели.
– А… А что, у вас еда какая-нибудь есть?
– Нет. Но я мог бы достать.
Виргинский лишь выдавил из себя хриплое подобие смеха. Так посмеиваются над каким-нибудь сумасбродом, сулящим тебе почем зря золотые горы.
– Мне надо только переговорить с хозяйкой.
– Она… Я ей… должен, за жилье.
– Ну так что ж. Ведь это вопрос элементарной человечности! Не даст же она вам умереть с голоду.
– Муж… Ее муж. – Виргинский лишь безнадежно махнул рукой.
– Понятно, – сказал Порфирий Петрович, ставя книги на краешек кровати. – Я сейчас все устрою.
Хозяйку он застал на кухне; женщина помешивала в котле щи. При виде вошедшего она испуганно отвела взгляд.
– Тот юноша, – начал Порфирий Петрович. – Как вы только можете: человек умирает от голода, даром что в доме полно еды!
– Мне муж запрещает.
– Но его нет дома!
– А ну как дознается.
– Каким же образом?
– Он всегда дознаётся. У Пал Палыча выпытывает, а тот по слабости и выдает подчистую.
– И сколько вам Пал Палыч должен?
– У мужа спросите.
– Если б Павел Павлович рассчитался с долгом, ваш муж не против, чтобы вы кормили вашего постояльца?
Женщина кивнула.
– Так вот. Я из следственного управления. Долги Павла Павловича я, таким образом, беру на себя. А теперь, бога ради, дайте ему хотя бы миску щей!
– Мне муж запретил даже нос к нему в комнату казать.
– Хорошо. Дайте миску мне, я сам отнесу.
– Значит, из управления, говорите?
– Да.
– И деньги, стало быть, уплотите?
– Уплачу.
Жена Кезеля, с обреченным видом вынув из шкафа миску, наполнила ее жидковатыми щами и подала вместе с ложкой и куском черствого хлеба.
– Вы только скажите ему, чтоб мужа не благодарил…
– Понимаю.
– Да и меня. Не надо нам ихних благодарностей. Порфирий Петрович отнес миску в каморку к Виргинскому. Студент лежал закрыв глаза, с посеревшим, осунувшимся лицом. Однако аппетитный запах мало-помалу начал его воскрешать. Дрогнули ноздри; облизнув губы, он сглотнул. Проступила улыбка; должно быть, студенту грезился сейчас царский пир. Наконец настал момент, когда до него дошло, что происходящее, вся его неимоверная прелесть – явь, а не сон. В открывшихся глазах мелькнуло пугливое изумление.
– Вы сесть можете? – поинтересовался Порфирий Петрович.
Виргинский на локтях придвинулся к стенке и сел, покорно позволив кормить себя с ложечки. Временами он чуть отворачивался от ложки, не успевая прожевывать очередной кусочек хлеба, смоченный щами. Наконец силы в бедолаге восстановились настолько, что последним кусочком он самолично вытер миску. Порфирий Петрович, за отсутствием мебели, поставил миску на пол. Виргинский с удовлетворенным, слегка мечтательным видом тоненько отрыгнул.
– Так кто вы? – задал он вопрос уже иным, подкрепленным пищей голосом.
– Я уже говорил: Порфирий Петрович, из следственного. Мы беседовали насчет ваших книг. – Он указал на перевязанную стопку.
– О! Мои книги! – радостно изумился Виргинский.
– Значит, ваши?
– Конечно ж мои. А как они у вас оказались?
– Я же вам говорил. Вы, наверное, запамятовали? Виргинский, помолчав, слегка нахмурился.
– Кажется, припоминаю. Но это… Нелепица какая-то получается!
Виргинский поднялся с кровати и, чуть покачнувшись, сделал шаг к противоположной стенке – каморка была такая крохотная, что из середины можно было без труда дотянуться куда угодно. Он поднял рулон отпавших обоев, под которым открылась изрядных размеров дыра. Увиденное почему-то вызвало у Виргинского удивление, причем неприятного свойства. Повернувшись с дрожащим от негодования лицом, он разразился смехом – упругим и нервическим, не то что недавнее его немощное перханье.
– Горянщиков. Вот с-сволочь! – процедил он.
– А кто это такой? – поинтересовался Порфирий Петрович.
– Горянщиков, Федор Дмитрич, – пояснил Виргинский. – Сын той прости-господи, что утащила мою закладную. Я ее здесь держал.
– Утащила, закладную? Интересно, зачем? Это ж то же самое, что украсть чей-нибудь долг.
– О-о, вы Горянщикова не знаете! Это еще тот хлыщ: на любую подлость готов! – Виргинский между тем изучал переплеты своих книг. – Ну слава богу, хоть эти все на месте, – заключил он, румянясь от неловкости за альманах с девицами. – Спасибо за возврат. Премного благодарен. Хоть выкупать теперь не надо.
– Прошу простить, но книги я вам вернуть не могу. По крайней мере, пока. Они – улика в текущем следствии.
– В котором таком следствии? – не понял Виргинский.
– Вы, кстати, не могли бы описать внешность того самого Горянщикова?
– Его-то? А он что, куда-нибудь вляпался? Вообще-то он человек неплохой, скажу я вам. Все эти закладные, книги – так, ребяческие выходки; я на него совсем не злюсь. Уж я его и так и эдак, а он все за свое. Уж такая, видно, натура. Шутник!
– И тем не менее настоятельно прошу описать мне вашего друга.
– Ну что ж, друг так друг. Я и несправедлив к нему бывал, но все равно мы с ним товарищи. Если речь идет о долгах, так я готов написать отцу. Для себя, сами понимаете, мне ничего не надо, но вот для Горянщикова…
– Вернее всего ему помочь – это описать поподробнее.
– Ну, темные волосы. Бородка клинышком. Глаза, кажется, темные, широко посажены. Нос, можно сказать, выдающийся. Да, и еще бородавка на запястье – по-моему, на левом.
– Это все?
– Ой, совсем забыл! – Виргинский смешливо прыснул. – Он к тому же карлик!
Было видно, что собственная шутка его развеселила.
– Павел Петрович. Прошу вас, сядьте. Похоже, у меня для вас дурные вести. Дело в том, что не так давно в Петровском парке было обнаружено тело как раз с такими приметами.
– Как понять, тело?
– Красноречивые факты приводят меня к очевидному выводу: это было именно тело вашего друга. К тому ж и ту закладную обнаружили как раз при нем.
Виргинский, осев на край кровати, закрыл лицо руками.
– Но… как? – простонал он сквозь пальцы.
– Убийство, я полагаю.
– Боже мой! Нет, не может быть!
– Сожалею, но это так.
– Я предупреждал его! Сколько раз остерегал!
– Остерегали? От чего?
– Ему всегда нравится… точнее, нравилось, – исправился Виргинский, – ну, подшучивать. – Он взялся тереть себе глаза, словно пытаясь прогнать сон. – Он был любитель поразыгрывать, иной раз натурально на грани провокации. Я знал, что это добром не кончится.
– Понятно. А враги у него были? Недоброжелатели?
– Что вы! – Виргинский даже руками всплеснул. – Откуда! Хотя меня он иной раз прямо-таки доводил. Да так, что вот взял бы да придушил.
– Нам нужен кто-нибудь, кто опознал бы…
– У меня на это достаточно сил! – перебил Виргинский.
– Заранее соболезную.
Взгляд студента остановился на стопке книг. Он с отсутствующим видом погладил верхнюю, бюхнеровскую «Силу и материю». А потом отдернул руку так, будто обжегся.
– Но не из-за них же его убили? Закладная при нем – это, видно, случайное совпадение, не так ли?
Порфирий Петрович многозначительно промолчал.
– С вашей хозяйкой я условился, что улажу ваши долги. Этой суммы достаточно?
Он силой вдавил студенту в ладонь полусотенную.
– За что мне от вас такая милость?
– Потому что, мне кажется, вы достойны лучшей будущности. А вот нищета и голод, боюсь, способны привести вас к опасному безрассудству, о котором потом пришлось бы сожалеть.
– Откуда вы так хорошо знаете мою натуру? Ведь мы с вами едва знакомы.
– Мне не раз уж доводилось встречать молодых людей вроде вас.
– Скажите откровенно: вы подозреваете, что это я убил Горянщикова?
– Оговорюсь сразу: подле вашего друга был обнаружен еще один труп. Может статься, вы поможете нам опознать и его. Если это кто-то из знакомых Горянщикова, то, может, он был знаком и вам.
– Вот так, прямо сейчас взять и пойти?
– Если вы чувствуете в себе силы. По опыту скажу: лучше перестрадать все это как можно скорее.
Виргинский, коротко кивнув, поднялся было, но его тут же шатнуло в сторону; пришлось подхватывать. Случайно сблизившись со студентом лицом, Порфирий Петрович уловил все тот же запах духов, обративший на себя внимание еще при входе в каморку.
– А… некая Лиля вам, случайно, известна? – спросил внезапно Порфирий Петрович.
– Лиля???
– Ведь она заходила сюда? Причем, можно сказать, совсем недавно. Вы ведь с ней близки? Как друзья?
– Д-да… А вы ее тоже знаете? – растерянно и вместе с тем с горечью переспросил Виргинский.
– Не сказать чтобы близко, но в некотором смысле да. Хотя не в том, что вы думаете. Ее недавно приводили к нам на дознание.
– Она хороший человек!
– Я в этом уверен, – серьезно кивнул Порфирий Петрович, перекладывая стопку книг из руки в руку, чтобы правой сподручней было поддерживать Виргинского. При этом студент в таком положении передвигался как бы с неохотой – не то из упрямства, не то из принципа.








