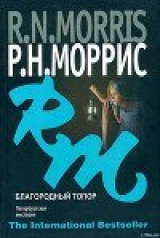
Текст книги "Благородный топор. Петербургская мистерия"
Автор книги: Р. Н. Моррис
Жанр:
Триллеры
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 20 страниц)
Глава 21
БУМАГА ЦВЕТА СИРЕНИ
Порфирий Петрович отбросил папиросу тотчас, как дверь дома на Большой Морской, 17 перед ним открылась. В нос уже на входе ударил тяжелый, неприятный запах – тошнотно сладкий, с маслянистым и слегка металлическим привкусом. И как они только здесь, в доме, им дышат – от такого, извините, ненароком стошнить может!
– Что это еще у вас? Здесь, в воздухе? – удивленно спросил он Катю.
– Да так, матрасы окуриваем, – отвечала она как ни в чем не бывало. – Марфа Прокофьевна жалуется, что ее, дескать, клоп давеча укусил.
– Окуриваете? И чем же?
– Вы что, насчет рецепта узнавать пришли?
– Да нет. Я с Анной Александровной увидеться хотел.
– Ну так проходите, я ей сейчас доложу.
* * *
Следуя за Анной Александровной в гостиную, Порфирий Петрович тайком любовался ее изящной осанкой. «Что-то в этой женщине, буквально в каждом ее движении, одновременно и трогает и печалит», – отметил он про себя.
– Может, чаю? – обернувшись, спросила она, и Порфирий Петрович понял: более всего это сосредоточено в ее взгляде.
Он с улыбкой качнул головой.
– Спасибо, не надо. Я не смею задерживать вас дольше, чем оно необходимо. Тем не менее у меня есть один-два вопроса, которые я хотел бы задать в свете новых обстоятельств…
– Новых? – Пустой стакан в руках хозяйки едва заметно дрогнул.
– Вам известен некто Говоров, Константин Кириллович?
Облегченность словно омолодила Анну Александровну, разом сделав ее симпатичней и привлекательней. Она отчаянно тряхнула головой. «Ей легче оттого, что она отвечает без утайки», – понял следователь.
– Тот Говоров водил знакомство со Степаном Сергеевичем, – пояснил Порфирий Петрович. – И вот он найден мертвым. Убийство. Точнее, отравление. Причем тем же веществом, каким был устранен ваш дворник Тихон.
– А… а Тихон, он разве не повесился? Мы про то в газетах читали.
– Та версия оказалась ошибочной. Нас пытались ввести в заблуждение. Я и сам до недавней поры полагал, что виновник их гибели и есть тот самый Говоров. Ан вот оказалось, что искать теперь приходится кого-то другого.
– И искать, значит, непременно у нас? Вы за этим пришли? – В тревожно дрожащем голосе Анны Александровны слышалась нотка протеста.
– Вовсе нет. Просто у меня появились некоторые дополнительные вопросы, только и всего. Мне необходимо четко, в полном объеме уяснить, какого рода ссора вспыхнула тогда между Тихоном и Горянщиковым.
Под бескомпромиссным взглядом следователя Анна Александровна невольно сжалась.
– Но ведь я уже рассказывала. Зачем вы снова меня пытаете? Я все вам выложила, что знала.
– Ой ли?
– Да!
Лицо у нее пошло пятнами нервного румянца. Она метнула в следователя негодующий взгляд, но тут же отвела глаза, не в силах вынести встречный напор.
– Кем приходился вам Сергей Степанович Горянщиков? – жестко спросил Порфирий Петрович.
– Жильцом! – бросила она сердито, но тут же смягчилась: – Комнату у нас снимал.
– А Тихон?
– Тихон? Дворником.
– И всего-то?
– Как вас понимать?
– А так, что предметом ссоры были, скорее всего, вы.
– О нет, вы ошибаетесь. – Ответ женщины прозвучал спокойней, чем можно было ожидать. Порфирий Петрович чуть склонил голову, моргая. – Степан Сергеевич… – Тут голос у Анны Александровны сорвался. Продолжать она не решилась.
– Место в Петровском парке, где были обнаружены их тела… – Анна Александровна, сжав губы, молча покачала головой. – Помните, в прошлый раз, когда я упомянул Петровский парк… – продолжал между тем следователь.
– И что с того?
– Я заметил… И думаю, не без основания…
– Что? Что вы заметили?
– Знаете, есть такое выражение, «задеть за живое».
– Вот как?
– Так что же там произошло, в Петровском парке?
– Неужели так уж необходимо в это вдаваться?
– Боюсь, что да. И прошу вас, ненужно бояться правды. Я вполне понимаю…
– Что, что вы понимаете, Порфирий Петрович?
– Что все это откровенно причиняет вам боль.
Анна Александровна заговорила – трудно, прикрыв глаза.
– Мы как-то раз отправились туда, летом. Там тогда выступал театр на эстраде, и оркестр. Вначале мы устроили пикник, в парке.
– Вы говорите «мы»?
– Да, мы с дочерью, Софьей Сергеевной. Марфа Прокофьева тоже была с нами. И Осип Максимович, – добавила она после некоторой паузы.
– Понятно.
– Ну а с ним, разумеется, и Вадим Васильевич, – сказала она словно в пояснение.
– Очень вас прошу: расскажите, что произошло.
– Тихон, – выдохнула наконец она.
– Вон оно что.
– Да. Там был Тихон. То есть он, видимо, следовал как-то позади нас. Не в нашей компании. Может, просто по совпадению, взял и набрел на нас в… таком виде.
– В каком?
– В пьяном. Изрядно навеселе. Это единственно, чем можно объяснить его тогда поведение.
– А что он такого сделал?
– Мы расположились на пикник в крохотном таком ложке, под березой. Остальные все потом отправились на прогулку. Я же не пошла, что-то подустала. Осталась читать роман. И тут вдруг Тихон – и откуда только взялся! Выходит, и на меня прямо-таки падает. И…
– Ничего-ничего, бояться совершенно нечего. Говорите напрямую; поверьте, так лучше.
Глаза у Анны Александровны рассерженно блеснули.
– И начал со мной объясняться, в любви!
– И как вы на это отреагировали?
– Так он же дворник! – вскрикнула она изумленно.
– Он прежде всего человек.
– Помилуйте!
– Вы его отвергли?
– Это было ужасно! Прежде всего, он был пьян. Я что, должна отвечать чувствам пьяного дворника?
– Вас кто-нибудь застал за этим?
– Боже упаси! По счастью, нет.
– Точно?
– От всей души надеюсь.
– А что Степан Сергеевич? Он был в тот день с вами?
– Да собственно, нет.
– Степан Сер-ге-е-вич, – задумчиво, по слогам произнес следователь; Анна Александровна нахмурилась. – А вашу дочь звать…
– Софья.
– Софья Сергеевна? – Да.
– Стало быть, супруг ваш Сергеем именовался?
– Сергеем Павловичем. А что?
– Сергеевна… Сергеевич…
– О чем вы?
– Как интересно отчества совпадают.
– Совпадают, только и всего.
– А не могло быть так, что супруг ваш чувствовал к Степану Сергеевичу некое отцовское расположение? Что-нибудь вроде родительского долга?
– Я за мужа отвечать не вправе. Порфирий Петрович утвердительно кивнул.
– И не возможно ли то, что Степан Сергеевич намеренно подзуживал Тихона насчет чувств, которые он испытывал к вам? Не могло ли это послужить причиной ссоры?
– Я, право… – Профиль женщины был таким беззащитным и трогательным, что невольно сжималось сердце.
– Или, может, они были меж собой соперниками?
– Ну, знаете! – вскрикнула Анна Александровна. – Вы смеете на одном дыхании заявлять, что этот человек, с одной стороны, был сыном моего мужа, а с другой, так и вовсе моим любовником!
Порфирий Петрович слегка наклонил голову; вышло похоже на утвердительный кивок.
Тут двери в гостиную распахнулись, и на пороге возникла дородная фигура Осипа Максимовича Симонова; очки, как всегда, на месте.
– Что здесь происходит? – воспросил он с видом решительным, можно сказать грозным.
– Осип Максимович! Слава Богу! – как к спасителю, устремилась к нему Анна Александровна, простирая руки. Однако, не встретив ответной теплоты, замешкалась.
– Я требую разъяснений, сударь! – гневно сказал Осип Максимович, прикрывая за собой двери.
– Разъяснений? Извольте. Я провожу расследование об убийстве троих человек.
– И вы что, подозреваете Анну Александровну?
– Я лишь восстанавливаю объективную картину. Кому, как не вам, это должно быть понятно более всего; вы же книжки философские издаете.
– Анна Александровна – всеми почитаемая, уважаемая женщина! У вас нет никакого права являться сюда со всякого рода провокационными вопросами!
– Откуда вы знаете, провокационные они или нет? Вы что, извиняюсь, под дверью подслушивали?
Порфирий Петрович улыбнулся весьма натянуто.
– Не считайте людей за дураков-с, милостивый государь! Я очень даже представляю, какие гнусные вопросы вы, должно быть, задаете!
– Прошу поверить на слово: уж кому подобные вопросы в тягость, так это именно мне.
– Ну так не задавайте их!
– Боюсь, это моя работа.
– Такая работа благородному человеку не к лицу.
– Возможно. И тем не менее надо же ее кому-то делать.
– Но как! Подвергать Анну Александровну унизительному допросу!
В глазах у Порфирия Петровича мелькнула лукавинка.
– А вот вы как считаете, Осип Максимович: благородный человек способен на убийство?
– Да мало ли кто из нас на что способен, – слегка опешил Осип Максимович. – Тут уж одному Богу известно. Неразумно было б отрицать, что и дворянское сословие иной раз берет сей грех на душу.
– А бывает, например, такое, чтоб дворянин, благородный человек, – и вдруг топором кого по темени? – спросил следователь с хитрецой.
– Ну и вопрос! Хотя отчего же: вот писали как-то, вполне свежий пример. Какой-то студент двоих топором укокошил, старуху с сестрой.
– А и вправду. Хотя образ топора, согласитесь, увязывается скорее с каким-нибудь простолюдином, разве не так? С тем же Тихоном, если на то пошло.
– Соглашусь.
– А вот благородный человек, он какое бы орудие выбрал? Дворянин или, скажем, дворянка?
– Ладно, хватит. Надеюсь, вы закончили допрашивать Анну Александровну? В таком случае, думаю, нам пора раскланяться.
– Да, разумеется. У меня теперь всего один вопрос. И еще просьба. Анна Александровна, у вас нет соображений, каким образом при Тихоне могло оказаться шесть тысяч рублей?
– Тихон? – Щеки у нее побелели. – Да я… Я понятия не имею, – выдохнула она.
– Украл, должно быть, – ответил за нее Осип Максимович. – Ах он шельма! Вот и верь людям.
Он бросил на хозяйку ободряющий взгляд.
– Деньги-то немалые, – раздумчиво заметил Порфирий Петрович, неотрывно глядя на совершенно растерянную женщину.
– На этом, надеюсь, все? – нетерпеливо переспросил Осип Максимович.
– Да, все. Осталась только просьба. Анна Александровна, вы не могли бы мне что-нибудь такое написать? Буквально пару фраз?
– Вы все-таки ее подозреваете! Какая бестактность! В то время как истинный убийца…
– И что же вам написать? – Несмотря на внешнее спокойствие, голос у Анны Александровны предательски дрогнул.
– Да неважно. Лишь бы на вашей личной бумаге.
– Осип Максимович, – Анна Александровна бессильно оперлась лбом о ладонь, – позовите, милейший, Катюшу.
* * *
Катя внесла письменные принадлежности. Сразу же бросалось в глаза, что сиреневатая бумага на подносе точь-в-точь соответствует по цвету конверту, в котором было найдено шесть тысяч.
Горничная прошла сердитым шагом, на Порфирия Петровича даже не взглянув. За ней, преодолевая робость от присутствия посторонних, но горя любопытством, кралась девочка лет тринадцати. Черты ее чем-то напоминали Анну Александровну, хотя в силу возраста были еще не вполне оформившимися.
– Маменька! – выпрыгнув из-за Кати, девочка кинулась к матери.
– Да-да, душечка. – Анна Александровна, ласково обняв дочь за плечи, поцеловала ее в лоб, после чего решительно отстранила.
Осип Максимович, завидев девочку, повернулся к ней спиной и отошел к окну, якобы утратив к происходящему интерес.
Катя поставила поднос на низенький полированный столик, за которым Порфирий Петрович однажды чаевничал. На подносе были перо, чернильница и тонкая стопка бумаги.
– Так что ж, в самом деле, писать? Прямо-таки что угодно? – еще раз спросила Анна Александровна, присаживаясь возле столика на тахту.
Порфирий Петрович кивнул.
– Что-то на ум ничего не идет, – растерянно призналась она.
– Ну, тогда хотя бы… Что-нибудь вроде: «Помним ли мы лето», – предложил Порфирий Петрович непринужденно.
Анна Александровна, подняв голову, посмотрела вопросительно, но ничего не заподозрила. Затем перевела взгляд на Осипа Максимовича, который по-прежнему стоял к ней спиной в сердитой позе. С тоскливым вздохом она взяла перо и занесла над бумагой. Приняв лист с написанной фразой, Порфирий Петрович мельком на него взглянул, помахал в воздухе, а затем, сложив вдвое, сунул в карман.
– Кончится когда-нибудь, наконец, этот фарс? – не выдержал все же Осип Максимович, резким движением оборачиваясь от окна. – Вы все получили, чего хотели?
– От Анны Александровны – все, – невозмутимо отвечал Порфирий Петрович.
– Ну и что решили? Взять ее под арест?
– Пока нет.
– «Пока нет»! То-то я и вижу, что «пока»! Мы им все уже сыты, этим вашим «пока»! Оправдывает ли оно вообще всю эту хамскую процедуру? – Ответа Осип Максимович дожидаться не стал. – Кстати, пока мы все подвергаемся этой самой экзекуции, позвольте спросить: когда вы, наконец, возвратите перевод Прудона, который вы столь бесцеремонно изъяли из комнаты Степана Сергеевича?
– Пока не могу. Я еще не закончил изучение.
– Какое еще изучение! Это перевод философического текста. Какое отношение он имеет к вашему пресловутому делу?
– Там имеется ряд неточностей. В переводе есть места, коих нет в оригинале.
– Да как можете вы судить о неточностях! – вспылил Осип Максимович. – Что вы вообще смыслите в переводах философии! Переводить ее дословно – настоящий абсурд! Степан Сергеевич в своих переводах был поистине гением интерпретации!
– Да что вы вообще об этой книге так печетесь? – Порфирий Петрович недоуменно пожал плечами.
– Потому что она принадлежит мне! – окончательно теряя терпение, выкрикнул Осип Максимович. – И я нашел для ее завершения переводчика! Мне необходимо знать, сколько Степан Сергеевич успел сделать до своей кончины.
– Я ее возвращу, непременно возвращу, как только будет возможно. А сейчас я бы хотел переговорить с еще одним лицом, проживающим в вашем доме.
* * *
Марфа Прокофьевна слышала, как открылась и захлопнулась дверь в ее комнаты. При этом она не выпустила, а лишь крепче сжала костлявыми пальцами колоду карт.
– Ну что, вот и ко мне тебя принесло, – недобро улыбнулась она ввалившимся ртом.
– А вы меня знаете? – слегка удивился Порфирий Петрович.
– Да уж как не знать. Тот, что все выведывает да вынюхивает.
Следователь с улыбкой кивнул.
– Звать меня Порфирий Петрович, я из следственного управления. Из полиции, проще говоря. Расследую обстоятельства смерти Степана Сергеевича и Тихона, дворника. А также смерть еще одного человека, некоего Константина Кирилловича Говорова. – Старуха вскрыла в колоде бубнового туза. – Сколько вы уже проживаете с этим семейством, Марфа Прокофьевна?
– Да всю жизню, – отвечала она.
– Вы сами из крепостных?
– Из них. Из дворовых, Сергей Иваныча отца.
– Получается, вы и после вольной у них остались?
– А куды мне было? Да и Софьюшку надо было кому-то пестовать, сызмальства-то.
– Софью Сергеевну?
– Ее, голубушку.
– Мне бы хотелось поговорить с вами о Степане Сергеевиче. – Марфа Прокофьевна неспешно кивнула. – Он, кажется, был должен вашей хозяйке денег?
– Да хоть и должен, а что? Какая разница-то.
– Это как понимать?
Старуха пожала костистыми плечами.
– Эко диво, деньги. Деньги на свете не главное. Ну, бывало, и затягивал с оплатой за жилье. Но ведь рассчитывался же как-то, уж как его там Бог выручал.
– Вы, кажется, обмолвились насчет некой связи между Степаном Сергеевичем и Анной Александровной?
Марфа Прокофьевна вместо ответа положила червовую восьмерку на тройку пик, возле бубновой девятки. Вскрыла червового валета.
– Ну что, быль-небыль тебе разве рассказать? Уж Софьюшка как любит, когда бабка ей сказки сказывает. Бабушка, говорит, расскажи мне сказочку! Хотя сама уж большенькая.
– Да, бабушка, расскажите, пожалуйста, – в тон ей попросил и Порфирий Петрович.
– Так вот, жил-был однажды барин один, красавец молодой, из дворян. Богатства несметного. Одних крестьян почитай что тыща душ у них была. И заприметил раз тот барин девицу, тоже недурна собой, на речке. Она как раз одежу там стирала. И как увидал он ее за тем занятием, так и понял, что это она не рубаху какую, а будто само сердечко его как есть в руках держит да в воде той полощет. И вышел тот барин молодой из кустиков, откуда за девицей тайком той подглядывал. А как обернулась она к нему, так они разом и поняли, что любы друг другу. Ан девица-то было всего из крепостных, куда ей до него по знатности. Не пара, стало быть, ему, а потому и любви ихней не бывать. Ан пошли они тогда судьбе наперекор, и родился у них через любовь ту запретную мальчишечка. Степаном крестили. И вот как-то ночью, пока мать того дитятки спала, выкрали у нее ребеночка и в приют сиротский свезли, в Петербурх. С той поры сколько лет прошло. Барин тот красавец остепенился, да и уехал в город от зазнобушки своей крепостной. А у нее через то сердечко все как есть закаменело. Ну да ничего, как служила она их семье верой-правдой, так даже и в город потом перебралась им прислуживать, даром что барин-то уже на другой, благородной, женился, и девочку она ему родила. Вот нянька крепостная та, даром что все в памяти сыночка своего держала, стала теперь чужое дитятко как свое родное пестовать. А мальчик тот, Степанушка, к той поре подрос – да только рот росточком не вышел. Видать, грехи родительские так на ём сказались, что рученьки-ноженьки у него толком не выросли, так крохотные и остались. А умом вот, наоборот, выдался. Ужу него и отец был вон какой образованный, да и мать не дура набитая. А надо сказать, что когда его младенчиком в приюте том пристраивали, то на шейке, на ленточке перстенек с печаточкой фамильной ему оставили. А ему, по уму-то его прыткому, только того оказалось и надобно. И вот он, большой уже, даром что росточком дитя дитем, по перстеньку тому папашеньку своего и разыскал. Ну а уж тот в слезы – прости, мол, мне, окаянному! – и признал-таки в нем сына. Только чтобы в тайне все сохранить, выдал его отец якобы за жильца, а жене своей ничего про тайну ту не сказал. А через годок после того взял да и помер в одночасье. Неизвестно от чего. – Старуха, покачав головой, сгребла карты. – Не складывается нынче чегой-то.
– А… теперь? – спросил Порфирий Петрович осторожно. – Теперь она знает, Анна Александровна?
– Теперь-то? Теперь знает. Я ей все как есть рассказала. Подчистую.
– А зачем?
– Вам всем и не понять. На то Степан Сергеича нашего знать надо было. Ох человек был! Бывало, как глянет глазищами своими – ажио оторопь берет. Никакая девица перед взглядом таким устоять не могла, как бы поначалу над малорослостью его ни потешалась. Бывало, иная какая хохочет при встрече – вот, мол, уродец, – а как сойдется с ним глазами – так уже и сидит сама не своя. И не то что покорство в ейных глазах, а уж и кое-что похлеще: вся как есть в его власти. Вот так он всех нас своими глазищами в устрашении и держал, не смотри, что карлик.
– А что случилось, когда вы ей обо всем рассказали?
– С Аннушкой-то? С ней враз припадок нервный сделался. Даже сорвало, прямо за столом. А потом все вздыхала и плакала втихомолку. Мол, почему вы от меня все утаивали. Ну а потом и вовсе ей что-то примстилось. Будто б он на Софьюшку ее как-то странно поглядывает. Хотя в одном она права: Степан Сергеич наш иной раз ну прямо как сущий дьявол делался, впору аж перекреститься. Что правда, то правда. Убогие так себя и не ведут. Тут что-то иное…
– Как вы думаете – а могла Анна Александровна решиться на убийство, чтобы не допустить… немыслимое?
Марфа Прокофьевна молча раскладывала очередной пасьянс. Так ни слова больше и не проронила – хотя бы из вежливости, когда гость перед уходом прощался.
Глава 22
СВЯТЕЙШИЙ СТАРЕЦ НА РУСИ
День едва занимался, когда в восьмистах верстах к югу от Петербурга, под Калугой, в короб открытых саней забрался Евгений Николаевич Улитов, молодой капитан-исправник из следственного управления. Усевшись рядом с возницей, он довольно бесцеремонно перетянул на себя его овчину, даром что сам был в толстой шубе, меховых рукавицах и ушанке.
Глаза у него сами собой смежались от недосыпа, а тело пробирал легкий озноб – не столько от мороза, сколько от давешних излишеств: позволил себе вчера усугубить в земском собрании, где провел бурную ночь в дебатах об устроении земства, а также о свободе слова и существовании (или, наоборот, отсутствии) человеческой души. Потом еще дискутировали насчет безумия (как в юридическом, так и в сугубо психиатрическом его аспекте), а также насчет невежества, просвещения, церкви и положения крестьянства. Потом еще, кажется, спорили о вольности крепостных, о реформах, даже монарший дом косвенно задели. Затем спор сам собой перетек на женский вопрос, который постепенно свелся исключительно к обсуждению достоинств двух сестер, актрис местного театра. Ну и далее о красоте и уродливости современного искусства, литературы, архитектуры, и вообще что может ждать Петербург через сотню-другую лет…
Неизменным антагонистом Улитова во всех этих спорах без конца и без начала (и, разумеется, без результата) был земский врач Артемий Всеволодович Дроздов, которого сам Улитов во всеуслышание объявлял единственным цивилизованным существом во всей Калуге.
Во рту с ночи, честно сказать, будто эскадрон ночевал. Заиндевевшие усы облепили Улитову губы, и лишь присутствие рядом ямщика сдерживало соблазн хищно облизать их, а заодно и расчесать ногтями бакенбарды. Шампанского за вечер, помнится (хотя и смутно), откупорено было преизрядно – Улитов даже прикрыл себе варежкой рот, словно сморозил невзначай какую непристойность.
Какие бы споры ни возникали у них с Дроздовым, а заканчивалось все одним: собственно Петербургом. А именно как их так угораздило застрять в этом захолустье, когда однокашники их по университету вымостили себе вон какие карьеры, всем на зависть, пробившись чуть ли не в цвет столичного общества. Иной раз друзья даже не столько спорили, сколько с мечтательной завистью вздыхали, произнося одни лишь названия центральных улиц и площадей столицы: «Ах, подумать только, Невский! Возле самой Дворцовой площади!» После чего нависала угрюмая тишина, казалось лишь оттеняемая гротескными силуэтами откупоренных бутылок в скупом свете свечей. Так наступала ночь, вслед за которой брезжило безрадостное утро, принося с собой унылую череду служебных будней.
Кучер Улитова Матвей не спеша раскуривал трубку. Закончив с этим делом, он наконец с покровительственным видом повернулся к своему седоку.
– Ну что, ваш бла'ародь, куды нынче? – спросил он снисходительно, берясь за вожжи. (Ишь расповадили их, мужланов: дали вольную.)
– В Оптину пустынь.
– Куды? В пустынь!! – У изумленного Матвея аж вожжи опустились.
– Ну да. Да трогай ты, наконец!
– Так далеко же!
– Знаю. Оттого и времени терять нельзя.
– Так до ночи оно небось и не доберемся!
– Почему это?
– А коли метель? Так и вовсе не доедем, с пути собьемся!
– Так что ты предлагаешь, друг мой? Торчать здесь, вместо того чтобы выполнять приказ начальства? Прикажешь телеграфировать в Петербург, что, дескать, исправник Улитов вынужден оставаться здесь? Кучер, мол, сомневается, что ехать далековато?
– Так ведь коли буран да в дороге завязнем, вы ж мне потом сами нагоняй сделаете. Это еще если Бог милует, то бишь в снегу не замерзнем.
– Нагоняя тебе как раз не будет, если в Оптину пустынь поспеем благополучно. Мне туда знаешь к кому попасть нужно? К отцу Амвросию.
– Да неужто к нему?
– Вот тебе и «неужто».
– К самому святому старцу?
– Уж не знаю, какой он святой…
– Да святой, истинно святой! Вот моя эта… дочка родственницы жены моей. Точнее, сестры свекрови ее кума дочка, кажись. Или не она, а кто-то из ее родни, – в общем, он ее и впрямь-таки исцелил! Ей-бо!
– Да, я тоже что-то такое слышал про его деяния.
– Доктора совсем уж было на нее рукой махнули. Угасала прямо на глазах. Все нутро ей наружу выворачивало. – Матвей изобразил как; Улитов брезгливо отвернулся. ~– Да только говорят, слабеет он, старец-то, – продолжал кучер, – недолго уж ему на этом свете осталось. Зато на том небось сразу в раю окажется.
– Что ж, тем более надо поторопиться, чтоб в живых его застать, – рассудил Улитов.
Матвей взглянул на исправника так, будто тот брякнул невесть какую чушь. Но все же поднял и дернул поводья, укоризненно качнув при этом головой. Пара лошадей, всхрапнув, тронулась с места в морозную даль – неспешно, словно чуя неохоту возницы.
* * *
Когда сеево снежинок сгустилось до хлопьев, Матвей ничего не сказал, а лишь на мгновенье обернулся к седоку. Оба уже долгое время молчали.
Вскоре кружащиеся хлопья полонили уже все видимое пространство. Они вихрились и кружились в воздухе, но всего обильнее падали на проторенную в снегу дорогу. Первым делом скрылись из виду окружающие перелески. Затем верстовые столбы. И вот уже сквозь неистово кружащуюся порошу Улитов различал разве что конские зады впереди.
Матвей натянул поводья, и сани вскоре остановились.
– Ну вот и сбились с пути, – подытожил он, делая руку козырьком в попытке что-нибудь разглядеть сквозь разгулявшуюся непогоду.
Улитов промолчал.
Матвей вдруг спрыгнул с облучка и, хлопнув рукавицами, что-то сказал и скрылся в пелене бурана. Как в воду канул.
Исправнику сделалось очень неуютно. Сквозь завывание пурги слышалось лишь, как, встревоженно переминаясь, скрипят копытами по снегу лошади. Помнится, прошлой ночью Улитов с Дроздовым дискутировали насчет души – а именно сохраняется ли она после смерти. Со свойственной молодости бесшабашностью они развили диспут, можно сказать, до вселенских масштабов. Дроздов, будучи медиком, отстаивал сугубо физиологическую концепцию человеческой личности. При этом аргументы выдвигал поистине неопровержимые. Дескать, если личность индивидуума до неузнаваемости меняется в ходе какой-нибудь тяжелой болезни – скажем, слабоумия, – то логично будет предположить, что у личности как таковой нет некой неизменной, не подверженной эрозии сердцевины. И уж если в ходе болезни личность необратимо меняется до неузнаваемости, то логично будет заключить, что смерть и вовсе кладет конец существованию личности как таковой.
И вот теперь, сидя в полном одиночестве среди беснующейся вьюги, Улитов вдруг почувствовал, что отвергать эту версию не так уж просто. Вернее, и хотелось бы, да вот не получается.
Он прикрыл глаза. Сами собой, против воли, приходили на ум слова молитвы. Как-то даже унизительно.
Тут сани качнулись – это на облучок взобрался Матвей. Улитов, похоже, никогда еще так не радовался постороннему человеку.
– Ставрогина Роща! – перекрикивая вьюгу, сообщил кучер. – Коль слева ее обогнем, как раз на Козельск-то и выйдем!
Улитов бездумно вперился в сторону, куда указывал ему Матвей. Но ничего, кроме оголтелого мельтешения снежных хлопьев, так и не разглядел.
* * *
Уже в Козельске, в земской избе, их покормили и напоили чаем. За едой оба путника то и дело смотрели в окно, за которым ярилась вконец осатаневшая вьюга. Улитова эта картина повергала в такую тоску, что он наконец не выдержал и отвернулся. Вместо этого вынул и еще раз перечел полученную накануне депешу:
«прибыть оптину пустынь тчк допросить о тчк амвросия зпт подтвердить пребывание Симонова осипа Максимовича опт пуст 29 ноября 11 декабря вкл тчк»
Улитов с безнадежным видом сложил телеграфный бланк. Депеша была послана неким Порфирием Петровичем из Департамента по уголовным делам Санкт-Петербурга. Само название ведомства звучало как музыка, словно бы приобщая исправника к столице или, по крайней мере, давая волю мечтам, с нею связанным. Даже сердце чаще забилось от этой депеши. А вдруг да вожделенное продвижение по службе? Невольно представились хлопочущие о его, капитана-исправника, повышении высокие должностные лица – может статься, что и в самом Департаменте. А он, скромный службист, сидит тем временем в здешнем захолустье и пережидает в земской избе треклятую эту метель.
Как, интересно, выглядит этот Порфирий Петрович? Когда представить загадочного столичного чиновника не получилось, Улитов вместо этого представил самого себя – как он уже в новом чине дефилирует летней порой по Невскому.
– Гляньте-ка, ваш бла'ародь!
Улитов, досадливо обернувшись, увидел, что Матвей показывает на окошко. Оказывается, метель за это время унялась и небо, хоть и по-прежнему хмурое, уже не сыпало снегом.
– А ну готовь лошадей!
– Да вы что, ваш бла'ародь! Уж не ехать ли надумали?
– Нельзя медлить ни минуты! – окрыленный собственными грезами, исправник был уже на ногах.
– Да господь с вами, – сказал кучер с укоризной. – Не ровен час, опять посыплет. Да и стемнеет скоро, я и сани за ворота выгнать не успею. Надо б до утра обождать. Утро, оно вечера мудренее.
Вспомнив свое мучительное ожидание запропавшего слуги, Улитов решил на этот раз послушаться. Однако глянул на депешу, и так жалко себя сделалось, что прямо ком в горле. Не хватало еще при кучере слезу пустить.
* * *
К монастырю сани приближались по замерзшей Жиздре. Золотые кресты словно реяли в погожем небе, отсверкивая под зимним солнцем яркими, радостными бликами. При виде этой картины сладко замирало сердце. «Да ну, это всего лишь обшитое позолотой дерево!» – не верил своим глазам Улитов. Хотя себя не обманешь: первое впечатление действительно такое, будто кресты чудесным образом сами плавают в небесной лазури. «Но как такое возможно? В чем здесь фокус?» И лишь по приближении, где река делала изгиб, кресты в воздухе с величавой плавностью повернулись, и причина чуда стала ясна. Кресты крепились к куполам, синие маковки которых на расстоянии неразличимо сливались с небом. По приближении же купола словно сгустились из морозной сини, крупными лазоревыми каплями застыв под крестами.
От сторожки у реки к стенам обители нужно было подниматься по крутому, поросшему лесом склону. Некоторые из паломников, по рассказам, проделывали тот путь на коленях. Сани вместе с кучером Улитов оставил возле сторожки, а сам отправился дальше пешком, в сопровождении монашка, который, очевидно, специально его дожидался.
«Надо же, как у них тут устроено, – думал исправник по дороге, – из всего готовы тайну делать».
Провожатый попался на редкость общительный, говорливый, и избегал почему-то смотреть в глаза. Разговор был, в сущности, ни о чем. Вообще беспричинной своей жизнерадостностью монашек напоминал какого-нибудь ребенка в канун праздника.
«Блаженный, что ли? Нет, скорее слабоумный», – подумал Улитов.
– Вы, должно, к отцу Амвросию, – определил монашек, представившийся братом Иннокентием. Одет он был в одну лишь рясу, но холода будто и не чувствовал, а по протоптанной в глубоком снегу тропке шел ходко, так что Улитов еле за ним поспевал.
Исправник, раздраженно нахмурившись, все свое внимание сосредоточил на ходьбе.
– К нему, к нему, к кому ж еще, – с загадочной улыбкой тараторил монашек. – Тут уж сколько народу перебывало. Все нашего старца видеть хотят – что ни день, то еще кто-нибудь приходит. Вам, пожалуй, даже в очереди придется подождать, чтоб к нему попасть.
– Вот еще. Я не паломник вовсе, а по поручению начальства. Из следственного управления.








