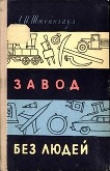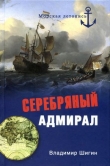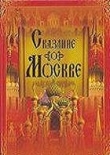Текст книги "Повседневная жизнь Голландии во времена Рембрандта"
Автор книги: Поль Зюмтор
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 25 страниц)
Глава XXIX
Промышленность
Слабое звено
Нидерландская земля обладала только двумя полезными природными ресурсами, а именно песком и торфом. Для строящихся на болотистой почве зданий нельзя было придумать лучшего основания, чем мягкий слой песка, что в этой почитавшей Библию стране порождало интересный парадокс, – строить замки на песке по Библии вовсе не значит строить их на века. Песок шел на строительство укреплений, валов и рвов. Этот столь ценный материал вывозился главным образом с прибрежных дюн. Так, для поддержания городских сооружений лейденский муниципалитет заказывал песок на дюнах Ёгстгеста. В северных деревушках, выросших в Средние века на искусственных клочках суши, жили исключительно продажей песка, добываемого в местных карьерах.
Торф был более привычным видом топлива, чем дерево. {254} В некоторых районах его интенсивная и неумелая добыча привела к образованию ям, затапливаемых водой, что ухудшило состояние края, и без того страдавшего от заболачивания почвы. В начале XVII века муниципальные власти Гронингена взяли добычу торфа под свой контроль и внесли определенный порядок в эту индустрию. Через Саппемерскую топь была проложена сеть судоходных каналов, вдоль берегов которых выстроились рядком «колонии торфяников».
Торф выкапывался кусками, которым придавалась форма кирпича, затем сушился на воздухе и складывался в сарайчиках, где наконец затвердевал. Булочники и пивовары предпочитали топить печи торфом из Фрисландии, более пористым и ломким, чем гронингенский.
Нидерландская промышленность, особенно обрабатывающая, задыхалась в тисках корпоративного законодательства, оставаясь в целом на уровне цехового ремесла. По сравнению с транзитной торговлей ее экономическое значение для страны было не столь существенным. Таким образом, отсутствие солидной промышленной базы создавало в течение долгого времени серьезное препятствие для развития торговли, а промышленность, в свою очередь, находилась в слишком зависимом положении от направления торговли.
Однако в равной, если не большей степени, что и торговля, промышленность выиграла от притока эмигрантов-фламандцев. А главное, в руках промышленности был сильный технический козырь – ветряные мельницы, способы использования которых на пороге «золотого века» отличались большим разнообразием. Даровая энергия ветра приводила в движение механизмы лесопилок, бумажных мастерских, маслобоен, фабрик по производству пушечного пороха. В мукомольнях усовершенствованные жернова позволяли очищать овес, не перетирая его в муку, как делалось в других странах. Мельницы служили подъемниками, насосами. Строителя мельниц можно уподобить современному инженеру. Так, Ян Андриаэнзен Лехватер ставится в один ряд с великими людьми того времени. Мельница самого старого типа выглядела, как клетка кубической формы высотой в один этаж, к которой крепилась ось крыльев. Сама клетка вращалась на массивном деревянном крестообразном основании, располагавшемся горизонтально на крыше неподвижного нижнего этажа. Около 1600 года появилась мельница с неподвижным цилиндрическим корпусом и вращающейся крышей с установленными на ней крыльями, которая управлялась при помощи рычагов. Немногим ранее Корнелий Корнелисзен изобрел гигантскую мельницу-лесопилку, так называемый «пилтронг», {255} которая предназначалась для распиливания самых тяжелых брусьев, в частности, на корабельных верфях. Собственно мельница образовывала блок, возвышавшийся над мастерской, пилы которой он приводил в движение. Блок и мастерская объединялись общим каркасом. Мастерская находилась на уровне второго этажа и открывалась, как склад, позволяя грузить готовые доски прямо на шаланды. Все сооружение достигало размеров городского здания и покоилось на каменном фундаменте, внутри которого перекатывались подвижные опоры. Удачно вписываясь в окружающий ландшафт, мельницы, нередко опоясанные рвом с подъемным мостиком, стали одной из наиболее самобытных черт Голландии. {256} Вокруг них скоро сложились настоящие традиции. Мельничные крылья всячески украшались, в зависимости от ситуации. Когда простой люд хотел выразить большую радость, жернова останавливались так, что крылья замирали вертикальным крестом, увенчанным флагом. Если игралась свадьба, два воскресенья подряд жернова украшали цветами. В провинциях Голландия и Зеландия больший или меньший наклон крыльев означал в дни траура степень родства мельника и усопшего. Угол в 45 градусов означал сильнейшую скорбь, а также общественное бедствие. {257}
Появление ветряных мельниц восходит к Средневековью. Их промышленная эксплуатация начинается в XV веке, особенно в районе Сандама. К 1600 году в этом городе и его окрестностях насчитывалось добрых полсотни мельниц. За годы «золотого века» их число настолько возросло, что Санстрек превратился в самый большой промышленный центр – в 1700 году здесь взмахивало крыльями около шестисот мельниц. Их главным назначением было распиливание ввозимого в страну по Рейну строевого леса, который в огромных количествах шел в Амстердам на строительство новых жилых кварталов и кораблей. Сопротивление гильдии амстердамских пильщиков, слепо преданных дедовскому методу ручного распиливания, было сломлено острой конкуренцией, и с 1630 года Сандам полностью забрал этот рынок под свой контроль.
Победа пошла на пользу всем отраслям промышленности, которая в течение первой четверти века сосредоточивалась в руках местных мельников – маслобойни, обрабатывавшие рапс, репу и коноплю; фабрики по производству красителей на бразильской древесной основе, мела, крахмала; заводики по приготовлению белил; предприятия по измельчению табака и растиранию горчицы; подготовка сырьевой основы для цехов по изготовлению веревок и канатов; мельницы-веялки, окрещенные местными жителями «вонючками»; мельницы для приготовления пряностей и, наконец, писчебумажные фабрики. К концу века каждую четверть часа от причала Сандама отходило груженное товаром судно, держа курс на Амстердам, что лежал в каких-то 15 километрах. Эта близость в не меньшей мере, чем лесопильни, способствовала строительству в Сандаме крупных корабельных верфей, соперничавших с доками Роттердама. Здесь лучше, чем где бы то ни было, плотники умели «сшивать, сколачивать, обтесывать, окантовывать, состругивать, просверливать, распиливать и разделывать доски, а также справляться с любыми загвоздками». {258} Кабестаны натягивали канаты. Каркасы тащили бечевой при помощи ворота, который приводила в движение целая команда рабочих, встававших на колышки, что были вделаны в высокие вертикально поставленные колеса трех-четырех метров в диаметре, которые вращались ногами.
К концу века в Сандаме насчитывалось до 50 корабельных мастеров. С его верфей ежегодно спускалось на воду от 30 до 35 судов, несмотря на неудобную конструкцию сооружений – после окончания первых работ в одном бассейне, корабли длиной более 40 метров перетаскивались в другой и, что весьма характерно для нидерландских промышленных подструктур, не отличавшихся взаимным соответствием, недостроенные корабли тащили вручную бечевой через вал более двух метров высотой, а затем – по изогнувшейся монгольским луком улочке, едва достигавшей в самом широком месте восьми метров.
После Сандама только Лейден мог считаться судостроительным городом. Являясь в силу старых ремесленных традиций столицей текстильной промышленности (в особенности шерстяных тканей), Лейден сумел усовершенствовать и существенно развить свое производство усилиями беженцев-фламандцев. С 1619 года этот город выставлял на рынок 110 тысяч отрезов шерстяной материи – грубой ткани, саржи, фютена – в 4 раза больше, чем в 1584 году. Уже с 1615 года здесь производилось сукно «на аглицкий манер». Развитию этого направления способствовала определенная механизация труда – на смену старому способу валяния шерсти ступнями ног пришли мельницы. Сила лошади и человека более не являлась основным источником энергии. В 1630–1640 годах сформировался рабочий класс (частично благодаря притоку бедных эмигрантов). Это время первых манифестаций в мастерских ткачей и суконщиков, капиталистических методов использования кредита и конкурентной борьбы. На мировых рынках последняя проявлялась довольно жестоко. Лейденцам так и не удалось достичь высот амстердамских негоциантов. {259} В самих Нидерландах около 1630 года наблюдался период, когда главенство Лейдена в текстильной промышленности пошатнулось под натиском Тилбурга, в изобилии снабжавшегося контрабандной испанской шерстью. Вслед за этим предприятия Брабанта и Хелдера, имевшие семейную структуру, попали в полную зависимость от голландских мануфактур и зачастую работали исключительно на них. Так же обстояли дела и у гарлемских предприятий по отбеливанию тканей, не сумевших выйти из-под власти крупных торговцев. {260}
Изначально крупнейшими центрами пивоварения были Гарлем и Делфт, но в ходе XVII века конкуренция в этой отрасли сильно возросла. В Роттердаме, Гронингене, Неймегене, Амстердаме, Девентере, Арнхейме и Дордрехте завелись собственные пивоварни, что привело, в частности, к упадку Делфта. В этом городе, где еще в конце XVI века треть ремесленников составляли пивовары, к 1600 году закрылось 29 пивных заводиков, а в последующие полвека еще 57. В 1667 году их не осталось почти совсем.
Гауда торговала трубками и канатами. Почти по всей стране существовали предприятия по обжигу кирпича. Выходцы из Антверпена создали в Амстердаме несколько отраслей обрабатывающей промышленности, связанной с работой порта. Организованные ими мыловарни получили всемирное признание. Заводов по очистке сахарного тростника к 1630 году насчитывалось уже 30. После потери такого крупного поставщика, как Бразилия, сахарный тростник стали выращивать на Яве. В 1662 году целый флот из 100 кораблей доставлял на берега залива Эй сахар-сырец с Антильских островов, Инсулинда, Формозы и Сиама.
Огранка алмазов – ремесло, завезенное в Амстердам антверпенцем Петером Кросом, не снискала достаточно приверженцев, чтобы образовать отдельную гильдию. Она долго оставалась свободным занятием, одним из немногих, которым могли предаваться иудеи. Ювелирное дело худо-бедно перебивалось весь XVII век и смогло по-настоящему раскрыться только в следующем столетии.
Рыболовецкие промыслы
Объединяя собой использование природных ресурсов, ремесло и торговлю, рыбная ловля – основа голландской и зеландской экономики оставалась одним из самых продуктивных видов деятельности приморских провинций. Нидерланды изобиловали рыбой – сырьем, продуктом питания и предметом обмена. Рыбой занималась особая гильдия, которая управляла ловлей и следила за гигиеной потребления морских продуктов. В Амстердаме значительное расширение этой гильдии вызвало взрывную реакцию – торговцы копченой рыбой отделились в собственную. Почти повсеместно власти своими постановлениями передавали булочникам монопольное право на торговлю жареной рыбой. На каждом углу открывалась лавочка с сильным и малоприятным запахом, на вывеске которой изображался «Чудесный улов». Бочки со свежей рыбой, рассортированной по видам, загромождали прихожую и тротуар перед входом, осененным омарами, подвешенными к карнизу. На рынках среди все тех же бочек за длинными прилавками люди обсуждали свои дела с рюмкой крепкой водки в руке…
Начало нидерландского процветания восходит к изобретению зеландским рыбаком около 1385 года подобия бочонка, что обеспечило сохранение сельди на продолжительное время. Освободив рыбу из сети, ее потрошили, оставляя только молоку, и бросали в бочку, пересыпав солью. Это изобретение позволило использовать огромные природные богатства, которые дарили сезонные атлантические банки, кишевшие сельдью. Из традиционной рыбной ловли, удовлетворявшей спрос только внутреннего рынка, выросла гигантская международная торговля.
С начала XV века рыбная торговля процветала. Осознавая ее значение для развития страны, муниципалитеты оградили ее протекционистскими мерами, которые, благополучно пережив все политические волнения, к XVII веку превратили ловлю сельди в самый упорядоченный вид деятельности. Вначале вся ловля сосредоточивалась в портах Зёйдер-Зе, особенно в Энкхёйзене, который был обязан рыбе своим богатством и свою признательность этому дару моря выразил, поместив в герб трех сельдей, увенчанных коронами. Затем в промысел сельди включился Роттердам. В XVII веке эти два города практически монополизировали отрасль, вылавливая в год общими усилиями вместе с зависимыми от них маленькими соседними портами рыбы на 10 миллионов флоринов при флоте в 500 шхун. Размеры ловли привели к созданию настоящей промышленности в заинтересованных городах. Соли было уже недостаточно, чтобы обеспечить длительное хранение продукта, которое требовалось при таком размахе торговли. {261} Пришлось учредить в портах особые цехи по обработке сельди во вторичном рассоле. Финансовый интерес этой операции подвигнул Амстердам присоединиться в свою очередь к рыболовецкой отрасли.
Многочисленные маленькие порты, разбросанные по берегам Фрисландии, Голландии и Зеландии, были выброшены из монопольного промысла сельди и довольствовались ловлей трески, мерлана и морского языка в открытом море или возле побережья, в зависимости от снаряжения. Дордрехтцы промышляли рейнского лосося. Жители некоторых бедных прибрежных деревушек, не имевшие лодок, зарабатывали на жизнь перевозкой рыбы в соседние города на повозках, запряженных собаками. Влиланд, самый удаленный из фризских остров, отчасти жил сбором мидий.
Еще со Средних веков сандамские рыбаки специализировались на ловле угрей, большое количество которых периодически мигрировало в голландских водах. Эта рыба содержалась в больших садках, выкопанных поблизости от города, до ежегодных торгов в начале зимы. Не довольствуясь ловлей в собственных водах, сандамцы платили Дании за право промышлять угря вблизи острова Амагер. Осенью из порта Сандама выходила флотилия судов, снабженных чанами для транспортировки живой рыбы. После ловли флотилия спускалась порой до французского побережья для сбыта товара. Осушения, проводимые во внутреннем бассейне провинции Голландия с 1610 года, значительно сократили районы, посещаемые угрем. Некоторые его виды полностью исчезли. После 1640 года доходность этого промысла сильно упала.
В течение всей первой половины века над рыбаками висела серьезная угроза. Завоевав в 1583 году город Дюнкерк, герцог Пармский снарядил флот для нападения на голландские и зеландские суда. На доходы от этого подлого пиратства Дюнкерк жил почти 60 лет. Прокрадываясь вдоль побережья, дюнкеркцы иногда внезапно прорывались чуть ли не в голландские порты, разрушали сооружения, поджигали шхуны. Перемирие не положило конца их рейдам. Лишь за один год Энкхёйзен потерял сотню судов. Поскольку в дюнкеркский порт торговые суда не заходили, репрессивные меры оказывались тщетными. Голландские моряки, привлеченные возможностью легкой наживы, бросали службу и присоединялись к пиратам. Когда весной рыболовецкий флот поднимал паруса, направляясь на ловлю сельди, его сопровождал конвой из военных кораблей. Генеральные штаты отдали указание не брать дюнкеркцев в плен – их бросали в море. {262} Такое положение дел сохранялось до 1646 года, когда франко-голландской армии удалось наконец взять Дюнкерк, который был присоединен к Франции. {263}
Поиск судоходного пути к северу от Скандинавии в первые годы XVII столетия привел сначала англичан, а затем и голландцев к встрече со стадами китов, посещавших эти воды. В 1611 году англичане снарядили два китобойных вельбота. На следующий год Амстердам, в свою очередь, спустил на воду китобойную шхуну, доверив командование английскому лоцману и щедро оплатив его услуги. Энкхёйзен, Сандам и Делфт встали на тот же путь. Но борьба с английскими конкурентами потребовала разработки общей политики. В 1614 году группа голландских китобоев образовала Северную компанию, которая спустя три года получила официальный статус и исключительное право охотиться на китов между Шпицбергеном и Гренландией.
Основатели компании строили грандиозные планы. В Амстердаме ими были сооружены три громадных склада, снабженных кирпичными погребами, которые образовывали колодцы для хранения ворвани общим объемом до миллиона литров. Для добычи ворвани на Шпицбергене был построен завод, а для его рабочих – деревушка Смеренбург, население которой жило там только летом и уезжало на материк по окончании сезона. Вторая подобная колония была создана на острове Ян Мейен {264} … Однако эти заведения принесли немного пользы. Монополия компании практически не соблюдалась, да и, впрочем, сам ее статус был довольно размытым. При появлении китобойных шхун киты уплывали; приходилось гоняться за ними в открытом море и добывать ворвань прямо на борту. Таким образом, под все более чувствительными ударами англичан, к которым присоединялись датчане, в 1642 году компания получила отказ Генеральных штатов продлить предоставленные ранее привилегии. С этого момента китовый промысел стал свободным занятием с центром в Амстердаме. Временные ассоциации, организуемые на один сезон, позволяли покрыть большие расходы на снаряжение флотилии: различные заинтересованные торговцы вносили свою долю в размере 1/4, 1/32, 1/64 от общих затрат, в зависимости от случая. Один из вкладчиков за определенную плату принимал на себя управление всем предприятием.
Длина китобойного вельбота составляла 30–40 метров. Самые большие достигали десяти метров в ширину и шести в высоту, из которых четыре находились под водой. Дубовая обшивка, обитая железом, усиливала массивный корпус и защищала его от ударов льдин. Около 1700 года такое судно с семью шлюпками стоило 25 тысяч флоринов. Снаряжение, помимо навигационных приборов, включало значительное количество оружия и рыболовных снастей – 450 бочонков; 60 линей в 125 саженей; просмоленные фалини, сделанные из 90 сплетенных веревок; гарпуны с рукоятями из дуба; пилы; топоры и различные виды ножей. Подготовка начиналась с осени. Экипаж насчитывал, в зависимости от размеров судна, от 50 до 90 человек. Вербовщик устраивался в портовом трактире и вывешивал флаг. В Сандаме традиционным местом сбора китобоев была таверна «Шпицберген». Найм осуществлялся по контракту, положение которого определяли как жалованье, так и поведение на борту. Матросы получали аванс от 100 до 150 флоринов, который тут же и пропивали. Остальная часть их заработка определялась долей от взятой добычи. Шхуны выходили в море в апреле. Курс брался на норд-норд-ост. С 60-го градуса широты приводили в готовность снаряжение, капитан формировал команды гарпунеров, копейщиков, раздельщиков. К 75-му преодолевались первые дрейфующие льды. Киты показывались между 77-м и 79-м градусами северной широты к югу от Шпицбергена. Техника китовой охоты не отличалась от описанной в XIX веке Г. Мелвиллом в романе «Моби Дик».
Глава XXX
Обработка земли
Пашни и луга
Опустошения, принесенные войной, в особенности разрушение плотин (в 1576 году 2/3 провинции Голландия были затоплены водой), способствовали до 1600 года упадку сельского хозяйства. Слабый подъем начался в начале XVII века вслед за повышением цен. Но в целом сельское хозяйство не внесло своей лепты в общее благоденствие. Только в южных районах Голландии и на некоторых зеландских островках выращивались во впечатляющих количествах зерновые или технические культуры, такие, как рапс и марена. {265} Почвы далеко не везде были пригодны для зерновых, урожайность которых страдала от архаических методов земледелия, оставаясь слишком низкой, чтобы рассчитывать на какие-либо запасы. К тому же города мало интересовались сельской экономикой и в больших объемах закупали зерно за границей, подрывая рентабельность собственной деревни. Большинство крестьян в первой половине века довольствовалось возделыванием огородов и выращиванием скота. Надо ли говорить, что голодные годы случались нередко.
Скотоводство давало больше доходов. Иностранцы восхищались изобилием и тучностью нидерландских стад. {266} Великолепные луга позволяли закупать весной тощий скот в Дании или Голштинии, чтобы, откормив, выгодно перепродать его осенью. Однако надои молока по сравнению с нынешними нормами были довольно низкими. {267} Кроме того, скотоводство, процветавшее на твердой почве Голландии, Зеландии и Фрисландии, сталкивалось с неимоверными трудностями на песчаных землях востока страны, где небольшая засуха, плохой сенокос могли привести к полному краху.
В 1621 году Дрента пережила опустошительный неурожай кормовых. От голода пало 2500 лошадей, 10 тысяч быков и коров, 50 тысяч овец. Половина возделываемых земель осталась без природных удобрений, что тяжело сказалось на урожае следующего года. Лишь после крупномасштабных работ по осушению болот, предпринятых в середине века, сельское хозяйство смогло преодолеть кризис.
Крестьянин пытался выжать из своего скота максимум дохода. Оставляя для себя сыворотку, в отсутствие официального контроля, он, не стесняясь, разбавлял «цельное» молоко, которое продавал в городе в розницу (по домам, на рынке) и оптовикам. Также не считалось зазорным жульничать на масле, добавив в него больше соли. С сыром, который раскупался лучше других сельскохозяйственных продуктов, таких уловок не проделывали. Из ферм он вывозился на центральные рынки, например в Алкмар, где его оптом скупали посредники. Париваль видел на рынке Хорна, как в муниципальную палату мер и весов на тысяче крестьянских телег везли более 150 тысяч фунтов сыра. {268} К середине века один Эдам ежегодно экспортировал 500 тонн головок сыра с красной корочкой.
Вне обычных рынков организовывались ярмарки, часть которых пользовалась правом приостанавливать преследование за долги до закрытия торгов. Особой славой пользовалась лошадиная ярмарка в Валкенбурге, проходившая в сентябре.
Дамбы и осушение земель
«Нидерланды, – заявил Темплу один голландский министр, – используют для содержания плотин столько людей, сколько могут накормить собственным хлебом». {269} В самом деле, жители этой страны на свой лад переиначили библейское изречение. «Господь создал мир, голландец – Голландию». Бóльшая часть территории самых богатых провинций, а именно Голландии и Зеландии, представляет собой лысую равнину, лежащую чуть ниже уровня моря. Такое положение подвергает эту землю не только опасности заболачивания, но и угрозе затопления внешними водами. Защищенные от моря на части побережья цепью высоких дюн, Голландия и Зеландия были вынуждены возвести еще в Средние века {270} искусственные преграды для защиты дельты больших рек, равно как и для запруживания последних. Поскольку диких вод, озер и болот по-прежнему оставалось более чем достаточно, сеть плотин оплела всю страну. {271} Их строительство продолжалось. Еще в 1682 году в Амстердаме, на южном берегу Эй, была насыпана дамба, которая должна была защищать от воды во время сильных приливов жилой квартал, насчитывавший две тысячи домов. Такие работы сопровождались постройкой шлюзов, вроде амстердамского, что перекрыл Амстел в 1674 году и запомнился интересными техническими решениями. Со стороны воды в ил уходит частокол из мощных, стянутых железными скобами брусьев, образуя водораздел. За ним возвышается собственно дамба – округлый земляной вал, покрытый дерном. Важно, чтобы материал обладал достаточной упругостью, чтобы выдержать неравномерное давление волн. Песок, удерживаемый корнями растений, вполне отвечал этому условию. В XVII веке был применен новый метод, состоявший в смешивании фукуса с землей. В зонах особого риска строилось несколько рядов дамб в глубину. Жители побережья Зёйдер-Зе укрепляли плотины в приливы и штормы, устилая их широкими морскими парусами.
Эти в сущности земляные валы, под защитой которых жила Голландия, не отличались большой надежностью – их беспрестанно размывало. Поэтому поддержание их в должном состоянии представляло собой одно из основных общественных дел. Межевые столбы, расположенные на дамбе через определенное расстояние, показывали границы участка, вверенного заботам жителей той или иной прибрежной деревушки. Работы координировала и контролировала специальная администрация во главе с центральным советом, председатель которого именовался дюкграфом.
Плотины образовывали линию обороны. Когда борьба с водой входила в решающую стадию, в бой вступали насосы, приводимые в действие мельницами, – техника, проверенная опытом еще с XV века. Их применяли в конце каждой зимы для удаления просочившихся вод, которые во многих районах Голландии регулярно покрывали земли с ноября по февраль. В течение этого времени страна выглядела, как огромная скатерть, залитая водой и подернутая рябью в ветреные дни, из которой островками проглядывали дома, холмы и дамбы. В 1638 году, когда ледоход прорвал эйссельскую плотину, вода, затопившая окрестности, была полностью собрана мельницами-насосами.
XVII век не знал катастрофы, сравнимой с цунами «Всех святых» 1570 года. {272} Происшествия же, подобные наводнению 1638 года, не были чем-то необыкновенным. Самое неприятное случилось 16 ноября 1650 года. На этот раз прорвались рейнские льды, разрушившие на своем пути несколько дамб. Эйссель вышел из берегов. Большинство крестьян было захвачено врасплох и не успело бежать.
Спасаясь от воды на крышах собственных домов и изнывая от голода, они остались живы лишь благодаря помощи, наспех организованной властями, которые направили в район бедствия флотилию из лодок. На побережье море время от времени размывало землю, к которой прилепились рыбацкие деревушки, как это случилось с Катвюком. На протяжении всей зимы 1650/51 года из-за непрекращавшихся проливных дождей из берегов выходили реки и каналы; накануне мартовского равноденствия на побережье Голландии обрушился свирепый северо-северо-западный ветер; 5 и 6 марта буря неведомой силы штурмовала плотины. Все с тревогой следили за этим поединком. Плотины выстояли. Но из-за бреши в сент-антуанской дамбе чуть не был затоплен весь Амстердам. Воду удалось остановить только тогда, когда она уже залила подвалы, и значительные запасы продовольствия были затоплены в подземных помещениях складов. {273}
Лишь с 1550 года стали предприниматься широкомасштабные действия по осушению стоячих вод по всей стране. {274} Несокрушимое движение, имевшее главным образом демографические корни, заставило Нидерланды пойти по этому пути. Причины финансового характера также сыграли в первой половине XVII века далеко не последнюю роль в этом процессе, открыв новые возможности для вложения капитала. Таким образом, количество ежегодно осушаемых гектаров земли продолжало расти, достигнув в 1640 году около 1800 гектаров. Усовершенствование мельниц-насосов позволило осушить значительные площади. С 1609 года использовались цепи мельниц, расположенных на разных уровнях и позволявших поднимать воду постепенно, обеспечивая экономию энергии и увеличивая эффективность работ.
Первый широкомасштабный проект был выдвинут в 1607 году Дирком Ван Оссом, членом директории Ост-Индской компании. Заручившись поддержкой ряда других амстердамских капиталистов и высокопоставленных служащих, он обратился в Генеральные штаты с просьбой предоставить ему право осушить Бемстерское озеро к северо-востоку от Амстердама. Он подкрепил свое предложение различными соображениями социального и сельскохозяйственного характера. В действительности это была первая спекуляция, с размахом проведенная мощной финансовой группой. Работы начались в 1608 году. Было построено сначала 16, затем 32 мельницы. Но они сливали воды на окрестные земли, вызывая недовольство местных крестьян, попытавшихся устроить саботаж на плотинах. Штаты были вынуждены вмешаться. Летом 1609 года отсос воды практически закончился. Но в 1610 году жестокая буря прорвала дамбу Ватерланда, и море затопило только что осушенное Бемстерское озеро. Часть организаторов вышла из дела. Летом 1612 года на открытие нового польдера – осушенного участка земли – прибыла правительственная делегация. {275}
В то время еще надеялись использовать дно озера, но вскоре было установлено, что его почва мало пригодна для земледелия. В 1632 году запахивалась только четверть Бемстера, пятая часть отводилась под луга, треть составляли пустоши; все остальное было покрыто садами и фруктовыми деревьями. {276} Характерный факт – в 1640 году на этой местности выросло 400 домов, из которых только половина принадлежала крестьянам. 52 были усадьбами богатых коммерсантов. В осушение земель обычно шли доходы от торговли. Рентабельность таких инвестиций оставалась, как правило, низкой, и после 1650 года особо крупные вложения в эту сферу больше не делались, несмотря на такие льготы, как освобождение от налогов на 30 лет и вечное наследственное владение осушенной землей.
С 1612 по 1640 год осушению подверглась большая часть озер провинции Голландия – Виренгервардское, Пурмерское, Вормерское, Хуговардское и Жермерское. Амстердамские власти за счет города осушили Дименское озеро, омывавшее город с юго-востока. В то же время земля была отвоевана у двух десятков болот. В целом было получено 45 тысяч гектаров полезной площади. Создается впечатление, что крестьяне, осваивавшие эти земли, вели образ жизни переселенцев.
Если верить источникам, осушение Бемстера явилось с технической точки зрения личным успехом инженера Лехватера. Современные историки, правда, высказывают на этот счет определенные сомнения, но Лехватер, видимо, умел себя подать с выгодной стороны. Его слава распространилась по всей Европе. К его советам прибегали в Бордо, Эмдене, Фрисландии, домах герцогов Эпернонских и Голштинских, и даже дворец самого штатгальтера открывал перед ним свои двери. Но Лехватер вынашивал еще более грандиозный план. Между Амстердамом и Лейденом раскинулось самое большое озеро в стране, получившее, однако, название Гарлемского. Его бурные опасные воды (в 1629 году один из сыновей короля Чехии нашел смерть в его волнах) сильно размывали берега. Полагают, что меньше чем за сто лет площадь озера выросла вдвое, достигнув 10 тысяч гектаров. Лехватер утверждал, что изучил природу дна и убедился в его плодородности. В течение долгих лет он улучшал свой проект, разрабатывал планы и карты. В 1641 году он представил доклад в Штаты провинции Голландия и бургомистрам заинтересованных городов. Возражения возникли немедленно, начались ожесточенные перепалки. В Амстердаме к проекту отнеслись благосклонно, но лейденцы наотрез отказались его утверждать под тем предлогом, что вся вода в город поступала из этого озера. Кроме того, противники проекта полагали, что осушение обойдется в 350 гульденов с гектара, что несравнимо меньше реальной стоимости земель, которые можно при этом получить. Они рассматривали общую сумму затрат, и их пугала цифра в 3,5 миллиона. И те и другие ссылались на технические трудности – для выполнения работ потребовалось 500 мельниц. Проект Лехватера канул в Лету. {277} Он оказался слишком грандиозным для технических средств XVII века.