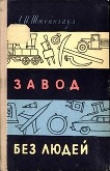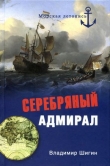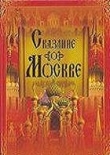Текст книги "Повседневная жизнь Голландии во времена Рембрандта"
Автор книги: Поль Зюмтор
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 25 страниц)
Хотя юридически гильдия хирургов принадлежала к разряду ремесленных, она отличалась от последних заменой посвящения в мастера сдачей экзамена. Доктора и опытные хирурги задавали кандидату теоретические вопросы по анатомии и ставили перед ним различные практические задачи – прижечь рану, изготовить бинты и скальпель, пустить кровь. {114} От судовых хирургов знаний требовалось меньше; для них считалось достаточным уметь врачевать болезни, свойственные простым морякам – огнестрельные ранения, контузии, ожоги, переломы, гангрены… Но упрощенный экзамен лишал судовых хирургов права на частную практику, навсегда привязывая к кораблям.
Другие, «домашние» хирурги устраивали приемную в одной из комнат собственного жилища. Здесь же хранились и инструменты (многие из них были изобретены в XVII веке). Они делались из железа, меди и кости – хирургические ножи, прямые и изогнутые, с зубчатым лезвием, иглы для кровопускания и щипцы для вырывания зубов. Помимо инструментов кабинет хирурга украшали различные атрибуты – череп, склянки и профессиональное свидетельство. В то же время операционный стол заменял простой табурет, а крепкого кулака лакея хватало, чтобы обездвижить больного в отсутствие наркоза.
Комедийные авторы не уставали насмехаться над этой профессией. Хирурги тяжело переносили привычку общества равнять их с цирюльниками. Университетов они не заканчивали, – ведь двух лет практического обучения было достаточно, – отличительной одежды, как медики, не носили. Тем не менее из их рядов выходили важные государственные деятели. Во многих городах приведенных к присяге хирургов приглашали на муниципальную службу. Они получали привилегию присутствовать в качестве контролеров на всех операциях, осуществляемых их приезжим коллегой.
В то время существовали и бродячие хирурги, отбившиеся от гильдии, на которых охотно взваливали надоедливую рутину или, напротив, рискованные, крайне болезненные операции, которые могли подпортить репутацию оседлого эскулапа-буржуа. Наконец, в гильдии хирургов случались и члены второго ряда, которые освобождались от уплаты взносов, но могли оперировать только в присутствии муниципального доктора. К этой категории относились окулисты, костоправы и извлекатели камней.
В начале века аптекари принадлежали к гильдии бакалейщиков. Впоследствии они были слиты с медиками. От этого пострадали их коммерческие привилегии – москательщики, оставшиеся в гильдии бакалейщиков, торговали некоторыми лекарствами, которые таким образом выходили из-под фармацевтического контроля. С другой стороны, аптекарей ненавидели медики, видевшие в них своих коварных конкурентов. Не только потому, что те и другие носили одинаковую одежду (черные балахон и плащ, шляпу с заостренным верхом и отложной воротник), но и в силу того, что в своих конторах под набитым соломой чучелом крокодила, служившим традиционной вывеской, аптекари тайком давали медицинские консультации. Соответствующие теоретические познания они получали еще при подготовке к экзамену для вступления в гильдию. Некоторые аптекари занимались научными исследованиями, как Якоб Ле Мор, преподававший в Лейденском университете химию и фармакологию. Впрочем, медики сумели настолько отравить ему существование, что он вынужден был сдать экзамены на степень доктора медицины, чтобы вернуть себе спокойную жизнь.
Со смертного одра на погост
Итак, болезнь или старость сделала свое дело. Мужчина или женщина готовится отойти в мир иной. Домашние сообщают об этом соседям, зовут священника. Духовный отец читает молитвы, которые повторяют за ним все присутствующие.
Когда с последним вздохом жизнь покидает тело, умершему закрывают глаза, набрасывают на лицо покрывало и задвигают полог его кровати. Приносятся первые соболезнования. Затем близкие омывают тело, одевают и кладут на постель, приподняв голову. Зеркала и картины повернуты к стене. Многочисленные местные обычаи определяют способ закрытия окон, предписывают обустройство комнаты – передней или одной из прилегающих, – где будет проходить бдение у гроба. Обычно из комнаты выносили всю обстановку кроме кровати. Сменявшие друг друга посетители прощались с покойным стоя. Если умерший – ребенок, его показывали малолетним приятелям, которых затем угощали сладким рисовым пюре (обычай, оставшийся от языческих времен). Тело выставлялось на несколько дней, до и после помещения в гроб. В Лейдене последнее обязательно должно было происходить в присутствии двух свидетелей, не принадлежавших к семье усопшего. Гроб покоился на козлах, ногами умершего к двери. Только самоубийц и преступников выносили головой вперед.
Раздается погребальный звон – ризничий бьет в колокол. Семья составляет или заказывает специальному писцу текст уведомления о кончине, которое затем отсылается кому следует:
«11 числа сего месяца, в пять часов утра, вечной и неизменной Мудрости нашего Всемогущего Создателя было угодно принять в свое вечное Царство, полное благословенной радости, душу моей дорогой супруги госпожи Н., которая оставила этот свет, юдоль скорбей, пробыв в постели 10 дней из-за тяжелой болезни, хотя, впрочем, несколько раз нас озарял луч надежды на улучшение ее состояния». {115}
Некоторые украшали сообщение, облекая его в форму стихов. Обычай письменных уведомлений, однако, не был общим правилом. Многие прибегали к услугам «общественных молельщиков» {116} – десяти специальных гонцов, создавших свою гильдию и носивших одежду, напоминающую облачение священников. Они передавали печальную новость «вживую». По числу молельщиков, нанятых семьей, судили о ее богатстве и благополучии.
В большинстве случаев похороны организовывали общества взаимопомощи, которые могли быть представлены либо ассоциациями гильдий, либо «соседскими общинами», существовавшими во многих местах. Их главной задачей было обеспечить каждому члену достойное погребение с многочисленным кортежем и добровольными носильщиками. Эти общества имели свою кассу, пополнявшуюся взносами; из кассы, если позволяли собранные средства, помимо церемонии похорон оплачивались и поминки.
В установленный час в доме умершего собиралась толпа провожающих. Священник читал несколько стихов из Библии. Крышку гроба заколачивали. Гроб покрывали черным сукном, украшенным гербом гильдии, к которой принадлежал покойник, или осыпали цветами, если усопший отошел в мир иной еще ребенком. Под звон церковного колокола шесть носильщиков поднимали гроб и ставили его на носилки. За ними в порядке, определяемом местным обычаем, выстраивался кортеж. Процессия двигалась в полном молчании. Все шли по двое, неторопливо, внешне не проявляя своих переживаний. «Слезы тихо катились по щекам», – отмечает Грослей. {117} Все были одеты в длинные черные плащи до пят, которые обычно брали напрокат.
Во время отпевания гроб покоился на катафалке. Богачи находили последний приют прямо в церкви. Уплатив сбор, их можно было захоронить в боковых часовенках. Часто состоятельные граждане заранее приобретали себе могилу, которую украшали своими гербами и девизами, вырезанными в камне или оттиснутыми на плите. Но в основном погребение проходило на кладбище, в центре которого стояла церковь. Могилу рыли таким образом, чтобы покойник лежал головой на восток. Траурный кортеж один или два раза обходил кладбище и наконец останавливался перед разверстой могилой. Когда гроб был уже опущен на дно ямы, все по очереди подходили посмотреть на умершего в последний раз, после чего расходились по домам, раздав чаевые носильщикам. Случалось, в память о покойном выбивали медаль с его именем или изображением, которую дарили всем, кто пришел с ним проститься.
Не меньше, чем свадьба, похороны увеличивали сплоченность семьи и способствовали росту престижа семейного клана. Похороны служили поводом для проявлений неуемной гордости, а у богатых – и приверженности к роскоши: полностью одетый в черное дом, гигантский кортеж, поток карет (к середине века стали делать похоронные дроги). Самым шиком считалась ночная тризна при свете факелов. Такие нравы шокировали благоразумных людей. Власти несколько раз предпринимали попытки пресечь подобную кичливость или хотя бы получить от нее прибыль. В 1661 году муниципалитет Амстердама запретил ночные погребения, но уже в следующем году вновь разрешил их за 150 гульденов. В Дордрехте к концу века налоги на похоронные катафалки достигли 125 гульденов за кортеж из шести карет с гербом покойного.
Возвратившись с кладбища домой, семья весь день принимала соболезнования. По случаю каждого такого визита полагалось выпить. Даже у бедняков за несколько часов могло перебывать тридцать, шестьдесят, сто человек – все население улицы или квартала. С каждым посетителем пропускали по две-три чарки. Купцам, бывшим поставщиками покойного, предлагали пиво с белым хлебом или рисовым пюре.
К вечеру горе тонуло в море поглощенной за день жидкости. С хозяевами оставались лишь близкие друзья, с которыми делили по возможности обильную трапезу, затем пели, а после – снова пили. Такие поминки, запрещенные церковью и государством, тем не менее оставались повсеместным обычаем вплоть до середины века и жили еще долгое время спустя в традициях северных районов. После 1650 года воздержание в еде компенсировалось обилием выпивки. Дом погружался в довольно грубую пьяную одурь. Чтобы избавить себя от присутствия такого числа выпивох, богачи одаривали носильщиков, соседей и мелких клиентов вместо кубков монетой, предлагая тем выпить за упокой души преставившегося в таверне.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Глава XV
Спорт и игры
Еще со времен раннего Средневековья любимым видом спорта для европейцев была охота. В XVII веке охота, казалось, утратила свое прежнее значение в общественной жизни Нидерландов. Феодальное право на лесные угодья было отменено. За лесами следил главный лесничий, охранявший дичь с помощью стражей. В частности, запрещалась охота на кроликов, {118} которую крестьяне вели тайком и отнюдь не ради спортивного интереса. Зимой в погребе оставляли несколько кочанов капусты и приоткрывали вентиляционное оконце; голодные кролики забирались в эту нехитрую ловушку и не могли выбраться назад. «Охотнику» достаточно было время от времени заглядывать в погреб и преспокойно убивать попавшихся зверьков.
Зато в прибрежных дюнах от Хелдера до Гааги охота на птиц велась безо всяких ограничений, что объясняет постоянное изображение пернатой дичи в натюрмортах художников того времени. Дюны, равно как и фризские островки и болотистые края Северной Голландии, представляли собой промежуточную остановку для перелетных птиц – цапель, бекасов, диких гусей и уток. Лейденские студенты устраивали зимой охотничьи походы. В другое время года не было недостатка в дроздах, куропатках и жаворонках. Вдоль озер и каналов Фрисландии гнездились стаи чибисов, ставшие одним из символов провинции.
Еще больше, чем охоту, голландцы любили рыбалку. Озера, реки и даже каналы буквально кишели рыбой. В прудах приморских провинций в обилии водились щуки, окуни, карпы и щиповки. Время от времени по рекам поднимался лосось; миграция угрей проходила через весь край.
В хорошее время года национальным спортом становилась прогулка. По воскресеньям и праздникам горожане высыпали на дорожки, тропинки и набережные каналов, спеша насладиться деревенским пейзажем или полюбоваться на морские волны. Всю Голландию, все классы, охватывала жажда зелени и свежего воздуха «так, что куда ни пойди, – пишет Париваль, – везде встретишь столько же людей, сколько в других местах бывает разве только на торжественных церемониях». {119}
Кто-то шел пешком. Большинство же предпочитало повозки, прозванные «игровыми», – что-то похожее на деревянную шайку устанавливалось на колеса и пускалось во весь опор по рытвинам и горбатым доскам мостов с грохотом и скрипом, заглушавшим голоса. Иностранцы плохо переносили неудобства этого вида передвижения; голландцы же сызмальства привыкли к ним, катаясь в своих детских «игровых повозках», запряженных козой или собакой. Неженкам более была по вкусу лодка. Они поднимались под парусом вверх по Амстелу, Вегту или Рейну, ходили из озер в каналы. Когда никуда не спешишь, лучше воспринимаешь красоту проплывающих мимо пейзажей и больше чувствуешь радость общения с приятной компанией. «К 1640 году, – рассказывает Сорбьер, – благородные дамы изобрели новое развлечение – прокатиться на судне из Гааги в Делфт или Лейден, переодевшись в мещанок и смешавшись с простонародьем, чтобы подслушать разговоры черни о власть предержащих. Поездка к тому же носила необычный характер приключения, поскольку проказницы ни разу не возвращались, не подцепив кавалера, чьи надежды на роман с легкодоступными дамами рассеивались по прибытии при виде карет, которые поджидали дам на пристани». {120}
Весной лейденская молодежь отправлялась в лес Зевенхёйзен за двадцать километров от города, где предавалась невинному удовольствию – разорять гнезда цапель; летом она предпочитала дюны Катанка, пробуя морепродукты в местных кабачках. Схевининген и его пляж привлекал жителей Гааги, с которой его соединяла отличная прямая и тенистая дорога всего в один лье. Менее выгодно расположенным амстердамцам приходилось преодолевать добрых два десятка километров к востоку или западу, чтобы добраться до радующей глаз зелени.
Прогулка начиналась рано утром. Завтракали частенько в придорожном трактире – сметана, вишни, клубника, пеклеванный хлеб, масло, сыр и печенье, залитые вином. Затем снова пускались в путь. Собирали цветы на лугах, играли, пели хором. В полдень устраивали пикник на природе, захватив с собой ящик с провизией, или делали вторую остановку в таверне. Находясь на берегу реки, непременно заказывали рыбу. Вечером, по возвращении, перед тем как разойтись, компания пировала еще. Перо Париваля становится удивительно нежным, когда он идиллически и пространно описывает эти «невинные удовольствия»: «Все прогулки заканчиваются в кабачках, которые поэтому встречаются на каждом шагу… Повсюду устроены зеленые беседки, куда не проникают лучи солнца; иногда попадаются деревья, остриженные с поразительным искусством, которые дарят прохладу или просто радуют глаз… Здесь скрываются машины, одни – чтобы подвешивать людей в воздухе, другие – чтобы вращать их, и третьи – чтобы управлять куклами наподобие марионеток… Слышен приглушенный рокот множества голосов, звучащих одновременно, как это бывает в присутственных местах, поскольку кабачки всегда полны людей. Эти удовольствия обходятся недорого, и их себе позволяют все, вплоть до самого бедного мастерового сословия…» {121}
Впрочем, случалось, что такие вечеринки заканчивались опасными играми. В некоторые праздники компании молодежи в двенадцать – пятнадцать человек с невероятным гвалтом направлялись в своих повозках в местный кабак. Орали от восторга, ели блины и накачивались можжевеловкой. Внезапно кто-нибудь из этих сорванцов выхватывал нож и, подбросив, с размаха втыкал в потолок. Другие кидались к нему, стремясь вытащить нож. Первый «игрок» не давал им это сделать. Из карманов вылетали другие ножи, начиналась свалка. Кровь заливала исполосованные лица. Единственным правилом этой игры было не резать по глазам. Когда зрители насыщались этим увлекательным зрелищем, они кричали: «Довольно! Довольно!» и назначали победителем показавшего наилучшую технику боя.
Зимним видом спорта было катание на коньках, столь часто изображаемое художниками. В это время года дела обычно шли медленнее, и у каждого оставалось больше свободного времени. В те дни и недели, когда озера и каналы стояли скованные льдом, никто не расставался с коньками. Молодежь и старики, мужчины и женщины, проповедники, бургомистры, принцы – буквально все жили на льду. Таким образом, в спортивном увлечении ежегодно устанавливалось народное единство на один сезон. Все предавались азарту борьбы, восхищались рекордами. Были и свои знаменитые чемпионы – Корнелий Цветок, Юдит Иоханнес, Мария Шолтус… Скользя на деревянных коньках с металлическим лезвием, загнутым у носа, в два раза длиннее ступни, люди катались либо в одиночку, заложив руки за спину, чуть наклонившись вперед, либо парами, сцепив крендельком руки, либо гуськом, положив руки на бедра впереди-скользящего, когда вся длинная цепочка тел на большой скорости, как одно целое, наклоняется то влево, то вправо. Ни шуб, ни меховых плащей. Все катались в обычной домашней одежде, под которой скрывались шерстяные поддевки. Зрелище от этого только выигрывало в колорите. В толпе катающихся раздавался перезвон колокольцев празднично убранных лошадей (головная даже была украшена плюмажем), которые тащили расписные деревянные сани. В креслах на полозьях везли малышей и стариков. Мальчишки скользили в санках, отталкиваясь палками; другие упражнялись, толкая перед собой стул. У края катка трактирщики разбивали палатки и зажигали огни. Здесь можно было пропустить стаканчик, погреть руки на огне и вновь вернуться на лед.
Ловкость нидерландцев в этом виде спорта доходила до того, что крестьяне, встав на коньки, бесстрашно перевозили корзины с яйцами. Частые несчастные случаи, жертвами которых по большей части становились дети, ничуть не охлаждали их пыл. Некоторые «фигуристы» отваживались и глубокой ночью летать на своих коньках по неосвещенным каналам. Благоразумные крестьяне катались, положив на плечо длинную пешню, чтобы та удержала их, если они ненароком провалятся в прорубь. При хорошем льде от Амстердама до Лейдена можно было домчаться на коньках за час с четвертью. Один девятнадцатилетний крестьянин хвастал, что делал 6 лье в час. Однажды почтенный отец семейства, спеша к своему заболевшему ребенку, за день одолел 40 лье. Проводились и состязания конькобежцев, самое значительное из которых – знаменитое «Кольцо одиннадцати городов» – в лучшие годы могло охватывать более двухсот километров. Так, в субботу 19 декабря 1676 года полдюжины конькобежцев покинули Зандам в четыре утра, пронеслись по каналам через Амстердам, Наарден и Мёйден и по замерзшему заливу Зёйдер-Зе направились к Моникендаму, Медемблику, а затем к Алкмару, откуда вернулись в Зандам в половине девятого вечера, совершив только одну остановку после полудня. В Гааге молодые дворяне организовывали гонки на санях по прилегающим к дворцу каналам. Иногда гонки проходили ночью при свете факелов и заканчивались балом.
В День святого Мартина в Амстердаме устраивали лодочные гонки по Амстелу. От четырехсот до пятисот шлюпок под парусом или на веслах соревновались в быстроте перед абсолютно бесстрастной огромной толпой, собравшейся на берегах.
Дух соперничества в таких состязаниях преобладал над желанием получить выигрыш. Побежденный оплачивал выпивку и был в расчете. Нидерландцы любили такие развлечения, при которых укреплялось тело и демонстрировались ловкость, сила и стойкость. {122}
Зимой на льду, летом на песчаных пляжах горожане и крестьяне «катали колеса» – соревновались, кто отправит дальше других некое подобие колеса легким движением кисти. Помимо этого существовало более пятнадцати вариаций игры в мяч. Наиболее популярной был kaatsen– «долгая лапта». Игра проходила на деревянной или булыжной дорожке, разделенной цветными полосами на несколько полей, на которых размещались две команды. Руководствуясь нехитрыми правилами, игроки перебрасывались мячом из очень прочной кожи. Популярность этой игры в течение века возросла настолько, что многие трактирщики пристраивали к своим заведениям крытые дорожки для долгой лапты, рядом с традиционными кегельбанами.
«Игра в пас» ( klosspel), прародительница крокета, хотя шар в ней бросали рукой, требовала большой физической силы. Существовали различные варианты этой игры. Согласно одному из них – «майлу», шар продвигали ударом молотка с рукоятью длиной с хорошую трость. В майл играли на очень широкой одноименной дорожке, в большинстве городов превосходно благоустроенной. «Клюшка» ( kolf), аналог современного хоккея, зимой проходила на льду, а летом – на ровной площадке. Ударом изогнутой клюшки нужно было посылать к колышку, являвшемуся целью, маленькие деревянные шарики. В «клюшку» играли все, от мала до велика, отдавая ей особое предпочтение. Если «майл» требовал от игроков силы, то «клюшка» всего лишь точности удара.
Городская милиция, образованная гильдиями (утратив прежнее значение, она превратилась в декоративный элемент городской жизни), поддерживала традицию средневековых воинских состязаний в стрельбе из лука. Обычно лучники демонстрировали свое искусство перед широкой публикой воскресным утром или в канун некоторых корпоративных праздников. Утром, когда начинались торжества, милиция парадным маршем, с барабанщиками впереди, пестря разноцветными мундирами ремесленников, вооруженных до зубов, и сверкая касками офицеров, проходила через весь город к площади, на которой устанавливался столб, увенчанный деревянной фигуркой птицы – «попугаем». Тот, кто с первой стрелы сбивал мишень, провозглашался «королем стрельбы». Ему надевали на голову символический убор и предоставляли право выбрать себе подружку на время праздника из числа самых красивых девушек города. В промежутке между церемониями такого рода стражи порядка тренировались в тирах ( doelen), нередко роскошно обставленных и превратившихся в центры развлечений буржуазии. В Гааге было два таких тира, считавшихся подсобными помещениями городской ратуши.
У каждого региона были свои традиции. В Фрисландии устраивались игры в кольца, в других местах – соревнования бегунов, конные состязания. На острове Терсхеллинг, служившем пристанищем котиков во время сезонных миграций, переодетые крестьяне смешивались с этими животными и участвовали в их веселой возне, чтобы, сойдя за «своих», потихоньку оттеснить их подальше от берега и схватить.
В большинстве народных развлечений проявлялась варварская жестокость по отношению к животным. Взять хотя бы «гусиную охоту». На веревке, натянутой горизонтально на определенной высоте, за лапки подвешивали живого гуся, шею которого смазывали жиром. Молодежь во весь опор проносилась в повозках или просто на своих двоих под веревкой и пыталась сорвать гуся, ухватив его за скользкую шею. Иногда веревку протягивали над каналом, и полуголые игроки проплывали под ней в лодке, стоя на корме. В случае промаха их ждала холодная ванна. В «подстриги птичку» нужно было с завязанными глазами отрезать ножом голову слепой утке или курице, подвешенной на веревке за лапы. В тавернах играли в «кота». Живого кота подвешивали в бочонке на веревке, натянутой меж двух столбов. Игроки платили взнос, который составлял приз победителя. По очереди они бросали в бочонок с обезумевшим от страха котом тяжелыми дубинами, от ударов которых трещали доски. Наконец тот рассыпался, и полуживой кот падал на землю. Но дубины продолжали падать на него градом, пока несчастный зверек не погибал… Эта отвратительная забава пользовалась такой популярностью, что к концу века ею развлекались люди из хорошего общества, заменив, правда, из эстетических соображений, кота на павлина.
Во всех этих играх принимали участие и дети, которые от такого времяпрепровождения явно не становились чувствительнее. Стаи подростков забавлялись ловлей бродячих собак, которых с соблюдением всех правил подвергали пытке на дыбе – наказанию, применявшемуся во флоте. Жертву подвешивали к столбу, а затем резко отпускали и вновь поднимали воротом, и так много раз подряд. Такие игры приходились по вкусу и детям из состоятельных семейств. Любвеобильные родители не жалели денег на игрушечные доспехи и арсеналы из картона, дерева и олова – сабли, пики, барабаны и трубы, но их ангелочки предпочитали арбалет и рогатку собственного изготовления, отличавшиеся большей эффективностью, о чем свидетельствуют нередкие несчастные случаи. В Брабанте малолетние команды вели потешные бои по всем правилам военной тактики, под треск барабанов, передвигаясь при этом на ходулях. В детских играх того времени находили свое отражение не только войны, но и политические кризисы. Во время событий 1619 года одним ясным утром жители Гааги стали свидетелями следующей картины – на Ворхауте толпа мальчишек расстреливала пять снеговиков, изображавших Олденбарнефельде и других вожаков арминиан, громко распевая при этом: «Арминианин – как зараза, дом его – для змей жилье, угостим его, мерзавца, перекладиной с петлей». {123}
В одном реестре, составленном на французском языке в конце столетия, представлен перечень детских игр, существовавших в Нидерландах: «В большой шар, в муху, в щелчки, в старый башмак, в биту, в трещотку, в бабки, в палочки, в квадратики, в чет-нечет, в орех, в разбитый горшок и в лошадку». {124}
Добавим к ним жмурки, мельницу, чехарду, волчок, лук и, наконец, шарики, в которые играли на кладбищенских могильных камнях, если не в самой церкви, поскольку уличная мостовая не была столь крепкой и ровной. Девочки водили хороводы и играли в куклы. Куклы делались всевозможных форм, из дерева, тряпочек, бумаги и даже из серебра, некоторых кукол одевали в традиционные костюмы разных провинций, и они могли открывать и закрывать глаза. Богач покупал своей дочурке кукольную чету с атрибутами из фарфора, меди, железа и серебра. Кукольные домики насчитывали от шести до восьми комнаток с обстановкой из дерева или ценных металлов. Игры менялись в зависимости от сезона. Весной девочки прыгали через скакалку, мальчишки – через ямы; осенью запускали летучих змеев. Сохранилось множество считалок и названий тех игр (часто нам уже неизвестных), для которых они служили. {125} В каждой провинции и на каждом островке водились свои игры, отличавшиеся и названием, и определенными деталями, но в целом все они походили одна на другую, поскольку основывались на детском фольклоре, общем для всей Европы.
Несмотря на церковные запреты, танцы пользовались народной любовью на протяжении всего века. Танцклассы и танцмейстеры процветали. Ни один общественный праздник или частная вечеринка не обходились без бала. В то время существовало два противостоящих друг другу танцевальных стиля. Один восходил к давним фольклорным традициям, другой опирался на подражание современной иностранной моде. В провинции мелкая городская буржуазия танцевала «топни ножкой», «шляпную плясовую», «семь прискоков», «Жако, отдохни», «башмак» и немало других произведений народных хореографов, иногда известных только в пределах определенного местечка. Аристократия же предпочитала менуэт, курант, скарамуш, гальярду, «красавицу новобрачную» ( la belle mariee), фарлан, альсид и «любезного победителя» ( l'aimable vainqueur), чьи французские имена сами говорят о своем происхождении. Но каким бы ни был стиль бала, он почти всегда заканчивался хороводом.