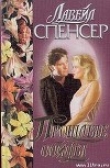Текст книги "Убийство Халланда"
Автор книги: Пиа Юль
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 9 страниц)
4
Всякий избегает присутствовать при рождении человека, и всякий торопится посмотреть на его смерть.
Монтень «Опыты»
В Редингской больнице явно не спешили соединить меня с дедушкой. Пока я ждала – меня без конца переключали с одного номера на другой, – я обдумывала, нельзя ли съездить в Англию и в тот же день вернуться, это не так уж и невозможно. Хотя Халланд умер, летать в Лондон, вероятно, не запрещается? Я попробовала представить себе дедушку. Ссохся ли он, как это бывает со стариками, в особенности больными? Появился ли у него в глазах дикий блеск, который я наблюдала у многих тяжелобольных незадолго перед смертью? Смогла бы я обнять его, узнал бы он меня, достало ли бы у него сил отругать меня или же он бы меня простил? Почему он захотел меня видеть? Потому что умирает. Но это ради меня или ради себя самого? Нет, у меня не хватит духу его навестить. Тут медсестра опять взяла трубку:
– Я спросила у Джулиана, он с тобой охотно поговорит. У нас есть телефон, который мы подкатим к его кровати. Сейчас я дам тебе номер, ты можешь позвонить ему через десять минут.
Я привстала, чтобы позвать Халланда, – и села в смущении, точно прилюдно совершила оплошность. Прикрыла веки. Я была подростком, когда моя двоюродная сестра выходила замуж. Я настолько была этим поглощена, я впитывала в себя все, тем более дедушкину речь. «Солнце да не зайдет во гневе вашем», [7]7
Слова апостола Павла. Полностью это место из Нового Завета звучит так: «Гневаясь не согрешайте; солнце да не зайдет во гневе вашем. И не давайте места диаволу». (Посл. к Ефес., 4: 26–27).
[Закрыть]– сказал он новобрачным. Мне казалось, это звучит до того красиво и правильно, и я решила, что так будет и у меня, когда однажды я выйду замуж. Но мою мать это привело в ярость: «Он мог по целым дням не разговаривать с мамой из-за какой-нибудь мелочи! Если его хоть что-нибудь не устраивало! Неудивительно, что она прежде времени отправилась на тот свет!» И вот уже десять лет как он от меня отвернулся. Я так и не поняла: это из-за Эбби или же он просто-напросто считал – разводиться нельзя. Несмотря ни на что. В детстве он ко мне относился чудесно. Теперь же оставлял без ответа письма, которые я ему посылала. Первые годы я садилась рядом с ним на семейных торжествах, а он подымался и уходил на другой конец зала. Без Эбби общение с родными почти сошло на нет, большинство предпочитали видеть Эбби, а не меня. Тем оно все и кончилось. Они избегали меня, а я избегала их.
Я сознательно старалась не думать о том, что мне ему сказать, потому что знала: тогда я вообще не смогу говорить с ним. Голос у него был вовсе не больной и не слабый, он произнес:
– Алло!
– Дедушка, это Бесс, – ответила я.
– Спасибо тебе, моя девочка.
– Мама передала, ты хотел со мной поговорить.
– Да. Хотя лучше всего было бы с тобой повидаться.
– Я бы тебя навестила, – сказала я, – но тут кое-что произошло… с Халландом… с моим мужем. Как ты себя чувствуешь?
– Неважно, моя девочка.
– У меня над постелью висит твоя фотография, – сказала я. – Где ты в соломенной шляпе и в шезлонге, помнишь? Я смотрю на нее каждый вечер.
– Я был глуп, моя девочка. – Он никогда так не говорил – «моя девочка», когда я была маленькой. – Просто все мы очень любим Эбби, наверно, потому так и вышло…
Голос у него все-таки был больной.
– Как же я рада тебя сейчас слышать, – сказала я.
– Я уже прапрадедушка! – сообщил он. – Тебе это известно?
– Да-да, я видела маленькую Софию!
– Ты знаешь… – он закряхтел, а может, пошевелился, – сколько человек присутствовало при родах?
Я знала. Сама роженица – дочь моей двоюродной сестры, ее муж, ее мать и ее сестра.
– Трое зрителей! – Он кашлянул. – А я лежу здесь! Вы все так далеко живете, это ни к черту не годится!
– Дедушка, когда я смогу отсюда вырваться, то приеду в Англию!
– Да-да, моя девочка, – сказал он. – Прощай.
Что-то брякнуло, как будто он уронил трубку. Я подождала – связь не прервалась, но больше ничего не воспоследовало, я расслышала только легкий шум и чьи-то шаги, видимо в коридоре. Тогда я положила трубку. Я не заплакала. Я поглядела на телефон. Поглядела в окно, на фьорд. Неужели это все?
Позвонить и рассказать Халланду! Этого я уже не могла. А вот и могла. Его мобильный – я же могла сделать так, чтоб он зазвонил, где-то же он лежит – в кустах, в машине, в кармане у незнакомца, человека со штуцером. Я набрала. Сигнала не было.
Теперь мне оставалось лишь дожидаться звонка Эбби. Можно было снова позвонить матери, но общаться с ней я была не в силах. Полиция, скорее всего, вернется, так они сказали. А Халланд… Я пошла в коридор проверить, там ли все еще его папка. Там, а пиджак висит на крючке. Почему он вышел без пиджака, без папки? Его большой бинокль лежал в гостиной на подоконнике, так что выманила его не птица. И не звонок в дверь, иначе бы я услышала. Я пошарила во всех карманах, хотя полиция проделала то же самое у меня на глазах. Пусто. Взяла папку, понесла ее наверх. Это были владения Халланда, я сюда заходила редко. Тут был его кабинет, рядом, как мы ее называли – каморка, где ночевали наши гости. А в торце – чердак с бельевыми веревками и старой рухлядью.
Само собой, я здесь бывала и раньше, и все же, толкнув дверь, почувствовала беспокойство. Хотя всего лишь хотела положить папку на место. Поеживаясь, выглянула из чердачного окошка. Какой у него на письменном столе порядок. Скрепленные зажимом квитанции, две шариковые ручки, календарь – и все.
Над столом висела фотография. Я на нее так часто смотрела, что перестала и замечать. Я сняла ее со стены и отерла рукавом пыль. Черно-белая, мы идем с ним вдвоем на премьеру фильма. Нас заснял газетный фотограф, мы не позировали, мы проходили мимо, и он поймал нас в кадр. Я прекрасно понимала, почему Халланд повесил у себя этот снимок, это был наш первый год вместе, мы были нерешительно – счастливы, это видно, а может, мне это стало видно сейчас. За время своей болезни Халланд совсем поседел, но здесь седина у него только еще пробивалась – длинная грива черная. Ястребиный нос, я обвела его указательным пальцем, крупный рот. Он смотрел на меня, он собирался мне что-то сказать. Его рот. Что именно мы тогда говорили друг другу? И вообще… Я не помнила наших разговоров, ни долгих, ни кратких, желали ли мы друг другу, проснувшись, доброго утра? Да. Мы говорили «доброе утро».
5
Той ночью в гостинице, когда я встала с постели и, закурив сигарету, стояла у окна, глядя через площадь на жилую квартиру, где горел свет и где какие-то люди занимались повседневными делами и еще не спали, я приняла решение, которое не смогла выполнить. Но принятие решения уже само по себе дает такое хорошее чувство, что этим можно жить, и порою долго, даже не приводя его в исполнение. Я отвернулась от окна, наброшенная для тепла куртка упала на пол. Не поднимая ее, я обошла на ощупь кровать и добралась до кресла, где лежала моя одежда. С улицы светил фонарь, освещая храпящее, тяжелое, голое тело, простертое наискось на кровати. Я оделась, подхватила куртку, сумку на ремне и крадучись вышла.
В ту ночь, десять лет назад, я его оставила – и в ту же самую ночь успела вернуться назад, и он меня не хватился. Я застала его в той же позе, он был мертвецки пьян.
На следующий день мы отправились к морю. Мы несколько часов бродили по берегу, лежали, подремывая, на песке, ели на открытом воздухе устриц, креветок и крабов, до отвала, запивая их прохладным вином, сумерничали на террасе, под плеск волн, изредка перекидываясь словами, пока наша тихая беседа совсем не замерла. Усевшись на заднее сиденье громыхающего автобуса, который повез нас назад в гостиницу, мы продолжали молчать, мы были не в состоянии разговаривать, под конец я положила голову ему на колени и беззвучно заплакала. Он погладил меня по волосам и сказал с непривычной для него нежностью: «Я знаю, отчего ты плачешь».
Это было так на него не похоже, эти ласковые слова, в числе прочего, побудили меня с ним не расставаться. Но уже тогда, полулежа на автобусном сиденье, я подумала, как всегда думала потом, вспоминая эту поездку: «Нет, Халланд, ты этого не знаешь». Ведь он не знал, что ночью я предприняла попытку вернуться домой, не знал, что я плакала оттого, что это не удалось, и знать не знал о том, что я плакала от тоски по моему ребенку. И все же нежность в его голосе подействовала на меня так благотворно, что я лелеяла это как чудесное воспоминание. Не будь между нами этих слов, я бы не могла утверждать, что встретила свою большую любовь. Между прочим, я не знала, что он имел в виду, говоря о причине моих слез. Я ни разу не спросила его прямо, я почти никогда ни о чем его прямо не спрашивала. И никогда уже больше между нами не возникало такой доверительности, как в тот вечер – в молчанье, в сумерках за ужином, в резком автобусном освещении, мой плач, его рука и нежность в его голосе.
6
Я думала, там написано «чакра». А было – «чарка». Всякий раз, принимаясь читать, я останавливалась в недоумении от своих неверных прочтений, а еще размышляла о непостижимости самого процесса: что именно делают мои глаза? чем занят мой мозг? С чтением у меня выходило то же, что и с велосипедом, который непременно начинал подо мной вихлять, стоило мне подумать о том, как мне, собственно, удается сохранить равновесие. А ведь я так любила читать. Чтение было моим всегдашним прибежищем: пусть это всего-навсего бутылочная этикетка – я должна была обязательно ее прочесть, перебить мысль, не сидеть неожиданно праздно в поезде, или за едой, или в перерыве между какими-нибудь делами. Перед сном я читала до последней секунды. Если, выключив лампу, я больше двух минут лежала не засыпая, я тут же ее включала. Не думать, не думать. Это была совершенно новая мысль, она пришла мне этим утром в сером свете у фьорда. На другой день после убийства Халланда. Я проспала на диване от силы час. Я попробовала смотреть фильм, попробовала найти какую-то книгу, кончилось тем, что я проглядела все до единого корешки в моем книжном собрании и так и не подыскала ничего подходящего, на это ушло час с лишним. Все эти книги, которые я купила заглавия ради и которые никогда не будут прочитаны за недостатком времени. The Far Islands and Other Cold Places. Travel Essays of a Victorian Lady. [10]10
«Далекие острова и иные холодные края. Путевые заметки викторианской леди» (англ.) – эссе о путешествиях на Аляску, в Канаду, Исландию, на Фарерские острова и в Норвегию американской художницы, журналистки и ботаника Элизабет Тейлор (1856–1932).
[Закрыть]Вот это надо будет прочесть. Я ждала звонка Эбби, но не будет же она звонить ночью. В итоге я выбрала одну книгу, да и то подходящей она была лишь по размеру, потому что умещалась в заднем кармане. Надела длинный свитер, накрыла голову шалью, сунула под мышку газету и вышла из дому. Пять утра, трава в саду мокрая. В беседке собачий холод и сыро, поэтому я спустилась по склону на берег. Солнце сегодня всходить и не думало, меня прохватывало до самых костей. На берегу я почувствовала у себя за спиной чье-то присутствие, до того остро, что даже не осмелилась обернуться. Кто это на меня смотрит? Мне вдруг стало трудно передвигать ноги, походка сделалась неуклюжей.
Постелив на купальный мостик газету, я уселась и взяла в руки книгу. Уже открывая ее, ощутила в себе настоятельную потребность читать, и нашла это трагикомическим, и отметила, что у меня дернулся уголок рта. Но – принялась за чтение. И прочла «чакра» вместо «чарка». Я поглядела на серую воду, которая начинала синеть, и поежилась. Тут я сообразила, что я на виду. Я и прежде усаживалась рано поутру с книгой на мостике, и чувствовала, что выгляжу вызывающе, но через минуту-другую забывала об этом, мне было все равно. Я же писательница, а Халланд всегда говорил, что писатели донельзя привилегированны. Чем нелепее они ведут себя, подчеркивая свою инаковость, тем больше радуется их окружение. Отчасти потому, что предубеждения против писателей подтвердились, отчасти потому, что появился повод для недовольства. Ибо когда человек ставит себя вне, поучал меня Халланд, это вызывает недовольство; сам он так не считал, но он знал, что на этот счет думают другие. Если ты показываешь на себя пальцем, ты напрашиваешься, чтобы все показывали на тебя пальцами. Однако вряд ли он мог вообразить себе ситуацию, подобную этой. Ну сколько их может увидеть ее сидящей на мостике в полшестого утра? Раз-два – и обчелся. Да, но если ее мужа накануне убили! И что?.. Не знаю, просто у меня было такое чувство, что это неправильно. Я была уверена: это может быть истолковано не в мою пользу. А все из-за книги. Скорбящая женщина вполне может сидеть рано поутру на купальном мостике – как само воплощение скорби. Но не с книгой же!
Я убрала ее в карман. Мостик поскрипывал, я сидела боком к берегу, уткнувшись подбородком в колени. Уголком глаза я уловила: ко мне кто-то приближается.
Одно время меня завораживала мысль – теперь она казалась смехотворной и жутковатой: что удушение – это ласка, выстрел же – холодность. Я хотела написать об этом новеллу, но так и не написала: как дошло до дела, я перестала понимать свое восхищение интимным убийством (аффект/удушение) в сравнении с преднамеренным, на расстоянии (холодность/выстрел). Убийство есть убийство. Вот о чем я думала, пока этот кто-то ко мне приближался: я представила себе, как две руки смыкаются у меня на шее и сдавливают ее, и на меня накатила тошнота, и тут мне почудилось, будто сверху кто-то целится в меня из ружья.
Я вскинула глаза, лишь когда он остановился рядом. Я его не знала.
– Доброе утро, – сказал он и прошел на край мостика, откуда вела лесенка в воду.
Я кивнула и что-то мыкнула. Он стал набивать трубку, разжег ее. Сладковатый дым пополз в мою сторону, окутал меня, а я все сидела. Похоже, солнце все-таки выйдет. Знай я этого человека или знай о нем хоть что-нибудь, например что у него вчера умерла жена, что бы я о нем подумала, видя, как он сидит тут ранним утром и курит трубку? Имело бы это какое-либо значение?
Он испустил глубокий вздох. Я поспешно поднялась.
– Как здесь красиво! – произнес он.
– Да, – отозвалась я и поглядела на фьорд, чтоб проверить.
Он сидел ко мне спиной. Я уже уходила, когда он что-то прибавил, повернувшись к нему, я расслышала только «Халланд».
– Что ты сказал? – переспросила я.
– Я искренне сожалею о Халланде, – ответил он, не оборачиваясь.
– Спасибо, – сказала я и быстро зашагала прочь.
Меня не интересовало, кто он и откуда он меня знает. Теперь спиной к нему была я. Наверху, на краю склона виднелась наша беседка, выкрашенная в белый, со смешным флюгерком на крыше. Где-то свистел черный дрозд. Я шла по тропинке в гору, это могло быть самое обычное утро, когда мне надо было встать, сварить кофе и разбудить Халланда. Всё напоминало такое утро. Подойдя к саду, я обернулась и посмотрела вниз. Тот человек все еще сидел на мостике: если он журналист, то не слишком рьяный. Над ним плавал трубочный дым, а еще я забыла свою газету, она прилипла к мокрым доскам. Фьорд отливал синевато-серым и местами посверкивал. Было полное ощущение, что горевать нечего.
7
Кристиан VI не держал любовниц и не вел войн.
«История Дании. Даты и события»
Настороженность ко всему новому. Нерешительное любопытство, которое я испытывала, сперва к Халланду, потом к дому, где нам предстояло жить вместе, к саду, – все было нашим, однако я медлила. Такой вот способ восприятия, не без оглядки. Закуковала кукушка – я даже вздрогнула. Кукушка должна куковать вдалеке, а не в саду на дереве. Я всякий раз думала: что же кукушка вещует? смерть… сколько осталось жить. И сейчас тоже подумала, правда с неким облегчением. Бо смерть здесь уже побывала. Или это она теперь кукует мне? Я боязливо прислушалась. Меня и тут не покидала нерешительная осторожность – к тому, что Халланд умер, и к тому, что будет дальше. Еще труднее было осознать, что Халланда застрелили. Я и не пробовала осознать это по-настоящему, скорее постаралась с себя стряхнуть. Похоже на страх, но мне не было страшно. Вдобавок ко всему умирал мой дедушка, я так по нему тосковала, только мне совсем расхотелось его видеть, и я больше ничего не чувствовала, ни горя, ни тоски. Надо ли мне отправляться в дальнюю поездку, чтобы подержать за руку человека, годами меня отвергавшего? Конечно надо. Но не хочется.
Я поднялась наверх, в кабинет Халланда. Постояв немного, села на его стул, закрыла глаза, принюхалась – ничем особенным не пахло, ну может, чуть-чуть пылью, чуть-чуть теплым деревом от письменного стола. Справа и слева под столешницей были тумбы с жалюзи, в обеих торчали ключи. Я повернула тот, что слева, жалюзи с грохотом упали. Ящики оказались почти пустыми. Несколько писем, несколько брошюр, несколько разрозненных фотографий: сад, вид на фьорд, я, на одной – его мать. А той, с теленочком, не было.
Тумба справа была набита бумагами, имеющими отношение к его фирме: налоговые декларации, старые путевые листы. Я в эти ящики никогда не лазила, но у меня не возникло чувства, будто я на чужой территории, я могла совершенно спокойно туда заглянуть. Там лежали два знакомых ключа, «Ruko» и обычный, только на бечевке. Он прикрепил к ним записочку: «дубликат». Я сразу же их узнала, они были похожи на те ключи, которые нашел в кармане у Халланда и показал мне Фундер. Повертев в руке, я положила их назад и подняла жалюзи. Встала – и села, отперев, выдвинула ящик и, вынув ключи, спрятала их в карман. Оставив тумбу открытой, я начала было спускаться вниз – и вернулась. Один за другим я выдвигала ящики и исследовала их содержимое, не зная хорошенько, что ищу. Клочок бумаги, где написано: это ключи от того-то и того-то. Такого клочка бумаги я не нашла.
– Прекрати! – сказала я себе. – Прекрати!
Я легла грудью на стол и, опустив голову на руки, долго сидела, вдыхая запах дерева.
Фундер дал мне свою визитку с номером, по которому я могла позвонить. Я почти ожидала, что полиция снова явится. Разве им не положено осмотреть вещи Халланда, расспросить о его образе жизни, проверить, кто я такая, проверить хоть что-нибудь? Человек со штуцером разгуливает на свободе и должен быть найден. Здесь они его, разумеется, не найдут. Я нашла какие-то ключи. Но полиция их уже обнаружила. Я не стала звонить.
Мне необходимо было чем-то заняться. Хотя бы прогуляться, купить еды. Когда я выходила, справа некто влетел в дом с таким шумом, как будто он вышиб дверь. Уж не от меня ли он прячется?
Светило солнце, было холодновато, на главной улице я увидела на рекламном щите неясное лицо Халланда. И надпись: КТО ЕГО ЗАСТРЕЛИЛ? Откуда они взяли эту фотографию? Возмутившись – это напоминало одну из будничных вспышек гнева, которым я была подвержена, – я хотела войти в магазинчик и спросить у них, что это значит. Разве Халланд не делал здесь покупки на протяжении многих лет, – они что, забыли приличия? Но поймут ли они слово «приличия»? Развернувшись на каблуках, я устремилась в противоположную сторону, отыскала тропинку, спускающуюся прямо к реке, и задышала уже ровнее. Мне еще рано показываться на люди. Что я себе думала? Ничего. Часть сознания простаивала, другая же – молола-перемалывала объяснения и строила мрачные догадки, но я не поддавалась. Нащупав в брючном кармане чужие ключи, я стиснула их и пошла бродить по маленьким улочкам. Сзади послышался шум машины, ВОТ, сейчас меня собьют – и что я при этом почувствую? Закричу ли я или же просто упаду? Однако ничего не произошло.
8
Пока я отпирала входную дверь, на крыльцо не замедлила выйти Ингер.
– Даже не знаю что сказать, – начала она.
– Н-да, – проговорила я, открыв.
– Он действительно умер?
– Так пишут газеты.
– Его действительно застрелили?
– Разве ты не слышала выстрела? – поинтересовалась я вяло.
– Слышала, как же, он меня и разбудил. Я сперва подумала, это Лассе, поздно вернулся домой. А кто стрелял? Им известно, кто стрелял?
Я не ответила.
– А как ты сама?
Я не ответила.
– Говорят, такое всегда случается у соседей, – продолжала она. – И верно ведь, но я и представить себе не могла, что у соседей такое может случиться, я вовсе не желаю, чтобы у соседей такое случалось. Мне прямо страшно становится. А тебе нет?
Она прекрасно знала что сказать, рот у нее не закрывался. Я перенесла вес на одну ногу и отставила бедро. Подростком я обычно стояла так, когда мне делалось скучно. Кажется, я не принимала этой позы с тех самых пор.
Признаться, Ингер мне нравилась. Только я в ней пока еще не разобралась.
– Я такая же, как и прежде. Внутренне. По утрам смотрю на себя в зеркало и думаю: нет, теперь я буду ложиться рано. Но ведь я рано ложилась и вчера, и позавчера. Просто-напросто я так выгляжу! Я удивляюсь каждое божье утро. Внутренне я чувствую себя молодой. Во всяком случае, прежней, а не той, которая так изменилась.
Я взглянула на нее. По-моему, старой она не выглядела. Я лично никак не чувствовала себя прежней – внутренне. Я совершенно не понимала, что она имеет в виду. Может быть, ей хотелось, чтобы я на этот счет высказалась. А я не могла.
– Где ты была?
– Ходила за продуктами, – ответила я, разглядывая свои руки.
– Ты голодная?
– Нет.
– Я поставлю тебе под дверь кастрюлю с ужином, вдруг ты все-таки проголодаешься.
Я вошла в дом. Без меня приходил почтальон, я подобрала с пола газету и письмо. Узнав почерк матери, разодрала конверт. Зазвонил телефон, я бросилась в спальню – и с разбегу налетела на кровать. Схватив трубку, потерла ушибленное колено. Я ожидала услышать голос Эбби. Это был журналист. Не отвечая, я выдернула шнур из розетки. Письмо у меня в руке скомкалось, в нем говорилось: «Дорогая Бесс! Она не хочет. Я рассказала ей, что ты звонила и что Халланд умер, но она не хочет. От чего он умер? Целую».Почему она не могла сказать это по телефону? Что это – письменное соболезнование?
Та жизнь, которой я жила вместе с Эбби и ее отцом, отнюдь не была ошибкой. Дни текли один за другим, тут были и радость, и секс, и смех, скука, однообразие, бешенство, ссоры по мелочам – и было чувство, что все это правильно. Мой муж получил освобождение от работы в гимназии и пошел на курсы, в тот год он подолгу отсутствовал, а я встретила Халланда. Не будь этой пятиминутной встречи в книжном, все сложилось бы иначе. Но так оно всегда: либо ты рассматриваешь случившееся как неизбежность, либо как нечто, что можно было бы переиграть или пропустить без внимания.
Мой муж переменился в тот самый миг, когда я сказала, что переезжаю. Он пришел в такую ярость, обнаружил такую непримиримость, каких я в нем никогда не подозревала. Сейчас мне ясно: я цеплялась за идею, что мой уход имеет некий смысл. К примеру, я наверняка стану лучше писать, если не буду жить обыкновенной семейной жизнью. Я оказалась не права. Но пока я не увидела Халланда мертвым на площади, мне и в голову не приходило, что я за что-то цеплялась. Теперь же меня буквально осаждал рой мыслей. В течение целого года мы с Халландом, не уговариваясь, не обсуждая, пытались придать смысл моему решению: мы прилагали усилия, мы путешествовали, устраивали праздники, летом каждое утро купались во фьорде, принимали гостей, сажали розы, я выкрасила в белый маленькую беседку, установили флюгер. А вот детей мы не завели. Их завел отец Эбби. Не успел пройти год, как у него родились близнецы. Так что путь назад был закрыт. Помню, я поймала себя на этом клише: назад пути нет. К тому же Эбби не хотела меня видеть. Но нам с Халландом было хорошо. Ну а потом он заболел.
И тут я обнаружила, что за этот год мы не узнали друг друга лучше; положение осложнилось еще и тем, что он изменился и ослабел. Хотя мы делили кров, и стол, и постель и жили бок о бок, я была по-прежнему застенчивой и стеснительной, словно мы только что познакомились. Все, что у меня было из личных вещей – гигиенические прокладки, косметику, крем, даже витамины, – я прятала вначале по ящикам и коробкам у себя в кабинете, из стыдливости. Я не особенно много ему о себе рассказывала; прежде чем открыть рот, я должна была взвесить свои слова. В моем воображении все звучало несообразно – и оставалось невысказанным. Нет! Не важно! – решала я про себя – и хранила молчание. И с восхищением думала: мы же понимаем друг друга без слов.
К личным же вещам Халланда я не очень присматривалась, их было так мало, они ни на что не притязали. Однако такая болезнь, как у него, занимала место. Не замечать ее нельзя было, но я все же делала что могла – как можно меньше о ней говорила. Как бы незаметно помогала ему. По крайней мере, верила, что помогаю. Однажды, преодолев себя, я спросила: «Тебе больно?» Он не ответил, отвернул голову. Я думаю, ему былобольно, но утверждать не берусь. Бедный Халланд. Я думаю, ему хотелось поближе узнать меня. Почему я не дала этому произойти?
Я вошла в гостиную, осмотрелась. Неужели она всегда выглядела такой чужой? Крышка пианино откинута, в подсвечниках свечи, их вставил Халланд. Он подарил мне инструмент после того, как мы сюда въехали, – я рассказывала ему, что, живя в родительском доме, играла на пианино. Я опробовала его в тот день, когда приходил настройщик, мои пальцы все еще помнили Golliwog's Cakewalk, [12]12
«Кукольный кэк-уок» (англ.) – часть сюиты для фортепьяно «Детский уголок» Клода Дебюсси, которую он посвятил своей маленькой дочке.
[Закрыть]первую половину, потом я споткнулась – и больше уже не прикасалась к клавишам, разве что вытирала с них пыль, что случалось редко. Мы на эту тему не говорили. Я принялась искать нотные тетради моего детства, я знала, они где-то лежат, и не сразу, но откопала-таки. Поставив коробку на журнальный столик, я порылась в нотах, открыла, попробовала сыграть. Дело подвигалось медленно, но ведь мне было не к спеху. Поднявшись, я с удовлетворением отметила, что прошел час с лишним.
Окно на улицу у меня было распахнуто. На площади стоял человек и, судя по всему, слушал. В другое время это меня смутило бы, но не сейчас. Я вдруг узнала в нем мужчину с купального мостика – что ему тут понадобилось? Я подошла к окну и демонстративно его закрыла, а он кивнул мне и направился дальше.